Человек
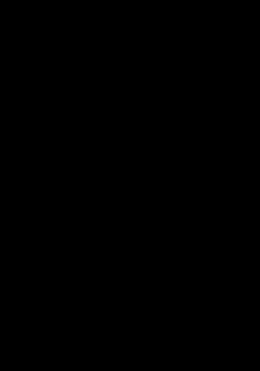
Предчувствие
"Лучше быть ангелом, чем Богом!" – отчетливо прозвучал голос говорящего из-за куста боярышника. Молодой человек и девушка, сидевшие рядом на низкой могильной плите, переглянулись. Они слышали голоса детей, но не вслушивались в их слова; их внимание привлек смысл фразы. Девушка прижала палец к губам, призывая к тишине, и мужчина молча кивнул; они замерли, словно мыши, пока двое детей продолжали свой разговор.
* * * * *
Сцена, способная восхитить сердце художника. Старинное кладбище. Приземистая церковь с квадратной колокольней и длинными окнами с каменными переплетами; желтовато-серый камень, тронутый временем и нежно расцвеченный лишайниками. Вокруг нее беспорядочно выстроились покосившиеся надгробия. За церковью темнела гряда узловатых, извилистых тисов.
Кладбище утопало в зелени прекрасных деревьев. С одной стороны возвышался величественный кедр, с другой – раскидистый меднолистный бук. Среди могильных плит и надгробий тут и там алели и благоухали многочисленные цветущие деревья, поднимаясь из высокой изумрудной травы. Золотистый ракитник искрился в июньском полуденном свете; сирень, боярышник и плотные заросли таволги, обрамлявшие берег неспешного ручья, сплетали свои густые ароматы в сонную благоуханную дымку. Желтовато-серые, осыпающиеся стены местами покрывались морщинистыми листьями костенца, а их венчали яркие гвоздики, сочные розетки молодила, неприхотливый очиток и дикие цветы, чье упоительное благоухание навевало дремотную негу совершенного лета.
Однако среди этого буйства красок особенно выделялись две молодые фигуры, расположившиеся на старой серой могильной плите. Мужчина был одет в традиционный охотничий костюм: красный сюртук, белый галстук, черная шляпа, белые бриджи и высокие сапоги. Девушка являла собой одно из самых пленительных, ярких и вместе с тем изысканных зрелищ, какое только мог встретить взгляд. Она была в амазонке из алого охотничьего сукна; ее черная шляпка кокетливо сдвинулась набок из-за пышной копны рыжевато-золотистых волос. Шею обвивал белый батистовый шарф, завязанный по-мужски, как охотничий галстук, плотно прилегая и скрываясь под золоченым жилетом из тончайшего белого твила. Когда она сидела, перекинув длинную юбку через левую руку, из-под нее виднелись ее крошечные черные ботинки. Ее перчатки с крагами были из белой оленьей кожи; ее хлыст для верховой езды был сплетен из белой кожи, с рукоятью из слоновой кости и золотой окольцовкой.
Уже в четырнадцать лет мисс Стивен Норман подавала надежды на поразительную красоту, красоту редкого сочетания. В ней словно проявились различные черты ее происхождения. Волевой подбородок, более широкий и квадратный, чем обычно у женщин, высокий изящный лоб и орлиный нос указывали на знатное происхождение от саксов через норманнов. Великолепная копна рыжих волос, истинно пламенного оттенка, говорила о крови другого древнего северного предка и прекрасно гармонировала с чувственными изгибами полных, алых губ. Насыщенно-черные глаза, воронёные брови и ресницы, а также изящный изгиб ноздрей напоминали о восточной крови дальней прародительницы, жены крестоносца. Она уже была высока для своего возраста, с той угловатостью, которая часто предшествует развитию поистине прекрасной фигуры. Длинноногая, длинношеяя, прямая как копье, с гордо поднятой головой, покоившейся на изящной шее, словно лилия на стебле.
Стивен Норман, несомненно, являла собой задатки великолепной женщины. Гордость, уверенность в себе и властность читались в каждой ее черте, в манере держаться и в любом, даже самом легком движении.
Ее спутник, Гарольд Ан Вульф, был примерно на пять лет старше и благодаря этой разнице в возрасте и определенным качествам уже долгое время занимал положение ее наставника. Он был выше шести футов двух дюймов ростом, с глубокой грудью, широкими плечами, узкими бедрами, длинными руками и большими кистями. Его отличала видимая сила, с гордо посаженной шеей и слегка выдвинутой вперед головой, что характерно для успешных атлетов.
Оба сидели тихо, прислушиваясь. Сквозь негромкое гудение полудня доносились голоса двух детей. За воротами кладбища, в тени раскидистого кедра, изредка били копытами лошади, которых донимали мухи. Конюхи были верхом; один держал под уздцы изящную белую арабскую кобылу, другой – большого вороного коня.
"Лучше быть ангелом, чем Богом!"
Маленькая девочка, произнесшая эту фразу, являла собой образцовый пример воспитанницы воскресной школы. Голубоглазая, с румяными щечками, крепкими ножками и прямыми каштановыми волосами, стянутыми в тугой пучок помятой вишневой лентой. Один взгляд на нее убедил бы самого скептически настроенного человека в ее доброте. Нисколько не самодовольная, она излучала довольство собой и своими поступками. Дитя простого народа; рано встающая; помощница матери; добрый ангел для отца; маленькая мать для своих братьев и сестер; чистая душой и телом; самостоятельная, полная веры и жизнерадостная.
Другая девочка была красивее, но отличалась более упрямым нравом; более страстная, менее организованная и бесконечно более напористая. Черноволосая, черноглазая, смуглая, с большим ртом и вздернутым носом – сама суть необузданной, импульсивной, эмоциональной и чувственной натуры. Наблюдательный взгляд отметил бы неизбежную опасность, подстерегающую ее в ранние годы женственности. Она казалась пораженной самоотречением, заключенным в словах ее подруги; после паузы она ответила:
– А вот и нет! – возразила Сьюзен. – Я бы предпочла быть на самой вершине и, если захочу, приказывать ангелам. Не понимаю, Марджори, почему тебе больше нравится подчиняться, чем повелевать.
– В том-то и дело, Сьюзен, – ответила Марджори. – Я не хочу приказывать, мне больше нравится подчиняться. Должно быть, ужасно тяжело постоянно обо всем думать и желать, чтобы все делалось по-твоему. К тому же, я бы не хотела быть справедливой!
– Почему бы нет? – в голосе Сьюзен звучала вызывающая нотка, хотя в нем чувствовалась и какая-то тоска.
– О, Сьюзен! Только представь, каково это – наказывать! Ведь справедливость требует не только похвалы, но и наказания. А ангел проводит такое чудесное время, помогая людям, утешая их и принося свет в темные места. Каждое утро роняя свежую росу, заставляя расти цветы, принося младенцев и заботясь о них, пока их не найдут матери. Конечно, Бог очень добрый, очень милый и очень милосердный, но, о, Он, должно быть, и очень грозный.
– И все равно, я бы предпочла быть Богом и иметь возможность все делать!
Затем дети отошли, и их голоса стали не слышны. Двое, сидевших на могильной плите, проводили их взглядом. Первой заговорила девушка:
– Это очень мило и добродушно со стороны Марджори; но знаешь, Гарольд, мне больше нравится идея Сьюзи.
– Какая именно идея, Стивен?
– Ну как же, ты разве не слышал, что она сказала: "Я бы хотела быть Богом и иметь возможность все делать"?
– Да, – сказал он, помедлив. – Как идея – неплохо, но вот принесет ли это счастье в итоге, не уверен.
– Ты правда так думаешь? Да что может быть лучше? Быть Богом – разве этого мало? Чего тебе еще не хватает?
Тон девушки был насмешливым, но ее большие черные глаза горели искренностью, скрытой за шуткой. Молодой человек покачал головой с улыбкой доброй снисходительности и ответил:
– Дело не в этом – неужели ты не понимаешь? Амбиций мне, слава богу, хватает; но даже для меня есть пределы. Однако я не уверен, что эта милая малышка не права. Она, кажется, интуитивно уловила более глубокую истину, чем осознавала: "только подумать, каково это – быть справедливым".
– Не вижу в этом особой сложности. Каждый может быть справедливым!
– Прошу прощения, – ответил он, – но, пожалуй, нет ничего труднее во всем спектре мужской деятельности.
В глазах девушки вспыхнул вызов, когда она спросила:
– Мужской деятельности! Почему именно мужской? Разве это не женское дело тоже?
– Ну, теоретически, полагаю, должно быть; практически же это не так.
– И почему же, позвольте спросить? – Сама мысль о какой-либо неполноценности женщины как таковой вызывала у нее мгновенное сопротивление. Ее спутник подавил улыбку и неторопливо ответил:
– Потому, моя дорогая Стивен, что Всевышний предназначил, чтобы справедливость не была добродетелью, доступной женщинам. Заметь, я не говорю, что женщины несправедливы. Вовсе нет; когда дело не касается интересов их близких, они могут проявлять такую искреннюю справедливость, от которой у мужчины кровь стынет в жилах. Но справедливость в абстракции – это не обычная добродетель: она должна быть не только строгой, но и рассудительной, а главное – беспристрастной ко всем интересам и ко всем без исключения…
– Совершенно с вами не согласна! – горячо перебила девушка. – Вы не сможете привести ни одного примера, где женщины несправедливы. Я, конечно, не имею в виду отдельные случаи, а целые категории дел, где несправедливость является обычным явлением.
Подавленная улыбка невольно скользнула по губам мужчины, что чрезвычайно раздражало девушку.
– Я приведу вам пример, – сказал он. – Вы когда-нибудь знали мать, которая была бы справедлива к мальчику, побившего ее собственного сына в школе?
Девушка тихо ответила:
– Жестокое обращение и травля – это повод для наказания, а не для справедливости.
– О, я не это имею в виду. Я говорю о получении наград, на которые претендовали их собственные сыновья; о том, чтобы быть лучше всех в классе; демонстрировать превосходство в беге, крикете, плавании или в любых других состязаниях, где мальчики соперничают друг с другом.
Девушка задумалась, затем произнесла:
– Что ж, возможно, вы правы. Я не совсем с этим согласна, но признаю, что этот аргумент не в мою пользу. Однако это всего лишь один случай.
– Довольно распространенный. Как вы думаете, шериф Голуэя, который за неимением палача собственноручно повесил своего сына, поступил бы так, если бы был женщиной?
Девушка ответила немедленно:
– Честно говоря, нет. Не думаю, что на свете найдется мать, способная на такое. Но это ведь не самый распространенный случай, правда? У вас есть еще что-нибудь?
Молодой человек помолчал, прежде чем ответить:
– Есть еще один, но я не уверен, что смогу честно обсудить его с вами.
– Почему же?
– Ну, потому что, в конце концов, Стивен, вы всего лишь девушка, и от вас нельзя ожидать понимания таких вещей.
Девушка рассмеялась:
– Ну, если это что-то о женщинах, то уж девушка, даже в моем нежном возрасте, должна знать об этом больше или хотя бы догадываться лучше, чем любой молодой человек. Однако говорите, что думаете, а я честно скажу, согласна ли – то есть, если женщина вообще способна быть справедливой в таком вопросе.
– Короче говоря, вот в чем суть: может ли женщина быть справедливой к другой женщине или, если уж на то пошло, к мужчине, когда замешаны ее собственные чувства или вина другого человека?
– Не вижу никаких причин для обратного. Уж конечно, одна лишь гордость должна обеспечить справедливость в первом случае, а сознание собственного превосходства – во втором.
Молодой человек покачал головой:
– Гордость и сознание превосходства! Разве это не одно и то же? Но как бы то ни было, если приходится полагаться на одно из них, боюсь, весам Справедливости понадобится регулировка, а ее меч следует затупить на всякий случай, чтобы его лезвие не обернулось против нее самой. У меня есть ощущение, что хотя гордость и может быть вашим личным руководящим принципом, для большинства она окажется несостоятельной. Впрочем, поскольку в любом случае это правило будет иметь множество исключений, я вынужден от него отказаться.
Гарольд взглянул на часы и поднялся. Стивен последовала за ним; переложив хлыст в руку, поддерживавшую юбку, она взяла его под руку правой рукой с той милой доверчивостью, с какой юная девушка льнет к старшим. Вместе они вышли за церковные ворота. Конюх подогнал лошадей. Стивен похлопала свою кобылу и дала ей кусочек сахара. Затем, поставив ногу на подставленную руку Гарольда, она легко вскочила в седло. Гарольд с ловкостью опытного всадника взмахнул ногой и очутился в своем седле.
Когда они ехали по дороге, держась тенистой стороны под деревьями, Стивен тихо произнесла, словно про себя, будто эта фраза глубоко врезалась ей в память:
– Быть Богом и иметь возможность все делать!
Гарольд ехал молча. Его охватил леденящий душу смутный страх.
Глава 1. Стивен
Стивен Норман из Норманстенда оставался холостяком почти до среднего возраста, когда его внезапно осенило, что у его обширного поместья нет прямого наследника. После чего он со свойственной ему решительностью принялся за поиски жены.
Он был близким другом своего ближайшего соседа, сквайра Роули, еще со студенческих времен. Они, конечно, часто бывали друг у друга в гостях, и юная сестра Роули – почти на поколение младше его самого и единственный ребенок от второго брака его отца – была ему как младшая сестра. За двадцать минувших лет она превратилась в милую и красивую молодую женщину. Все эти годы, несмотря на постоянную возможность близкого общения, которую давала дружба, его чувства к ней оставались неизменными. Сквайр Норман был бы удивлен, если бы его попросили описать Маргарет Роули, и он обнаружил бы, что вынужден представить образ женщины, а не ребенка.
Теперь же, когда его мысли обратились к женщинам и женитьбе, он осознал, что Маргарет вполне попадает в категорию тех, кого он искал. Его обычная решительность взяла свое. Полубратские чувства уступили место более сильному и, возможно, более эгоистичному чувству. Прежде чем он успел осознать это, он был по уши влюблен в свою милую соседку.
Норман был видным мужчиной, крепким и красивым; его сорок лет были ему так к лицу, что его возраст, казалось, никогда не приходил женщинам в голову. Маргарет всегда любила и доверяла ему; он был старшим братом, которому не нужно было ее отчитывать. Его присутствие всегда было радостью; и сердце девушки, сначала неосознанно, затем вполне сознательно, ответило на ухаживания мужчины, и вскоре было получено ее согласие.
Когда в положенный срок стало известно об ожидании наследника, сквайр Норман само собой разумеющимся считал, что родится мальчик, и настолько упорно держался этой мысли, что его глубоко любившая жена, однажды попытавшись предостеречь его от чрезмерно пылкой надежды, перестала уговаривать и возражать. Она видела, как горько он разочаруется, если родится девочка. Однако он был настолько убежден в своей правоте, что она решила больше ничего не говорить. В конце концов, это мог быть и мальчик; шансы были равны. Сквайр никого не слушал; поэтому со временем его уверенность становилась все крепче. Все его приготовления основывались на том, что у него будет сын. Имя, конечно, было решено заранее. Стивен – так звали всех сквайров Норманстенда испокон веков, насколько простирались записи; и Стивен, разумеется, будет новым наследником.
Как и все мужчины средних лет, женившиеся на молодых женщинах, он испытывал сильнейшее беспокойство по мере приближения срока. Со временем, в своем волнении за жену, его вера в рождение сына постепенно отошла на второй план.
Более того, мысль о сыне настолько глубоко укоренилась в его сознании, что не была поколеблена даже тревогой за молодую жену, которую он боготворил.
Когда вместо сына родилась дочь, доктор и медсестра, знавшие его взгляды на этот счет, некоторое время скрывали от матери известие о поле ребенка. Дама Норман была так слаба, что доктор опасался, как бы беспокойство о том, как муж перенесет разочарование, не навредило ей. Поэтому доктор разыскал сквайра в его кабинете и решительно приступил к делу.
– Что ж, сквайр, поздравляю вас с рождением ребенка! – Норман, конечно, был поражен словом "ребенок"; но причина его тревоги проявилась в его первом вопросе:
– Как она, доктор? С ней все в порядке? – Ребенок, в конце концов, был второстепенным! Доктор вздохнул свободнее; этот вопрос облегчил его задачу. Поэтому в его голосе было больше уверенности, когда он ответил:
– Она благополучно пережила худшее, но я все еще очень беспокоюсь. Она очень слаба. Боюсь всего, что может ее расстроить.
Голос сквайра прозвучал быстро и твердо:
– Никаких расстройств быть не должно! А теперь скажите мне о моем сыне? – Последнее слово он произнес наполовину с гордостью, наполовину с застенчивостью.
– Ваш сын – это дочь!
Наступило такое долгое молчание, что доктор начал беспокоиться. Сквайр Норман сидел совершенно неподвижно; его правая рука, лежавшая на письменном столе перед ним, сжалась так сильно, что костяшки пальцев побелели, а вены покраснели. После долгого медленного вздоха он произнес:
– Она, моя дочь, здорова?
Доктор ответил с бодрой готовностью:
– Великолепно! Я никогда в жизни не видел ребенка прекраснее. Она будет вам утешением и гордостью!
Сквайр снова заговорил:
– Что думает ее мать? Полагаю, она очень гордится ею?
– Она еще не знает, что это девочка. Я подумал, что лучше не говорить ей, пока не поговорю с вами.
– Почему?
– Потому что… потому что… Норман, старый друг, ты же знаешь почему! Потому что ты так сильно желал сына; и я знаю, как огорчит эту милую молодую жену и мать твое разочарование. Я хочу, чтобы именно твои уста первыми сообщили ей эту новость; чтобы ты мог заверить ее в своей радости от рождения дочери.
Сквайр протянул свою большую руку и положил ее на плечо доктора. В его голосе почти прозвучала дрожь, когда он сказал:
– Спасибо тебе, мой старый друг, мой верный друг, за твою заботу. Когда я смогу ее увидеть?
– По правилам, еще нет. Но, зная твои взгляды, она может начать волноваться, пока не узнает, поэтому, думаю, тебе лучше пойти сейчас же.
Вся любовь и сила Нормана объединились для этой задачи. Когда он наклонился и поцеловал свою молодую жену, в его голосе звучала искренняя теплота, когда он произнес:
– Где моя дорогая дочь? Позволь мне взять ее на руки.
На мгновение сердце матери похолодело от того, что ее надежды так и не сбылись; но затем пришла радостная реакция на то, что ее муж, отец ее ребенка, доволен. Нежный румянец заиграл на ее бледном лице, когда она притянула голову мужа и поцеловала его.
– О, мой дорогой, – прошептала она, – я так счастлива, что ты рад!
Медсестра осторожно взяла руку матери и приложила ее к младенцу, которого она положила в руки отцу.
Он держал руку жены, целуя лобик дочери.
Доктор легонько коснулся его руки и жестом позвал за собой. Он ушел осторожными шагами, оглядываясь на ходу.
После обеда он беседовал с доктором на разные темы; но вскоре спросил:
– Полагаю, доктор, нет такого правила, что пол первого ребенка определяет пол остальных детей в семье?
– Нет, конечно, нет. Иначе как бы мы видели мальчиков и девочек в одной семье, как это почти всегда бывает. Но, мой друг, – продолжил доктор, – вы не должны строить столь далеких надежд. Я должен сказать вам, что ваша жена далеко не сильна. Даже сейчас она не так здорова, как мне бы хотелось, и еще могут быть перемены.
Сквайр стремительно вскочил на ноги и быстро заговорил:
– Тогда чего же мы ждем? Разве ничего нельзя сделать? Давайте обратимся за лучшей помощью, за лучшим советом в мире!
Доктор поднял руку:
– Пока ничего нельзя сделать. У меня лишь опасения.
– Тогда давайте будем готовы на случай, если ваши опасения оправдаются! Кто лучшие специалисты в Лондоне, способные помочь в таком деле?
Доктор назвал два имени; и через несколько минут конный гонец уже скакал в Норчестер, ближайший телеграфный центр. Гонцу было поручено организовать специальный поезд, если понадобится. Вскоре после этого доктор снова пошел к своей пациентке. После долгого отсутствия он вернулся бледный и взволнованный. Норман почувствовал, как у него упало сердце, когда он увидел его; стон вырвался из его груди, когда доктор произнес:
– Ей гораздо хуже! Я очень боюсь, что она может скончаться до утра!
Сильный голос сквайра был словно затуманен хриплой пеленой, когда он спросил:
– Могу я ее увидеть?
– Еще нет; сейчас она спит. Она может проснуться окрепшей; в этом случае вы сможете ее увидеть. Но если нет…
– Если нет? – голос был не его.
– Тогда я немедленно позову вас!
Доктор вернулся к своему дежурству. Сквайр, оставшись один, упал на колени, закрыв лицо руками; его широкие плечи содрогались от силы горя.
Прошел час или больше, прежде чем он услышал торопливые шаги. Он бросился к двери:
– Ну?
– Вам лучше пойти сейчас.
– Ей лучше?
– Увы! Нет. Боюсь, ее минуты сочтены. Возьмите себя в руки, мой дорогой старый друг! Бог поможет вам в этот горький час. Все, что вы сейчас можете сделать, – это сделать ее последние мгновения счастливыми.
– Знаю! Знаю! – ответил он таким спокойным голосом, что его спутник удивился.
Когда они вошли в комнату, Маргарет дремала. Когда она открыла глаза и увидела рядом с кроватью мужа, ее лицо озарилось радостной улыбкой; которая, увы, вскоре сменилась страдальческим выражением. Она жестом попросила его наклониться. Он опустился на колени и положил голову рядом с ней на подушку; его руки нежно обняли ее, словно своей железной преданностью и силой он хотел оградить ее от всякого зла. Ее голос звучал очень тихо и прерывисто; она собирала все силы, чтобы говорить:
– Мой дорогой, любимый муж, мне так грустно покидать тебя! Ты сделал меня такой счастливой, и я так тебя люблю! Прости меня, милый, за боль, которую ты испытаешь, когда меня не станет! И о, Стивен, я знаю, ты будешь беречь нашу малышку – нашу с тобой – когда меня не станет. У нее не будет матери; тебе придется быть и отцом, и матерью.
– Я буду хранить ее в самом сердце, моя дорогая, как храню тебя! – Он едва мог говорить от волнения. Она продолжила:
– И о, мой милый, ты не будешь горевать, что она не сын, который продолжит твое имя? – И тут ее глаза внезапно озарились светом; и в ее слабом голосе прозвучала ликующая нотка, когда она произнесла: – Она будет нашей единственной; пусть же она будет нашим сыном! Назови ее именем, которое мы оба любим!
В ответ он поднялся и очень, очень нежно положил руку на младенца, говоря:
– Это дорогое дитя, моя милая жена, которая понесет твою душу в своем сердце, будет моим сыном; единственным сыном, который у меня когда-либо будет. Всю свою жизнь, с Божьей помощью, я буду любить ее – нашу маленькую Стивен – так же, как мы с тобой любим друг друга!
Она положила свою руку на его, так что она коснулась одновременно и мужа, и ребенка. Затем она подняла другую слабую руку, обвила ею его шею, и их губы встретились. В этом последнем поцелуе ушла ее душа.
Глава 2. Сердце ребенка
Несколько недель после смерти жены сквайр Норман был безутешен в своем горе. Однако он предпринял мужественную попытку продолжать привычный образ жизни и преуспел в этом настолько, что внешне казался смирившимся со своей утратой. Но внутри царила пустота.
Маленькая Стивен обладала очаровательными манерами, которые глубоко проникли в сердце ее отца. Этот маленький комочек нервов, которого отец брал на руки, должно быть, всеми своими чувствами осознавал, что во всем, что он видел, слышал и осязал, не было ничего, кроме любви, помощи и защиты. Постепенно доверие сменилось ожиданием. Если по какой-либо случайности отец задерживался и не приходил в детскую вовремя, ребенок начинал проявлять нетерпение и бросал на дверь долгие, тоскующие взгляды. Когда же он появлялся, все вокруг наполнялось радостью.
Время шло своим чередом, и Норман осознавал это лишь по тому, как росла его дочь. Весна и осень, бесчисленные циклы природного обновления были для него настолько обыденными и привычными за долгие годы, что не вызывали никаких сравнительных впечатлений. Но его ребенок был единственным и неповторимым. Любое изменение в нем было не только новым опытом само по себе, но и сопоставляло настоящее с прошлым. Перемены, начавшие обозначать половые различия, стали для него настоящими потрясениями, потому что были неожиданными. В самой ранней младенческой поре одежда не имела особого значения; для его мужского взгляда пол терялся в детстве. Но мало-помалу появлялись крошечные изменения, установленные условностями. И с каждой такой переменой к сквайру Норману приходило все более глубокое осознание того, что его ребенок – женщина. Крошечная женщина, правда, требующая больше заботы, защиты и преданности, чем большая; но все же женщина. Милые маленькие повадки, нежные ласки, цепляния и держания детских ручек, лукавые улыбки, пыхтения и заигрывания были лишь уменьшенными повторениями давних ухаживаний. В конце концов, отец читает ту же книгу, в которой любовник нашел свои знания.
Поначалу, сквозь всю его любовь к дочери, чувствовалось некоторое неприятие ее пола. Его давняя надежда на сына слишком глубоко укоренилась, чтобы легко уступить место новому. Но когда пришло убеждение, а вместе с ним и привычка признавать это, наступило и некое смирение, которое является промежуточной ступенью к удовлетворению. Но он никогда, ни тогда, ни потом, до конца не утратил прежней веры в то, что Стивен – действительно сын. Если бы когда-либо возникло сомнение, воспоминание о глазах жены, о ее слабом голосе, о ее надежде и вере, когда она вкладывала младенца в его руки, не позволило бы ему укорениться. Эта вера окрасила всю его дальнейшую жизнь и сформировала его подход к воспитанию дочери. Если она должна была быть и его сыном, и его дочерью, она с самого начала должна была привыкнуть как к мальчишеским, так и к девичьим занятиям. Поскольку она была единственным ребенком, это было несложно осуществить. Будь у нее братья и сестры, вопросы, касающиеся ее пола, вскоре пришли бы к своему естественному уровню.
Однако нашелся человек, который решительно возражал против любого отклонения от общепринятых правил женского воспитания. Это была мисс Летиция Роули, которая со временем заняла место матери ребенка, насколько такое место вообще могло быть занято. Летиция Роули была молодой тетушкой сквайра Роули из Норвуда; младшей сестрой его отца и лет на шестнадцать старше его самого. Когда умерла вторая жена старого сквайра, Летиция, к тому времени признанная старой девой тридцати шести лет, взяла под свою опеку юную Маргарет. Когда Маргарет вышла замуж за сквайра Нормана, мисс Роули была вполне довольна; она знала Стивена Нормана всю свою жизнь. Хотя она и желала бы для своей любимицы жениха помоложе, она понимала, что трудно найти человека лучше или более подходящего по положению в обществе. К тому же она знала, что Маргарет любит его, а женщина, так и не познавшая счастья взаимной любви в своей жизни, находила удовольствие в романтике истинной любви, даже когда поклонник был человеком средних лет. Она путешествовала по Дальнему Востоку, когда до нее дошло запоздалое известие о смерти Маргарет. Вернувшись домой, она объявила о своем намерении заботиться о ребенке Маргарет так же, как заботилась о самой Маргарет. По нескольким причинам это нельзя было сделать таким же образом. Она была недостаточно стара, чтобы переехать жить в Норманстенд, не вызвав пересудов; а сквайр категорически отказался позволить своей дочери жить где-либо, кроме его собственного дома. Педагогический надзор, осуществляемый на таком расстоянии и так нерегулярно, не мог быть ни полным, ни точным.
Хотя Стивен была милым ребенком, она отличалась своенравием и очень рано проявила властный характер. Это доставляло тайное удовольствие ее отцу, который, никогда не забывая своей прежней идеи о том, что она и сын, и дочь, испытывал радость и гордость при каждом проявлении ее повелительной воли. Острый инстинкт детства, который рассуждает по-женски, а потому вдвойне эффективен в девочке, рано постиг возможности ее собственной воли. Она изучила длину шага своей няни, а затем и отца; и таким образом, зная границы возможного в достижении своих желаний, она сразу избегала неприятностей и научилась максимально использовать пространство в пределах своей досягаемости.
Не те, кто "просит луну с неба", продвигаются дальше или получают больше в нашем ограниченном мире. Милые манеры Стивен и неизменное хорошее настроение были постоянной радостью для ее отца; и когда он обнаружил, что, как правило, ее желания разумны, его желание уступать им стало привычкой.
Мисс Роули редко находила что-то конкретное, что можно было бы осудить. Именно она выбирала гувернанток и время от времени справлялась об успехах ребенка. Жалоб почти не было, потому что малышка обладала такой милой манерой проявлять привязанность и таким явным чувством оправданного доверия ко всем, кого встречала, что трудно было назвать какой-либо конкретный недостаток.
Но хотя все расставания сопровождались слезами искреннего сожаления и чрезвычайно удовлетворительными выплатами и рекомендациями, гувернантки сменялись с нерегулярной частотой.
Привязанность Стивен к своей "тетушке" никогда не страдала от этих перемен. Другие могли приходить и уходить, но эта связь оставалась неизменной. Маленькая ручка ребенка скользила в одну из сильных рук пожилой дамы или крепко сжимала ее палец. И тогда женщина, у которой никогда не было собственных детей, каждый раз снова чувствовала, словно детская рука сжимает ее сердце.
С отцом она была нежнее всего. И поскольку, казалось, ему нравилось, когда она делала что-то, напоминающее поведение маленького мальчика, привычка вести себя подобным образом незаметно укоренилась в ней.
У единственного ребенка есть определенные трудности в воспитании. Истинное обучение – это не то, чему нас учат, а то, что мы усваиваем сами из опыта и наблюдений, а детский опыт и наблюдения, особенно в отношении вещей, не связанных с подавлением, в основном касаются других детей. Маленькие учат друг друга. Братья и сестры проводят больше времени вместе, чем обычные приятели по играм, и в непринужденной обстановке их постоянного общения усваиваются некоторые важные уроки, столь полезные в дальнейшей жизни. Маленькая Стивен была лишена возможности познать мудрость взаимного обмена. Ей все давалось, давалось щедро и изящно. Изящное принятие благ давалось ей естественно, как тому, кто рожден быть великой леди. Дети окрестных фермеров, с которыми она иногда играла, испытывали такой привычный трепет перед большим домом, что редко чувствовали себя достаточно непринужденно, чтобы играть естественно. Дети не могут быть на равных в особых случаях с человеком, которому их учили кланяться или делать реверанс как общепринятую норму поведения. Дети соседних землевладельцев, которых было мало и которые жили далеко друг от друга, и представители интеллигенции из Норчестера во время встреч со Стивен обычно вели себя настолько благопристойно, что спонтанность игры, посредством которой сглаживаются или стираются острые углы индивидуальности, отсутствовала.
И так Стивен училась читать в Книге Жизни; правда, только на одной ее стороне. К шести годам она, хотя и была окружена любящей заботой и наставляема опытными учителями, познала лишь принимающую сторону жизни. Отдачи, конечно, было в избытке, ибо традиции Норманстенда отличались царственным великодушием; многие благословения следовали за маленькой госпожой, когда она сопровождала своевременную помощь больным и нуждающимся, отправляемую из дома сквайра. Более того, ее тетушка пыталась внушить ей определенные максимы, основанные на благородном принципе: блаженнее давать, нежели принимать. Но истинного смысла отдачи – отдачи того, что мы хотим для себя, отдачи, которая подобна храму, воздвигнутому на скале самопожертвования, – она не знала. Ее милая и непосредственная натура, так охотно дарившая свою любовь и сочувствие, почти препятствовала воспитанию: она ослепляла глаза, которые иначе могли бы заметить любой недостаток, требующий исправления, любую дурную черту, нуждающуюся в подавлении, любую отстающую добродетель, нуждающуюся в поощрении или стимуле.
Глава 3. Гарольд
У сквайра Нормана был друг-священник, чей приход Карстоун находился примерно в тридцати милях от Норманстенда. Тридцать миль – невеликое расстояние для железнодорожного путешествия; но это долгая поездка на лошадях. В те времена железная дорога между этими двумя местами еще не появилась, да и вряд ли когда-нибудь появилась бы. Довольно много лет эти двое мужчин встречались, чтобы вспомнить свои старые университетские дни. Сквайр Норман и доктор Ан Вульф были закадычными друзьями в Тринити-колледже Кембриджа, и мальчишеская дружба созрела и сохранилась на долгие годы. Когда Гарольд Ан Вульф проходил свою практику в многолюдном промышленном городе Мидлендса, именно влияние Нормана помогло его другу получить ректорство. Они нечасто могли встречаться, потому что работа Ан Вульфа, хотя и не слишком обременительная, требовала единоличного исполнения и привязывала его к своему посту. Кроме того, он был хорошим ученым и пополнял небольшой доход, готовя нескольких учеников к поступлению в привилегированные школы. Случайные визиты доктора в Норманстенд среди недели в свободное от школьных занятий время и редкие поездки Нормана в резиденцию, с возвращением на следующий день, на протяжении многих лет были мерой их встреч. Затем женитьба Ан Вульфа и рождение сына стали удерживать его дома. Миссис Ан Вульф погибла в железнодорожной катастрофе через пару лет после рождения единственного ребенка; и в то время Норман приезжал, чтобы оказать любую посильную помощь потрясенному другу и дать ему то, что в тех обстоятельствах было его лучшим даром, – сочувствие. Спустя несколько лет ухаживания сквайра и женитьба, на которой присутствовал его старый друг, ограничили его общение более узким кругом. Последний раз они встречались, когда Ан Вульф приезжал в Норчестер, чтобы помочь похоронить жену своего друга. Однако с течением лет тень над жизнью Нормана начала рассеиваться; когда его малышка стала ему своего рода компаньоном, они снова встретились. Норман, который с момента смерти жены ни разу не смог покинуть Норманстенд и Стивен даже на одну ночь, написал своему старому другу, прося его приехать. Ан Вульф с радостью согласился, и целую неделю с растущим ожиданием сквайр предвкушал их встречу. Каждый нашел другого несколько изменившимся, во всем, кроме их старой привязанности.
Ан Вульф был очарован маленькой Стивен. Ее изящная красота, казалось, пленила его; а ребенок, словно понимая, какое удовольствие он доставляет, пустил в ход все свои маленькие чары. Ректор, который знал детей лучше своего друга, рассказывал ей, пока она сидела у него на коленях, об одном очень интересном человеке: своем собственном сыне. Ребенок слушал, сначала заинтересованно, затем с восторгом. Она задавала самые разные вопросы; и глаза отца светились, когда он с радостью отвечал милой, сочувствующей девочке, уже глубоко запавшей ему в сердце ради ее отца. Он рассказывал ей о мальчике, который был таким большим и сильным, и который бегал, прыгал, плавал, играл в крикет и футбол лучше любого другого мальчика, с которым он играл. Когда, согревшись живым интересом маленькой девочки и видя, как загораются ее прекрасные черные глаза, он тоже пробудился к радости момента; и все сокровенные мгновения одинокого отцовского сердца излили свои богатства. А другой отец, взволнованный восторгом своего ребенка и, кроме того, испытывая дополнительное удовольствие от того, что маленькая Стивен интересовалась видами спорта, которые обычно считались мальчишескими, смотрел одобрительно, время от времени и сам задавая вопросы, чтобы удовлетворить любопытство ребенка.
Весь день они просидели в саду, рядом с ручьем, вытекавшим из скалы, и Ан Вульф рассказывал отцовские истории о своем единственном сыне. О великом крикетном матче с командой Кастра Пуэлорум, когда тот набрал сто очков, не выходя из игры. О школьных соревнованиях, когда он выиграл столько призов. О заплыве в реке Ислам, когда после победы и переодевания он бросился в воду в одежде, чтобы помочь детям, опрокинувшим лодку. О том, как, когда не могли найти единственного сына вдовы Нортон, он нырнул в глубокую яму водозабора мельничной плотины больших мельниц Карстоуна, где утонул кузнец Уингейт. И как, нырнув дважды без успеха, он настоял на третьем погружении, хотя люди пытались его удержать; и как он вынес на руках ребенка, белого как полотно и почти мертвым, так что его пришлось положить в золу пекарской печи, прежде чем его удалось вернуть к жизни.
Когда пришла няня, чтобы уложить ее спать, она спрыгнула с колен отца, подошла к доктору Ан Вульфу, серьезно протянула ему руку и сказала: "До свидания!" Затем она поцеловала его и произнесла:
– Большое спасибо, папа мистера Гарольда. Вы скоро снова придете и расскажете нам еще?
Затем она снова вскочила на колени отца, обняла его за шею, поцеловала и прошептала ему на ухо:
– Папочка, пожалуйста, попроси папу мистера Гарольда, когда он придет снова, привести с собой Гарольда!
В конце концов, женщинам свойственно помещать суть письма в постскриптуме!
Через две недели доктор Ан Вульф приехал снова и привез с собой Гарольда. Время тянулось для маленькой Стивен мучительно медленно, пока она ждала приезда Гарольда с отцом. Стивен сгорала от нетерпения увидеть большого мальчика, чьи подвиги так ее заинтересовали, и целую неделю засыпала миссис Джерролд вопросами, на которые та не могла ответить. Наконец, настал этот день, и она вышла с отцом к парадной двери, чтобы встретить гостей. На верхней ступени больших гранитных ступеней, над которыми в непогоду натягивался белый навес, она стояла, держа отца за руку и приветливо махая.
– Доброе утро, Гарольд! Доброе утро, папа мистера Гарольда!
Встреча доставила обоим детям огромное удовольствие и привела к немедленной дружбе. Маленькая девочка сразу же прониклась глубоким восхищением большим, сильным мальчиком, почти вдвое старше и более чем вдвое крупнее ее. В ее возрасте условности не имеют значения, и любовь – это то, о чем говорят сразу и открыто. Миссис Джерролд с первого взгляда полюбила большого добродушного мальчика, который обращался с ней как с леди и неловко стоял, краснея и молча, посреди детской, слушая нежные излияния маленькой девочки. Какой бы ни была та любовь, на которую способны мальчики, Гарольд был ею охвачен. "Телячью любовь" обычно презирают. Она может быть смешной; но тем не менее это серьезная реальность – для "теленка".
Новообретенная привязанность Гарольда была глубока, как и его натура. Единственный ребенок, в чьей памяти не сохранилось материнской любви, его естественно ласковая натура в детстве не находила выхода. Мальчик едва ли может излить всю душу мужчине, даже отцу или товарищу; и этот ребенок был в некотором роде лишен утешений других детей. Вторичное занятие его отца – преподавание – приводило в дом других мальчиков и требовало строгого домашнего распорядка. В школе для мальчиков не было места для маленьких девочек; и хотя многие матери – подруги доктора Ан Вульфа – очень любили милого, тихого мальчика и брали его играть со своими детьми, он, казалось, никогда не становился с ними по-настоящему близок. Не хватало равенства в общении. Мальчиков он знал, и с ними он мог держаться на равных и при этом поддерживать дружеские отношения. Но девочки были для него чужими, и в их присутствии он робел. С этим непониманием другого пола росло своего рода благоговение перед ним. Его возможности для такого рода изучения были настолько редки, что это представление так и не могло исправиться.
И вот, с самого детства и до двенадцати лет, познания Гарольда о девочках не увеличились, и его благоговение не уменьшилось. Когда отец рассказал ему о своем визите в Норманстенд и о приглашении, которое ему там сделали, сначала возникло благоговение, затем сомнение, потом ожидание. Между Гарольдом и его отцом существовали любовь, доверие и взаимопонимание. Отцовская супружеская любовь, так рано оборвавшаяся, нашла свое выражение в отношении к сыну; и между ними никогда не было даже тени облака. Когда отец рассказал ему, какая маленькая Стивен хорошенькая, какая изящная, какая милая, он начал рисовать ее в своем воображении и с застенчивым волнением ожидать встречи с ней.
Его первый взгляд на Стивен, как он чувствовал, был одним из тех, которые никогда не забываются. Она решила показать Гарольду, что она умеет делать. Гарольд умел запускать воздушных змеев, плавать и играть в крикет; она ничего этого не умела, но она умела ездить верхом. Гарольд должен увидеть ее пони и увидеть, как она скачет на нем совершенно одна. И для Гарольда тоже будет пони, большой, большой, большой – она сама говорила об этом Топхему, конюшему. Она уговорила папочку пообещать, что после обеда она возьмет Гарольда на прогулку верхом. Для этого она рано приготовилась. Она настояла на том, чтобы надеть красный охотничий костюм, который папочка подарил ей на день рождения, и теперь стояла на верхней ступени, вся сияя в охотничьем розовом, с костюмом, перекинутым через руки, и маленькими блестящими охотничьими сапожками. На ней не было шляпы, и ее прекрасные золотисто-рыжие волосы сияли во всей своей красе. Но даже они почти меркли перед радостным румянцем на ее щеках, когда она стояла, махая маленькой ручкой, не державшей папину. Она, несомненно, была картиной для грез! Глаза ее отца не упустили ни одной детали ее изящной красоты. Он так гордился ею, что почти забыл пожелать, чтобы она была мальчиком. Удовольствие, которое он испытывал от ее внешнего вида, усиливалось тем, что ее наряд был его собственной идеей.
Во время завтрака Стивен была довольно молчалива; обычно она болтала без умолку, свободно, как поет птица. Стивен молчала, потому что событие было важным. Кроме того, папочка был не один, и поэтому его не нужно было подбадривать. А еще – это в форме постскриптума – Гарольд молчал! В ее нынешнем настроении Гарольд не мог ошибаться, и все, что делал Гарольд, было правильно. Она уже неосознанно усваивала урок из его присутствия.
В тот вечер, ложась спать, она пришла пожелать папочке спокойной ночи. После того как она поцеловала его, она также поцеловала "старого мистера Гарольда", как она теперь его называла, и как само собой разумеющееся поцеловала и Гарольда. Он тут же покраснел. Это был первый раз, когда его поцеловала девочка.
Следующий день с раннего утра до самого вечера был для Стивен одним сплошным праздником, и мало нашлось интересных вещей, которые не были бы показаны Гарольду; мало оказалось маленьких секретов, которыми она не поделилась бы с ним, пока они гуляли, держась за руки. Как и все мужественные мальчики, Гарольд был добр к маленьким детям и терпелив с ними. Он с удовольствием следовал за Стивен и выполнял все ее просьбы. Он влюбился в нее всем своим мальчишеским сердцем.
Когда гости уезжали, Стивен стояла с отцом на ступенях, провожая их. Когда карета скрылась за дальним поворотом длинной аллеи, и когда уже не было видно фуражки Гарольда, машущей из окна, сквайр Норман повернулся, чтобы войти, но остановился, повинуясь неосознанному удерживающему движению руки Стивен. Он терпеливо ждал, пока она с долгим вздохом повернулась к нему, и они вместе вошли в дом.
В тот вечер, перед тем как лечь спать, Стивен пришла и села к отцу на колени, и после различных поглаживаний и поцелуев прошептала ему на ухо:
– Папочка, разве не было бы замечательно, если бы Гарольд мог совсем переехать сюда? Ты не мог бы его попросить? И старый мистер Гарольд тоже мог бы приехать. Ох, как бы я хотела, чтобы он был здесь!
Глава 4. Гарольд в Норманстенде
Два года спустя на Гарольда обрушился страшный удар. Его отец, страдавший от частых приступов гриппа, после очередного такого приступа слег с пневмонией и через несколько дней скончался. Гарольд был безутешен. Любовь, связывавшая его с отцом, была настолько постоянной, что он не помнил времени, когда бы ее не было.
Когда сквайр Норман вернулся с ним домой после похорон, он молча сидел, держа мальчика за руку, пока тот не выплакал все слезы. К этому времени они стали старыми друзьями, и мальчик не боялся и не стеснялся дать волю чувствам перед ним. В старом поколении было достаточно любви, чтобы зародилось доверие к новому.
Наконец, когда буря утихла и Гарольд снова стал самим собой, Норман сказал:
– А теперь, Гарольд, послушай меня. Ты знаешь, мой дорогой мальчик, что я старейший друг твоего отца, и я совершенно уверен, что он одобрил бы то, что я скажу. Ты должен пойти жить ко мне. Я знаю, что в последние часы величайшей заботой сердца твоего дорогого отца было твое будущее. И я знаю также, что ему было утешением чувствовать, что мы с тобой такие друзья и что сын моего самого дорогого старого друга будет мне как сын. Мы с тобой давно дружим, Гарольд; и мы научились доверять друг другу, и я надеюсь полюбить тебя. А ты и мой маленький Стивен уже такие друзья, что твой приход в дом будет радостью для всех нас. Да что там, давным-давно, когда ты впервые пришел, она сказала мне в ту ночь, когда ты уходил: «Папочка, как было бы хорошо, если бы Гарольд мог совсем переехать сюда!»
И вот Гарольд Ан Вульф вернулся со сквайром в Норманстенд и с того дня стал членом его семьи, как сын. Восторг Стивен от его приезда, конечно, в значительной степени омрачался ее сочувствием его горю; но трудно было бы утешить его лучше, чем она это сделала по-своему, по-детски. Прикоснувшись губами к его губам, она поцеловала его и, взяв его большую руку обеими своими маленькими, тихо прошептала:
– Бедный Гарольд! Мы с тобой должны любить друг друга, потому что мы оба потеряли маму. А теперь ты потерял и папу. Но ты должен позволить моему дорогому папочке стать и твоим тоже!
В это время Гарольду было между четырнадцатью и пятнадцатью годами. Он получил хорошее образование, насколько это позволяло частное обучение. Отец уделял ему много внимания, так что он был хорошо подкован во всех академических дисциплинах. Кроме того, для своих лет он был сведущ в большинстве мужских занятий. Он мог ездить верхом на чем угодно, метко стрелять, фехтовать, бегать, прыгать или плавать не хуже любого мальчика старше и крупнее его.
В Норманстенде его образование продолжил ректор. Сквайр часто брал его с собой на верховую езду, рыбалку или охоту, откровенно говоря, что, поскольку его дочь еще слишком мала, чтобы быть ему компаньоном в этих делах, он будет действовать в качестве ее заместителя (лат. locum tenens). Его жизнь в доме и помощь в занятиях Стивен сделали их знакомство постоянным. Он был достаточно старше ее, чтобы повелевать ее детским послушанием; и в его характере были определенные качества, которые в высшей степени способствовали завоеванию и сохранению уважения как женщин, так и мужчин. Он был самим воплощением искренности и время от времени проявлял в определенных отношениях возвышенное самоотречение, которое порой казалось поразительным контрастом с явно воинственным характером. В школе он часто участвовал в драках, которые почти всегда происходили из-за принципов, и благодаря своего рода бессознательному рыцарству его обычно можно было найти сражающимся на стороне более слабого. Отец Гарольда очень гордился своим происхождением, которое по голландской линии восходило к готам, о чем свидетельствовал явно искаженный префикс первоначального имени, и он почерпнул из постоянного изучения саг нечто из философии, лежавшей в основе идей викингов.
Этот новый этап в жизни Гарольда способствовал более быстрому развитию, чем все предыдущие. До этого у него не было такого же чувства ответственности. Повиновение само по себе является облегчением; и подобно тому, как это настоящее утешение для слабых натур, для сильных это лишь задержка. Теперь ему приходилось думать еще об одной личности. В его собственной натуре была жилка тревожности, которую подсознательное ощущение собственной силы выталкивало на поверхность.
Маленькая Стивен с инстинктом своего пола довольно скоро обнаружила эту слабость. Ибо это слабость, когда любое качество может быть подвергнуто нападкам или использовано. Использование слабости мужчины не всегда является кокетством; но это нечто очень на него похожее. Нередко маленькая девочка, которая смотрела снизу вверх и восхищалась большим мальчиком, способным заставить ее сделать что угодно, когда ему этого хотелось, в своих собственных целях играла на его чувстве ответственности, испытывая эльфийское наслаждение от его замешательства.
Результатом безобидного маленького кокетства Стивен было то, что Гарольду иногда приходилось либо расстраивать какой-нибудь ее дерзкий план, либо скрывать его последствия. В любом случае ее доверие к нему росло, так что вскоре он стал неотъемлемой частью ее жизни, существом, в чьей силе, благоразумии и преданности она имела абсолютную, слепую веру. И это чувство, казалось, росло вместе с ней. Действительно, в какой-то момент оно стало чем-то большим, чем обычная вера. Это произошло так:
Старая церковь Святого Стивена, приходская церковь Норманстенда, представляла особый интерес для семьи Норманов. Там, либо в пределах существующих стен, либо в стенах, предшествовавших им, когда церковь была перестроена тем самым сэром Стивеном, который был знаменосцем Генриха VI, были похоронены все прямые представители рода. Это была непрерывная запись наследников, начиная с первого сэра Стивена, упомянутого в Книге Страшного суда. Снаружи, на церковном дворе рядом с церковью, были похоронены все боковые ветви рода, умершие в пределах досягаемости Норчестера. Некоторые, конечно, достигнув известности в различных сферах жизни, удостаивались большей чести и покоились в алтаре. Весь интерьер хранил память о семье. Сквайр Норман любил приходить сюда и часто с самого начала брал с собой Стивен. Одно из ее самых ранних воспоминаний – как она стояла на коленях рядом с отцом, который держал ее за руку, а другой вытирал слезы с глаз перед прекрасным мраморным надгробием. Она никогда не забывала его слов:
– Ты всегда будешь помнить, дорогая, что твоя дорогая мама покоится в этом священном месте. Когда меня не станет, если у тебя когда-нибудь возникнут трудности, приходи сюда. Приходи одна и открой свое сердце. Тебе никогда не нужно бояться просить Бога о помощи у могилы твоей матери!
Ребенок был впечатлен, как и многие другие представители ее рода. Семьсот лет каждый ребенок дома Норманов приводился сюда одним из родителей и слышал подобные слова. Этот обычай стал почти семейным ритуалом и всегда оставлял свой след в большей или меньшей степени.
Всякий раз, когда Гарольд в первые дни приезжал в Норманстенд, церковь обычно была целью их прогулок. Он всегда с удовольствием ходил туда. Любовь к собственным предкам заставляла его восхищаться и уважать предков других; так что энтузиазм Стивен в этом вопросе был еще одной нитью, связывавшей его с ней.
Во время одной из прогулок они обнаружили, что дверь в склеп открыта; и Стивен ни за что не соглашалась уйти, не войдя туда. Однако сегодня у них не было света; но они договорились, что завтра принесут с собой свечи и тщательно осмотрят это место. На следующий день после обеда они стояли у двери склепа со свечой, которую Гарольд зажег. Стивен восхищенно смотрела и полусознательно сказала, причем эта полусознательность проявлялась в подтексте:
– Ты не боишься склепа?
– Ничуть! В церкви моего отца был склеп, и я несколько раз там бывал. – Пока он говорил, воспоминание о последнем его посещении захлестнуло его. Ему снова почудились многочисленные огни, дрожащие в чьих-то руках, создававшие мрачную полутьму там, где не было черных теней; снова послышался топот и торопливое шарканье множества ног, когда большой дубовый гроб несли сквозь толпу с трудом спускавшихся по крутой лестнице и проносили в узкую дверь… А потом наступила тишина, когда голоса стихли; и молчание казалось чем-то осязаемым, пока он некоторое время стоял один рядом с мертвым отцом, который был для него всем. И снова он, казалось, почувствовал возвращение в живой мир печали и света, когда его безвольную руку взяла сильная любящая рука сквайра Нормана.
Он замолчал и отступил.
– Почему ты не идешь дальше? – удивленно спросила она.
Он не хотел говорить ей тогда. Почему-то это казалось неуместным. Он часто рассказывал ей об отце, и она всегда внимательно его слушала; но здесь, у входа в мрачный склеп, он не хотел причинять ей боль своими собственными горестными мыслями и всеми ужасными воспоминаниями, которые вызывало сходство места. И пока он колебался, ему пришла в голову мысль, настолько полная боли и страха, что он обрадовался этой паузе, которая дала ему время осознать ее. Именно в этом склепе была похоронена мать Стивен, и если бы они вошли, как намеревались, девочка могла бы увидеть гроб своей матери так же, как он видел гроб своего отца, но при обстоятельствах, от которых его бросило в дрожь. Он, как уже говорил, часто бывал в склепе в Карстоуне и хорошо знал убожество смертной камеры. Его воображение было так же живо, как и память; он содрогнулся, но не за себя, а за Стивен. Как он мог позволить девочке страдать так, как она могла бы, как она непременно бы страдала, если бы это предстало перед ней таким жестоким образом? Как жалок, как низменно жалок посмертный удел. Он хорошо помнил, как много ночей просыпался в муках, думая о том, как его отец лежит в этом холодном, безмолвном, покрытом пылью склепе, в тишине и темноте, без единого луча света, надежды или любви! Ушедший, покинутый, забытый всеми, кроме, может быть, одного кровоточащего сердца… Он хотел спасти маленькую Стивен, если сможет, от такого воспоминания. Он не стал объяснять, почему отказывается войти.
Он задул свечу, повернул ключ в замке, вынул его и положил в карман.
– Идем, Стивен! – сказал он. – Пойдем куда-нибудь в другое место. Сегодня мы не пойдем в склеп!
– Почему нет? – Губы, произнесшие это, были капризно надуты, а лицо покраснело. Властная маленькая леди вовсе не была довольна тем, что ей пришлось отказаться от заветного проекта. Целый день и ночь, бодрствуя, она думала о предстоящем приключении; теперь же трепет ожидания должен был обернуться холодным разочарованием без всякого объяснения. Она не думала, что Гарольд боится; это было бы смешно. Но она недоумевала; а тайны всегда ее раздражали. Она не любила ошибаться, особенно когда об этом знали другие. Вся ее гордость восстала.
– Почему нет? – повторила она еще более властно.
Гарольд ласково сказал:
– Потому что, Стивен, на то есть действительно веская причина. Не спрашивай меня, потому что я не могу тебе сказать. Ты должна поверить мне, что я прав. Ты же знаешь, дорогая, что я бы ни за что не стал тебя нарочно разочаровывать; и я знаю, как сильно ты этого хотела. Но поверь, поверь, у меня есть очень веская причина.
Теперь Стивен по-настоящему рассердилась. Она была восприимчива к доводам рассудка, хотя и не осознавала, что такое рассудок; но слепо принимать чужие доводы было противно ее натуре, даже в ее тогдашнем возрасте. Она уже собиралась сердито возразить, но, взглянув вверх, увидела, что губы Гарольда сжаты с мраморной твердостью. Поэтому, в своей манере, она смирилась с неизбежным и сказала:
– Ладно, Гарольд.
Но в глубине ее твердого ума затаилось отчетливое намерение посетить склеп при более благоприятных обстоятельствах.
Глава 5. Склеп
Прошло несколько недель, прежде чем Стивен представился желаемый случай. Она знала, что ей будет трудно избежать наблюдения Гарольда, поскольку проницательность большого мальчика в отношении фактов произвела на нее впечатление. Странно, что из ее доверия к Гарольду возникла форма недоверия к другим. В этом маленьком деле, как его обойти, она склонялась к любому, кто был его противоположностью, в чьей надежности она инстинктивно сомневалась. «Нет ничего ни плохого, ни хорошего; это размышление делает все таковым!» Войти в этот склеп, что поначалу казалось таким пустяком, теперь, в процессе размышлений, желаний и планов, стало чем-то очень желанным. Гарольд видел, или, скорее, чувствовал, что что-то занимает мысли девочки, и предположил, что это как-то связано со склепом. Но он подумал, что лучше ничего не говорить, чтобы не поддерживать желание, которое, как он надеялся, умрет естественным образом.
Однажды было решено, что Гарольд поедет в Карстоун к поверенному, который занимался делами отца. Он должен был остаться на ночь и вернуться верхом на следующий день. Стивен, узнав об этом, устроила так, что мистера Эверарда, сына банкира, недавно купившего поместье по соседству, пригласили поиграть с ней в тот день, когда уехал Гарольд. В Итоне были каникулы, и он был дома. Стивен не упомянула Гарольду о его приезде; он узнал об этом лишь из случайной реплики миссис Джерролд перед его отъездом. Он не счел это достаточно важным, чтобы задуматься, почему Стивен, которая обычно рассказывала ему все, не упомянула об этом.
Во время игры Стивен, взяв с Леонарда клятву хранить тайну, рассказала ему о своем намерении посетить склеп и попросила его помочь ей в этом. Это было приключение, и как таковое пришлось по душе школьнику. Он сразу же с энтузиазмом (итал. con amore) включился в план; и они обсудили способы и средства. Единственным сожалением Леонарда было то, что в таком проекте он был связан с маленькой девочкой. Это был удар по его самолюбию, которое занимало важное место в его моральном багаже, что такой проект был инициирован девочкой, а не им самим. Он должен был раздобыть ключ и на следующее утро ждать на церковном дворе, куда Стивен присоединится к нему, как только сможет ускользнуть от своей няни. Ей было уже больше одиннадцати, и за ней нужно было меньше присматривать, чем в ранние годы. При определенной стратегии можно было незаметно улизнуть на час.
* * * * *
В Карстоуне Гарольд справился со всеми делами в тот же день после обеда и договорился выехать в Норманстенд рано утром. После раннего завтрака он отправился в тридцатимильное путешествие в восемь часов. Литтлджон, его конь, был в отличной форме, несмотря на долгую поездку накануне, и, повернув нос к дому, пустился во весь опор. Гарольд был в прекрасном расположении духа. Долгая поездка накануне физически укрепила его, хотя во время путешествия его охватывала глубокая печаль, когда мысли об отце возвращались к нему, и чувство утраты возобновлялось с каждой мыслью о старом доме. Но юность по природе своей жизнерадостна. Посещение церкви, первое, что он сделал по прибытии в Карстоун, и его коленопреклонение перед камнем, освященным памятью отца, хотя и повлекло за собой безмолвный поток слез, пошло ему на пользу и даже, казалось, отодвинуло его горе. Когда утром перед отъездом из Карстоуна он снова пришел туда, слез уже не было. Было лишь святое воспоминание, которое, казалось, освящало утрату; и отец казался ему ближе, чем когда-либо.
Приближаясь к Норманстенду, он с нетерпением ждал встречи со Стивен, и вид старой церкви, лежащей далеко внизу, когда он спускался по крутой дороге через Олт-Хилл, кратчайший путь из Норчестера, заставил его задуматься. Посещение могилы собственного отца напомнило ему о том дне, когда он не пустил Стивен в склеп.
Самая острая мысль не всегда осознается. Без определенного намерения, подъехав к тропинке, Гарольд повернул голову лошади и поехал к церковному двору. Открывая дверь церкви, он наполовину ожидал увидеть Стивен; и была смутная вероятность, что с ней может быть Леонард Эверард.
В церкви было прохладно и сумрачно. После жаркого августовского солнца, казалось, на первый взгляд, темно. Он огляделся, и его охватило чувство облегчения. Место было пусто.
Но едва он остановился, как раздался звук, от которого у него похолодело сердце. Крик, приглушенный, далекий и полный муки; рыдающий крик, который внезапно оборвался.
Это был голос Стивен. Он инстинктивно понял, откуда он донесся; из склепа. Если бы не его прежний опыт с ее желанием войти туда, он никогда бы не заподозрил, что это так близко. Он побежал к углу, где начинались ступени, ведущие вниз. Когда он достиг этого места, по ступенькам взбегала фигура. Мальчик в итонском пиджаке и широком воротнике, небрежный, бледный и взволнованный. Это был Леонард Эверард. Гарольд схватил его.
– Где Стивен? – быстро, тихо спросил он.
– Там, в склепе внизу. У нее упал свет, потом она взяла мой, и он тоже упал. Пусти меня! Пусти меня! – Он пытался вырваться; но Гарольд крепко держал его.
– Где спички?
– В кармане. Пусти меня! Пусти меня!
– Дай их мне – сию же минуту! – Он ощупывал карманы жилета испуганного мальчика, пока говорил. Получив спички, он отпустил мальчика и побежал вниз по ступенькам и через открытую дверь в склеп, крича на ходу:
– Стивен! Дорогая Стивен, где ты? Это я – Гарольд! – Ответа не последовало; сердце его, казалось, заледенело, а колени ослабели. Спичка зашипела, вспыхнула, и в мимолетном свете он увидел через весь склеп, который был невелик, белую массу на земле. Ему пришлось идти осторожно, чтобы порыв ветра не задул спичку; но, приблизившись, он увидел, что это была Стивен, лежащая без чувств перед большим гробом, стоявшим на сложенной каменной кладке. Затем спичка погасла. В свете следующей зажженной спички он увидел кусок свечи, лежащий на гробу. Он схватил его и зажег. Несмотря на волнение, он смог мыслить хладнокровно и знал, что свет – это первейшая необходимость. Помятый фитиль загорался медленно; ему пришлось зажечь еще одну спичку, последнюю, прежде чем она вспыхнула. Несколько секунд, пока свет гас, пока не растаял жир и пламя не вспыхнуло снова, показались ему очень долгими. Когда зажженная свеча устойчиво встала на гроб и вокруг распространился тусклый, но достаточно сильный, чтобы видеть, свет, он наклонился и поднял Стивен на руки. Она была совершенно без сознания и так безвольна, что его охватил сильный страх, что она мертва. Он не терял времени, перенес ее через склеп, где дверь на церковные ступени резко выделялась на фоне темноты, и вынес ее в церковь. Держа ее одной рукой, другой он стащил несколько длинных подушек с одной из скамей и расстелил их на полу; на них он и положил ее. Сердце его сжалось от любви и жалости, когда он смотрел на нее. Она была так беспомощна; так жалко беспомощна! Ее руки и ноги были подвернуты, словно сломаны, вывихнуты; белое платьице было покрыто пятнами густой пыли. Инстинктивно он наклонился, опустил платьице и выпрямил руки и ноги. Он опустился рядом с ней на колени и проверил, бьется ли ее сердце, его охватил сильный страх, болезненное предчувствие. Из его сердца вырвался благодарственный крик. Слава Богу! Она жива; он чувствовал, как под его рукой слабо бьется ее сердце. Он вскочил на ноги и побежал к двери, схватив шляпу, лежавшую на скамье. Он хотел принести воды. Выходя из двери, он увидел Леонарда неподалеку, но не обратил на него внимания. Он побежал к ручью, наполнил шляпу водой и вернулся. Войдя в церковь, он увидел Стивен, уже частично пришедшую в себя, сидящую на подушках, а Леонард поддерживал ее.
Он обрадовался, но в то же время почувствовал какое-то разочарование. Ему бы хотелось, чтобы Леонарда там не было. Он помнил – не мог забыть – белое лицо мальчика, выбежавшего из склепа и оставившего Стивен без чувств внутри, и который медлил у церковной двери, пока он бегал за водой. Гарольд быстро подошел и поднял Стивен, намереваясь вынести ее на свежий воздух. У него было верное предположение, что вид неба и Божьей зелени будет для нее лучшим лекарством после испуга. Он поднял ее на свои сильные руки, как делал это, когда она была совсем маленькой и уставала во время их совместных прогулок; и понес ее к двери. Она бессознательно подчинилась движению, крепко обхватив его шею рукой, как делала раньше. В ее цепкости выражалось ее доверие к нему. Легкий вздох, с которым она положила голову ему на плечо, был данью его мужской силе и ее вере в нее. Каждое мгновение ее чувства возвращались к ней все больше и больше. Пелена забвения спадала с ее полузакрытых глаз, когда на нее накатывала волна полных воспоминаний. Ее внутренняя природа выразилась в последовательности ее эмоций. Первым ее чувством было осознание собственной вины. Вид Гарольда и его близость живо напомнили ей, как он отказался войти в склеп и как она намеренно обманула его, умолчав о своем намерении сделать то, что он не одобрял. Вторым ее чувством было чувство справедливости; и, возможно, частично оно было вызвано видом Леонарда, который следовал за ними, когда Гарольд вынес ее к двери. Она не хотела говорить о себе или о Гарольде перед ним; но она без колебаний сказала о нем Гарольду:
– Ты не должен винить Леонарда. Это все моя вина. Я заставила его пойти! – Ее великодушие тронуло Гарольда. Он сердился на мальчика за то, что тот вообще там был; но больше за то, что он бросил девочку в беде.
– Я не виню его за то, что он был с тобой! – просто сказал он. Леонард тут же заговорил. Он ждал, чтобы защититься, потому что это больше всего беспокоило юного джентльмена; после собственного удовольствия его больше всего волновала собственная безопасность.
– Я пошел за помощью. Ты уронила свечу; и как я мог видеть в темноте? Ты настаивала на том, чтобы посмотреть на табличку на гробу!
Тихий стон вырвался из груди Стивен, долгий, низкий, дрожащий стон, который пронзил сердце Гарольда. Ее голова снова склонилась ему на плечо; и она крепко прижалась к нему, когда к ней вернулось воспоминание о пережитом потрясении. Гарольд, не поворачивая головы, проговорил Леонарду низким, яростным шепотом, которого, казалось, Стивен не слышала:
– Все! Хватит. Уходи! Ты уже достаточно наделал. Иди! Иди! – добавил он более строго, заметив, что мальчик, похоже, собирается спорить. Леонард пробежал несколько шагов, затем пошел к надвратной сторожке, где и стал ждать.
Стивен крепко прижалась к Гарольду в состоянии почти истерического возбуждения. Она уткнулась лицом ему в плечо, судорожно всхлипывая:
– О, Гарольд! Это было ужасно. Я никогда не думала, ни на мгновение, что моя бедная дорогая мама похоронена в склепе. А когда я подошла посмотреть имя на ближайшем ко мне гробу, я смахнула пыль и увидела ее имя: «Маргарет Норман, 22 года». Я не могла этого вынести. Она сама была еще совсем девочкой, всего лишь вдвое старше меня – лежала там, в этом ужасном темном месте, вся в толстой пыли и паутине. О, Гарольд, Гарольд! Как я смогу вынести мысль о том, что она там лежит и что я никогда больше не увижу ее дорогого лица? Никогда! Никогда!
Он попытался успокоить ее, похлопывая и держа ее за руки. Довольно долго решимость девочки колебалась, и она была как малое дитя. Затем проявилась ее привычная сила духа. Придя в себя, она не спросила Гарольда, как оказалась в церкви, а не в склепе. Казалось, она приняла как должное, что Леонард вынес ее; и когда она сказала, каким он был храбрым, Гарольд с присущей ему щедростью позволил ей сохранить это убеждение. Когда они подошли к воротам, к ним подошел Леонард; но прежде чем он успел заговорить, Стивен начала благодарить его. Он позволил ей это сделать, хотя вид презрительно сжатых губ Гарольда и его властно устремленных на него глаз то бросал его в жар, то в холод. Он удалился, не говоря ни слова, и пошел домой с сердцем, полным горечи и мстительных чувств.
В парке Стивен попыталась отряхнуться, затем Гарольд попытался помочь ей. Но ее белое платье было безнадежно запачкано, мелкая пыль склепа, казалось, въелась в муслин. Вернувшись домой, она украдкой поднялась наверх, чтобы никто не заметил ее, пока она не приведет себя в порядок.
Через день после этого она днем позвала Гарольда на прогулку. Когда они остались совсем одни и вне зоны слышимости, она сказала:
– Я всю ночь думала о бедной маме. Конечно, я понимаю, что ее нельзя перенести из склепа. Она должна там остаться. Но там не должно быть столько пыли. Я хочу, чтобы ты как-нибудь скоро пошел туда со мной. Боюсь, я одна не осмелюсь. Я хочу принести цветы и прибрать там. Ты пойдешь со мной в этот раз? Теперь я понимаю, Гарольд, почему ты не пустил меня раньше. Но теперь все по-другому. Это не любопытство. Это Долг и Любовь. Ты пойдешь со мной, Гарольд?
Гарольд спрыгнул с края рва, где сидел, и поднял руку. Она взяла ее и легко спрыгнула рядом с ним.
– Идем, – сказал он, – пойдем туда сейчас же! – Она взяла его под руку, когда они снова вышли на тропинку, и, по-девичьи мило прижавшись к нему, они вместе пошли в тот уголок сада, который она называла своим; там они нарвали большой букет прекрасных белых цветов. Затем они пошли к старой церкви. Дверь была открыта, и они вошли. Гарольд вынул из кармана крошечный ключик. Это удивило ее и усилило волнение, которое она естественно испытывала, вновь посещая это место. Она ничего не сказала, пока он открывал дверь в склеп. Внутри, на кронштейне, стояли несколько свечей в стеклянных колпаках и коробки спичек. Гарольд зажег три свечи и, оставив одну на полке, положив рядом с ней свою кепку, взял две другие в руки. Стивен, крепко прижимая цветы к груди правой рукой, левой рукой взяла Гарольда под руку и с бьющимся сердцем вошла в склеп.
Несколько минут Гарольд развлекал ее рассказами о склепе в церкви его отца, о том, как он спускался туда во время своего последнего визита, чтобы увидеть гроб своего дорогого отца, и как он преклонял перед ним колени. Стивен была очень тронута и крепко держала его за руку, ее сердце билось. Но за это время она привыкла к этому месту. Ее глаза, поначалу бесполезные после яркого солнечного света и не способные ничего различить, начали улавливать очертания места и видеть ряды больших гробов, тянущихся вдоль дальней стены. Она также с удивлением заметила, что самый новый гроб, на котором по нескольким причинам остановился ее взгляд, больше не был пыльным, а был тщательно вычищен. Проследив глазами, насколько это было возможно, заглянув в дальние углы, она увидела, что там была проведена та же самая уборка. Даже стены и потолок были очищены от висевшей паутины, а пол был чист чистотой омовения. Все еще держа Гарольда за руку, она подошла к гробу своей матери и опустилась перед ним на колени. Гарольд опустился рядом с ней; некоторое время она оставалась неподвижной и молчаливой, молясь про себя. Затем она поднялась и, взяв свой большой букет цветов, с любовью положила их на крышку гроба, над тем местом, где, как она думала, находилось сердце ее матери. Затем она повернулась к Гарольду, ее глаза были полны слез, а щеки мокрыми, и прислонилась головой к его груди. Ее руки не могли обхватить его шею, пока он не наклонил голову, потому что со своим огромным ростом он просто возвышался над ней. Вскоре она успокоилась; приступ ее горя прошел. Она взяла руку Гарольда обеими своими руками, и вместе они пошли к двери. Свободной рукой, ибо он ни за что на свете не побеспокоил бы другую, Гарольд погасил свечи и запер за ними дверь.
В церкви она отстранилась от него и прямо посмотрела ему в лицо. Она медленно сказала:
– Гарольд, это ты велел убрать в склепе? – Он ответил тихим голосом:
– Я знал, что ты захочешь пойти туда снова!
Она взяла его большую руку, которую держала между своими, и, прежде чем он понял, что она делает, и смог помешать ей, поднесла ее к губам и поцеловала, ласково говоря:
– О, Гарольд! Ни один брат во всем мире не мог бы быть добрее. И… и… – это со всхлипом, – мы оба благодарим тебя; мама и я!
Глава 6. Поездка в Оксфорд
Следующим важным событием в доме стал отъезд Гарольда в Кембридж. Его отец всегда этого хотел, и сквайр Норман помнил о его желании. Гарольд поступил в Тринити-колледж, тот самый, где учился его отец, и своевременно поселился там.
Стивен было почти двенадцать. Круг ее друзей, естественно ограниченный ее жизненными обстоятельствами, расширился до предела; и если у нее не было много близких друзей, то, по крайней мере, их было столько, сколько это было численно возможно. Она все еще поддерживала в определенной степени те маленькие собрания, которые устраивались в ее детстве для ее развлечения, и в различных играх, заведенных тогда, она все еще принимала участие. Она никогда не забывала о том, что ее отец получал определенное удовольствие от ее физической силы. И хотя с ее взрослением и осознанным принятием своей женственности она забыла старую детскую фантазию о том, чтобы быть мальчиком, а не девочкой, она не могла забыть того факта, что сила и ловкость являются источниками как женской, так и мужской власти.
Среди молодых друзей, которые время от времени приезжали во время каникул, был Леонард Эверард, теперь уже высокий, красивый юноша. Он принадлежал к тем мальчикам, которые рано развиваются и, кажется, никогда не проходят через ту неловкую стадию, столь заметную в юности мужчин крупного телосложения. Он всегда был хорошо сложен, подтянут, энергичен; быстроног и весь словно пружина. В играх он был facile princeps (лат. первый среди равных), казалось, всегда прилагая усилия правильно и без напряжения, словно по инстинкту физического превосходства. Его всеобщий успех в таких делах способствовал формированию у него непринужденной, беззаботной манеры, которая сама по себе была обаятельной. Такая физически совершенная юность всегда обладает очарованием. Само ее присутствие вызывает своего рода сочувственное ощущение, подобное солнечному свету.
В присутствии Леонарда Стивен всегда проявляла нечто общепринятое. Его юность, красота и пол – все оказывало на нее влияние. Влияния пола, как это понимается в отношении более позднего периода жизни, в ее случае не существовало; стрелы Купидона имеют зазубрины и крылья для более взрослых жертв. Но в ее случае мужское превосходство Леонарда, подчеркнутое небольшой разницей в возрасте, его возвышенная самоуверенность и, прежде всего, его абсолютное пренебрежение к ней, ее желаниям или чувствам, ставили его на уровень, на который ей приходилось смотреть снизу вверх. Первый шаг по лестнице превосходства был сделан, когда она поняла, что он не на ее уровне; второй – когда она скорее почувствовала, чем подумала, что он имеет на нее больше влияния, чем она на него. Здесь снова возникла маленькая частица поклонения герою, которая, хотя и основывалась на ошибочном представлении о фактах, все же оказывала влияние. В том эпизоде со склепом она всегда верила, что именно Леонард вынес ее и положил на церковный пол в свете и безопасности. Он был достаточно силен и решителен, чтобы сделать это, в то время как она потеряла сознание! Великодушное снисхождение Гарольда на самом деле привело к ложному результату.
Поэтому неудивительно, что она находила случайное общение с красивым, своенравным, властным мальчиком своего рода роскошью. Она видела его не так часто, чтобы успеть устать от него; чтобы обнаружить слабость его характера; чтобы осознать его глубоко укоренившийся, безжалостный эгоизм. Но в конце концов он был лишь эпизодом в юной жизни, полной интересов. Семестр за семестром сменяли друг друга; каникулы приносили свои сезонные радости, иногда разделяемые вместе. Вот и все.
Отношение Гарольда оставалось прежним. Он был человеком постоянного характера; и теперь, когда зрелость была уже близка, любовь его юности созревала в мужскую любовь. Вот и все. По отношению к Стивен он оставался тем же преданным, боготворящим защитником, без мыслей о себе; без надежды на награду. Чего бы ни пожелала Стивен, Гарольд это делал; а Стивен, зная их прежние желания и прежние удовольствия, довольствовалась их возобновлением. Каждые каникулы между семестрами становились главным образом повторением дней старой жизни. Они жили прошлым.
Среди вещей, которые не менялись, было платье для верховой езды Стивен. Алый амазон никогда не был одеждой на каждый день, а с самого начала предназначался для особых случаев. Сама Стивен знала, что это не совсем обычный костюм; но она скорее предпочитала его, хотя бы только поэтому. В некотором смысле она чувствовала себя вправе его носить; ибо красный амазон был своего рода семейной традицией.
Именно в один из таких случаев она пошла с Гарольдом на церковный двор, где они услышали разговор о Боге и Ангелах.
* * * * *
Когда Стивену было около шестнадцати, она ненадолго съездила в Оксфорд. Она остановилась в Сомервилле у миссис Эгертон, старой подруги ее матери, которая была профессором в колледже. Она отослала обратно свою горничную, которая сопровождала ее, так как знала, что у студенток колледжа нет собственных слуг. Визит по взаимному согласию продлился несколько недель. Стивен влюбилась в это место и в эту жизнь и серьезно задумалась о том, чтобы поступить в колледж самой. В самом деле, она уже решила попросить отца разрешить ей это, хорошо зная, что он согласится на это или на любое другое ее здравое желание. Но затем пришла мысль, что он останется дома совсем один; а за ней последовала другая мысль, и более пронзительного чувства. Он уже был один! Уже много дней она оставила его, впервые в жизни! Стивен действовала быстро; она хорошо знала, что дома ей не поставят в вину скорое возвращение. Через несколько часов она завершила свой визит и одна, несмотря на протесты миссис Эгертон, ехала в поезде обратно в Норчестер.
В поезде Стивен впервые начала анализировать свой визит в университет. Все было таким странным, новым и восхитительным для нее, что она ни разу не остановилась, чтобы оглянуться назад. Жизнь в этом новом и очаровательном месте протекала в движущемся настоящем. Разум был лишь восприимчив, собирая данные для последующего осмысления. Во время ее визита рядом не было никого, кто мог бы направить ее мысли, и поэтому все было личным, с полной свободой индивидуальности. Конечно, подруга ее матери, хорошо разбирающаяся в мышлении обычных девушек и способная пробираться сквозь интеллектуальные и моральные трясины, позаботилась о том, чтобы указать Стивен на определенные интеллектуальные течения и определенные моральные уроки; точно так же, как во время их различных прогулок и поездок она указывала на интересные вещи – архитектурные красоты и места исторического значения. И Стивен восприняла, с готовностью приняла и тщательно усвоила все, что ей сказали. Но были и другие уроки, которые были для ее молодых глаз; факты, которые более старые глаза перестали замечать, если вообще когда-либо замечали. Самодовольство, половая самодостаточность в бесконечном потоке молодых людей, наводнявших улицы, дворы и парки; всеобъемлющая природа спорта или учебы, в зависимости от их склонностей. Малая роль, которую, казалось, играли женщины в их жизни. Стивен, как мы знаем, получила своеобразное воспитание; каковы бы ни были ее инстинкты, ее привычки были в значительной степени мальчишескими. Здесь она оказалась среди мальчиков, славного их потока; от взгляда на них время от времени у нее учащалось сердце. И все же среди них она была лишь посторонней. Она не могла сделать ничего лучше, чем любой из них. Конечно, каждый раз, выходя на улицу, она чувствовала восхищенные взгляды; она не могла быть женщиной и не осознавать этого. Но мужчины смотрели на Стивен как на девушку, а не как на равную. Помимо личного опыта и уроков глаз, ушей и интеллекта, были и другие вещи, которые нужно было классифицировать и осмыслить; вещи, которые были совершенно вне ее собственной жизни. Фрагменты университетских сплетен, которые Стивен случайно удавалось услышать время от времени. Полупризнания скандалов, доносившиеся шепотом. Полные признания общежития и учебы, которыми Стивен посчастливилось поделиться. Все это были части нового и странного мира, большого мира, который ворвался в ее сознание.
Теперь, сидя в поезде, уже с некоторым оформленным воспоминанием за два часа одиночества, ее первый комментарий, произнесенный вполголоса, удивил бы ее учителей так же, как и ее саму, если бы она это осознала; ибо пока ее мышление не было самосознательным:
– Неужели я такая же?
Она думала о женщинах, а не о мужчинах. Взгляд, брошенный ею на свой собственный пол, стал для нее пробуждением; и пробуждение это было не к приятному миру. Вдруг она, казалось, осознала, что ее пол имеет недостатки – мелочность, низость, трусость, лживость. Что их занятия склонны быть тривиальными, узкими или эгоистичными; что их желания земные, а вкусы грубые; что то, что она считала добродетелью, часто проявляется лишь как страх. Что невинность – это всего лишь невежество или, по крайней мере, подавленное любопытство. Что…
Волна стыда захлестнула Стивен, и она инстинктивно закрыла руками пылающее лицо. Как обычно, она сразу же бросалась в крайности.
И превыше всего этого на нее обрушилось, впервые в жизни, осознание того, что она сама – женщина!
Долгое время она сидела совершенно неподвижно. Поезд дрожал и грохотал в пути. Переполненные станции принимали и отдавали свою порцию живого груза; но юная девушка сидела отрешенно, неподвижно, казалось, бессознательно. Вся властность и энергия ее натуры были в действии.
Если она действительно женщина и должна подчиняться требованиям своего пола, то, по крайней мере, она не будет управляться и ограничиваться женской слабостью. Она будет планировать, действовать и управлять делами сама, по-своему.
Какими бы ни были ее мысли, она, по крайней мере, могла контролировать свои поступки. И эти поступки должны основываться не на женской слабости, а на мужской силе!
Глава 7. Потребность в знании
Когда Стивен объявила о своем намерении пойти с отцом в суд мелких тяжб, среди женского населения Норманстенда и Норвуда возникло смятение. Никто из них никогда о таком не слышал. Суды были местом для мужчин; а низшие суды разбирали дела определенного рода… Совершенно невозможно было представить, откуда у молодой леди могла возникнуть такая идея…
Мисс Летиция Роули понимала, что перед ней стоит трудная задача, ибо к этому времени она привыкла к спокойному методу Стивен добиваться своего.
Она тщательно привела себя в порядок, прежде чем поехать в Норманстенд. На ней была ее лучшая шляпка, что для некоторых предвещало недоброе. Итак, вот она, величественно входящая в большую гостиную Норманстенда, с таким твердым намерением выполнить свою задачу, что не обращала внимания на мелочи. Она так любила Стивен и так искренне восхищалась ее многочисленными красотами и прекрасными качествами, что была уверена и непоколебима в своем намерении. Стивен грозила опасность, и хотя она сомневалась, сможет ли что-то изменить, она была полна решимости, по крайней мере, не позволить ей идти в опасность с закрытыми глазами.
Стивен поспешно вошла и побежала к ней. Она любила свою двоюродную бабушку; по-настоящему и искренне любила ее. И действительно, было бы странно, если бы это было не так, ибо с самого раннего возраста, который она могла припомнить, она получала от нее только самую искреннюю, нежную любовь. Более того, она глубоко уважала старую леди, ее честность, ее решительность, ее доброту, ее подлинное здравомыслие. Стивен всегда чувствовала себя в безопасности рядом со своей тетей. В присутствии других у нее иногда могли возникнуть сомнения или опасения; но не с ней. В ее любви царило неизменное спокойствие, ответная любовь была осознана и уважаема. Долгое и близкое знакомство с Летицией позволило ей понимать ее настроение. Она умела читать его знаки. Она хорошо знала значение шляпки, которая, казалось, дрожала, словно обладала собственным сознанием. Она хорошо понимала причину волнения своей тети; боль, которую это должно было причинить ей, возможно, была самой сильной точкой сопротивления в ней самой – она уже приняла решение относительно своего нового опыта. Все, что она могла сделать, это попытаться успокоить ее заверением в добрых намерениях; разумом и мягкостью манер. Поцеловав ее и сев рядом, держа ее руку по своей милой привычке, она, видя некоторое замешательство старшей женщины, сама заговорила:
– Вы выглядите обеспокоенной, тетя! Надеюсь, ничего серьезного?
– Очень серьезно, моя дорогая! Для меня все серьезно, что касается тебя.
– Меня, тетя! – Лицемерие – тонкое искусство.
– Да! Да, Стивен. О! Мое дорогое дитя, что я слышу о твоем намерении пойти с отцом в суд мелких тяжб?
– О, это! Ну, дорогая тетя, вы не должны из-за этого беспокоиться. Все в порядке. Это необходимо!
– Необходимо! – фигура старой леди выпрямилась, а голос стал громким и высоким. – Необходимо молодой леди идти в здание суда. Слушать, как низкие люди говорят о низких преступлениях. Слушать дела самого шокирующего рода; дела низкой аморальности; дела такого рода, такого свойства, о котором вам вообще не полагается ничего знать. Право, Стивен!.. – Она с негодованием попыталась высвободить свою руку. Но Стивен крепко держала ее, очень мило говоря:
– Вот именно, тетя. Я настолько невежественна, что чувствую, что должна больше знать о жизни этих самых людей!
Мисс Летиция перебила:
– Невежественна! Конечно, вы невежественны. Именно такой вы и должны быть. Разве не этому мы все посвятили себя с самого вашего рождения? Прочтите третью главу Книги Бытия и вспомните, что произошло после вкушения плода Древа Познания.
– Думаю, Древо Познания должно быть апельсиновым деревом.
Старая леди подняла глаза, ее интерес был возбужден:
– Почему?
– Потому что с тех пор, как в Эдеме, другие невесты носили его цветы! – Ее тон был скромным. Мисс Роули пристально посмотрела на нее, но ее резкость смягчилась в улыбку.
– Гм! – сказала она и замолчала. Стивен воспользовалась возможностью изложить свою точку зрения:
– Дорогая тетя, вы должны меня простить! Вы действительно должны, потому что мое сердце стремится к этому. Уверяю вас, я делаю это не просто для собственного удовольствия. Я все обдумала. Отец всегда хотел, чтобы я была в состоянии – в состоянии знания и опыта – управлять Норманстендом, если когда-нибудь стану его наследницей. С самого раннего времени, которое я помню, он всегда говорил мне об этом, и хотя, конечно, сначала я не понимала, что это значит, в последние несколько лет мне, кажется, стало понятнее. Соответственно, я многому научилась под его присмотром, а иногда и без его помощи. Я изучала карту поместья, просматривала бухгалтерские книги поместья и читала некоторые арендные договоры и все подобные дела, которыми занимаются в конторе поместья. Но это дало мне лишь основу. Я хотела больше узнать о наших людях; и поэтому я взяла за правило время от времени посещать каждый дом, который нам принадлежит. Видеть людей и разговаривать с ними по-приятельски; настолько по-приятельски, насколько они мне позволяли, и, действительно, насколько это было возможно, учитывая мое положение. Потому что, дорогая тетя, я вскоре начала учиться – учиться так, что не оставалось никаких сомнений – каково мое положение. И поэтому я хочу больше узнать об их обычной жизни; о темной стороне так же, как и о светлой. Я хотела бы делать им добро. Я вижу, как мой дорогой папочка всегда был своего рода силой, помогавшей им, и я хотела бы продолжить его дело; продвинуть его дальше, если смогу. Но я должна знать.
Тетя слушала с возрастающим интересом и с растущим уважением, ибо она осознавала глубокую серьезность, скрывавшуюся за словами девушки и ее непосредственной целью. Ее голос и манера стали мягче:
– Но, моя дорогая, разве обязательно идти в суд, чтобы узнать все это? Результаты каждого дела становятся известны.
– Вот именно, тетя, – быстро ответила Стивен. – Магистраты должны выслушать обе стороны дела, прежде чем даже они смогут принять решение. Я тоже хочу услышать обе стороны! Если люди виновны, я хочу знать причину их вины. Если они невиновны, я хочу знать, какие обстоятельства могут заставить невиновность выглядеть как вину. В моей собственной повседневной жизни я могу столкнуться с подобными суждениями; и, конечно, справедливость требует, чтобы суждение было справедливым!
Она снова помолчала; в ее памяти всплыл тот разговор на церковном дворе, когда Гарольд сказал, что женщинам трудно быть справедливыми.
Мисс Роули тоже задумалась. Она все больше убеждалась, что в принципе девушка права. Но детали по-прежнему были ей отвратительны; сосредоточив свой ум на том месте, где она чувствовала твердую почву под ногами, она возразила:
– Но, дорогая Стивен, так много дел грязных и болезненных!
– Тем больше нужно знать о грязных вещах; если грязь играет такую важную роль в трагедии их жизней!
– Но есть дела, которые не входят в компетенцию женщины. Дела, которые касаются греха…
– Что вы имеете в виду под грехом? Разве всякое злодеяние не грех? – Старая леди смутилась. Не из-за самого факта, ибо она слишком много лет была хозяйкой большого дома, чтобы не знать кое-чего о предмете, о котором говорила, а из-за того, что ей приходилось говорить о таком с молодой девушкой, которую она так любила.
– Грех, моя дорогая, … грех женского проступка … как женщины … материнства, без брака! – Вся натура Стивен, казалось, восстала.
– Но, тетя, – тут же выпалила она, – вы сами показываете отсутствие того самого опыта, к которому я стремлюсь!
– Как? Что? – изумилась и ощетинилась старая леди. Стивен взяла ее руку и ласково сжала, говоря:
– Вы говорите о женском проступке, когда, конечно, это и мужской тоже. Почему-то не видно вины того, кто более виновен. Только для бедных женщин!.. И, дорогая тетя, именно таким бедным женщинам я хотела бы помочь… Не когда уже слишком поздно, а раньше! Но как я могу помочь, если не знаю? Хорошие девушки не расскажут мне, а хорошие женщины не станут! Вы сами, тетя, не хотели говорить на эту тему; даже со мной!
– Но, мое дорогое дитя, это не для незамужних женщин. Я сама никогда об этом не говорю, кроме как с замужними дамами.
Ответ Стивен сверкнул, как меч, и поразил, как меч:
– И все же вы не замужем! О, дорогая тетя, я не хотела и не хочу вас обидеть или как-то задеть. Я знаю, дорогая, вашу доброту и вашу отзывчивость ко всем. Но вы ограничиваетесь одной стороной!
Старшая леди перебила:
– Как это понимать? Одной стороной! Какой стороной?
– Стороной наказания. Я хочу знать причину того, что влечет за собой наказание. Наверняка в жизни девушки есть какой-то перекресток, где расходятся пути. Я хочу стоять там, если смогу, с предостережением в одной руке и помощью в другой. О! Тетя, тетя, разве вы не видите, что мое сердце в этом… Это наши люди; папа говорит, что они будут моими людьми; и я хочу знать их жизнь насквозь; понимать их нужды, и их искушения, и их слабости. Плохое и хорошее, что бы это ни было, я должна знать все; иначе я буду работать вслепую и могу навредить или сокрушить там, где надеялась помочь и поднять.
Пока она говорила, она казалась преображенной. Послеполуденное осеннее солнце лилось сквозь огромное окно и освещало ее так, что она казалась духом. Освещало ее белое прозрачное платье, так что оно словно обретало форму неземного одеяния; освещало ее рыжие волосы, так что они казались небесным венцом; освещало ее большие темные глаза, так что их черная красота утонула в волне славы.
Сердце старой женщины, которая любила ее больше всего на свете, забилось, и ее грудь вздымалась от гордости. Инстинктивно она произнесла:
– О, какое благородное, прекрасное создание! Конечно, ты права, и твой путь – путь Божий! – Со слезами, ручьями стекавшими по ее морщинистым щекам, она обняла девушку и нежно поцеловала. Все еще держа ее в объятиях, она дала ей мягкий совет, последовавший за ее минутой вдохновения.
– Но, дорогая Стивен, будь осторожна! Знание – обоюдоострый меч, и оно склонно становиться на сторону гордыни. Помни, каким было последнее искушение змея для Евы: «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло».
– Я буду очень осторожна, – серьезно сказала она, а затем добавила, словно подумав: – Конечно, вы понимаете, что мой мотив – приобретение знаний?
– Да? – ответила старая леди вопросительно.
– Не думаете ли вы, дорогая, что целью Евы было не столько приобретение знаний, сколько удовлетворение любопытства?
– Возможно, – сказала старшая леди с сомнением в голосе, – но, дорогая моя, кто нас просветит, что есть что? В таких вопросах мы склонны обманывать себя. Чем больше мы знаем, тем лучше мы способны обманывать других; а чем лучше мы способны обманывать других, тем лучше мы способны обманывать себя. Как я тебе говорю, дорогая, знание обоюдоостро и требует особой осторожности в его использовании!
– Правда! – задумчиво сказала Стивен. Долго после ухода тети она сидела и думала.
* * * * *
В очередной раз мисс Роули попыталась удержать Стивен от одного предприятия. Это случилось немного позже, когда Стивен захотела на несколько дней поехать в Университетский миссионерский дом в Ист-Энде Лондона. С тех пор как она побывала в Оксфорде, она поддерживала переписку со старой подругой своей матери. У этой леди была привычка проводить часть каникул в Миссии; и Стивен много переписывалась с ней по поводу работы. Наконец, она написала, что если бы могла, то хотела бы приехать и увидеть все своими глазами. Ответом было сердечное приглашение, вооружившись которым Стивен попросила отца разрешить ей поехать. Он тут же согласился. Он внимательно следил за развитием ее характера и с гордостью и удовлетворением видел, что со временем она, казалось, приобретала большую решительность, большую самостоятельность. Она все больше становилась воплощением его идеала. Не теряя ни капли своей женственности, она начинала смотреть на вещи скорее с мужской точки зрения, чем это обычно делают или могут делать женщины.
Когда она вернулась через неделю, она была полна новой серьезности. Через некоторое время это настолько изменилось, что ее прежние более легкие настроения вернулись, но казалось, что она никогда не теряла и никогда не потеряет влияния той недели горького опыта среди «затонувшей десятой части».
Влияние умственной работы проявилось в замечании, сделанном Гарольдом, когда он приехал домой на следующие университетские каникулы. Он вступил с ней в обсуждение одного эпизода в поместье:
– Стивен, ты учишься быть справедливой!
В тот момент она была огорчена этим замечанием, хотя и приняла его молча; но позже, поразмыслив над этим, она получила от него бесконечное удовольствие. Это действительно означало разделять мужские идеи и мыслить по-мужски. Это побудило ее к дальнейшим и более масштабным идеям и к большей терпимости, чем она когда-либо мечтала.
Из всех, кто любил ее, никто, казалось, не понимал так полно, как Летиция Роули, изменения в ее умственном настрое, или, скорее, его развития. Время от времени она пыталась отклонить или модифицировать определенные надвигающиеся силы, чтобы образовательный процесс, в котором она всегда принимала участие, продолжался в правильном направлении. Но она обычно обнаруживала, что девушка так тщательно изучила вопрос, что могла защитить свою позицию. Однажды, когда она осмелилась упрекнуть Стивен относительно ее взгляда на равенство женщины и мужчины, она почувствовала, как будто баркас Стивен действительно выходит в опасные воды. Случай возник следующим образом: Стивен, по выражению ее тети, «устанавливала закон» относительно положения замужней женщины, и мисс Роули, увидев удачную возможность для аргументации, заметила:
– Но что, если женщина не получит возможности выйти замуж?
Стивен посмотрела на нее мгновение, прежде чем с убеждением сказать:
– Это вина женщины, если она не получит возможности!
Старая леди улыбнулась, отвечая:
– Ее вина? Дорогая моя, а что, если ни один мужчина не сделает ей предложения? – Это показалось ей самой неразрешимой проблемой.
– Все равно ее вина! Почему бы ей самой не сделать ему предложение? – Лорнет ее тети упал от ужасающего изумления.
Стивен продолжала бесстрастно.
– Конечно! Почему бы и нет? Брак – это союз. Поскольку в глазах закона это гражданский договор, любая из сторон должна иметь право инициировать этот вопрос. Если женщина не вольна думать о мужчине во всех отношениях, как она может судить о пригодности их союза? А если она свободна в теории, почему бы ей не быть свободной предпринять, если необходимо, инициативу в столь важном для нее деле?
Старая леди буквально застонала и заломила руки; она была в ужасе от таких чувств. Думать так было уже дерзко; но выражать это словами!..
– О, моя дорогая, моя дорогая! – простонала она. – Будь осторожна в своих словах. Кто-нибудь может услышать тебя и не понять, как я, что ты говоришь теоретически.
Привычка Стивен к размышлениям помогла ей и здесь. Она видела, что тетя расстроена, и, не желая причинять ей чрезмерную боль, была готова отвлечь непосредственный источник ее страха. Она взяла руку, лежавшую у нее на коленях, и крепко сжала ее, улыбаясь в любящие старые глаза.
– Конечно, дорогая тетя, это теория. Но все же это теория, которой я очень твердо придерживаюсь!..
Тут ее осенила мысль, и она внезапно спросила:
– А у вас… Сколько у вас было предложений, тетя?
Старая леди улыбнулась; ее мысли уже переключились.
– Несколько, моя дорогая! Это было так давно, что я уже не помню!
– О нет, помните, тетя! Ни одна женщина никогда этого не забывает, независимо от того, что еще она может или не может помнить! Расскажите мне, пожалуйста!
Старая леди слегка покраснела, отвечая:
– Нет необходимости уточнять, моя дорогая. Пусть будет так: их было больше, чем ты сможешь сосчитать на пальцах правой руки!
– И почему вы им отказали?
Тон был улещивающим, и старшей женщине нравилось его слышать. Улещивание – это ухаживание молодых за старыми.
– Потому что, моя дорогая, я их не любила.
– Но скажите мне, тетя, никогда не было никого, кого вы действительно любили?
– Ах! Моя дорогая, это совсем другое дело. Это настоящая трагедия в жизни женщины.
В нахлынувших воспоминаниях она забыла о своих увещеваниях; ее голос наполнился естественным пафосом:
– Любить; и быть беспомощной! Ждать, и ждать, и ждать; с пылающим сердцем! Надеяться, и надеяться; пока время, кажется, не пройдет, и весь мир не застынет в твоем безнадежном горе! Знать, что одно слово может открыть небеса; и все же быть вынужденной молчать! Сдерживать взгляды, которые могли бы просветить; модулировать тона, которые могли бы предать! Видеть, как все, на что ты надеялась, уходит… к другой!…
Стивен наклонилась и поцеловала ее, затем, поднявшись, сказала:
– Я понимаю! Разве это не неправильно, тетя, что происходят такие трагедии? Разве этот взгляд не должен быть брошен? Почему этот тон должен быть сдержан? Почему нужно молчать, когда одно слово могло бы, предотвратило бы трагедию? Разве не может быть, тетя, что-то не так в нашей социальной системе, когда такое может случиться; и может случаться так часто?
Она выглядела одновременно безжалостной и неотразимой в гордости своей юношеской силы, и, с глазами, которые горели, не вспыхивали, как в страсти, а ровным светом, казалось, обжигающим, она продолжала:
– Когда-нибудь женщины должны будут узнать свою собственную силу, так же хорошо, как они выучили свою собственную слабость. Этому последнему их учат с колыбели; но никто, кажется, никогда не учит их, в чем заключается их власть. Они должны узнать это сами; и процесс, и результат самообучения нехороши. В Университетском поселении я узнала многое, от чего у меня болело сердце; но из этого, казалось, следовал какой-то урок во благо.
Она помолчала; и ее тетя, желая направить разговор к более высоким материям, спросила:
– И этот урок, дорогая Стивен?
Пылающие глаза повернулись к ней, так что она была взволнована ими, когда последовал ответ:
– Плохие женщины, кажется, знают мужчин лучше всех и способны влиять на них больше всего.
Они могут заставлять мужчин приходить и уходить по своей воле. Они могут вертеть, крутить и лепить их как захотят. И они никогда не стесняются высказывать свои собственные желания; просить то, что хотят. В их жизни нет трагедий негативного рода. Их трагедии уже произошли и прошли; и их власть остается. Почему хорошие женщины должны оставлять власть таким, как они? Почему жизни хороших женщин должны быть разрушены из-за условности? Почему в слепом следовании какому-то общественному фетишу жизнь должна терять свое очарование, свои возможности? Почему любовь должна напрасно съедать свое сердце? Придет время, когда женщины не будут бояться говорить с мужчинами так, как они должны говорить, как свободные и равные. Несомненно, если женщина должна быть равным и пожизненным спутником мужчины, самым близким ему – нет, единственным действительно близким ему: матерью его детей – она должна быть свободна с самого начала показать ему свою склонность так же, как и он ей. Не пугайтесь, дорогая тетя; у вас болят глаза!… Вот! Возможно, я сказала слишком много. Но в конце концов это всего лишь теория. Утешьтесь, дорогая тетя, тем, что я свободна и всем сердцем предана вам. Вам не нужно бояться за меня; я вижу, что говорят ваши дорогие глаза. Да! Я очень молода; возможно, слишком молода, чтобы думать о таких вещах. Но я думала о них. Обдумала их во всех возможных отношениях и фазах, которые могу себе представить.
Она внезапно остановилась; наклонившись, она взяла старую леди за руки и несколько раз нежно поцеловала ее, крепко прижав к себе. Затем, так же внезапно отпустив ее, она убежала, прежде чем та успела что-либо сказать.
Глава 8. Двуколка
Когда Гарольд получил степень, отец Стивен взял ее с собой в Кембридж. Ей очень понравилась эта поездка; действительно, все, казалось, складывалось абсолютно счастливо.
По возвращении в Норманстенд сквайр при первой же возможности отвел Гарольда одного в свой кабинет. Он говорил с ним с той сдержанностью, которая показалась бы странной для очень молодого человека:
– Я тут подумал, Гарольд, что пришло время тебе стать совершенно самостоятельным. Я более чем доволен, мой мальчик, тем, как ты прошел колледж; я уверен, это именно так, как хотел бы твой дорогой отец, и как это больше всего порадовало бы его. – Он помолчал, и Гарольд тихо сказал:
– Я очень старался, сэр, сделать то, что, как мне казалось, понравилось бы ему; и вам.
Сквайр продолжил более бодро:
– Я знаю это, мой мальчик! Я это хорошо знаю. И могу тебе сказать, что не последняя из радостей, которые мы все испытали от твоего успеха, – это то, как ты себя оправдал. Ты завоевал много почестей в университете и сохранил репутацию спортсмена, которой так гордился твой отец. Ну, я полагаю, в естественном порядке вещей ты бы занялся какой-нибудь профессией; и, конечно, если ты этого желаешь, можешь это сделать. Но если ты сможешь это устроить, я бы предпочел, чтобы ты остался здесь. Мой дом – твой дом, пока я жив; но я не хочу, чтобы ты чувствовал себя хоть в чем-то зависимым. Я хочу, чтобы ты остался здесь, если захочешь; но сделал это только потому, что сам этого желаешь. С этой целью я передал тебе поместье в Кэмпе, которое было подарком моего отца мне, когда я достиг совершеннолетия. Оно не очень большое; но оно обеспечит тебе собственное достойное положение и комфортный доход. И вместе с ним идет мое благословение, мой дорогой мальчик. Прими это как подарок от твоего отца и от меня!
Гарольд был очень тронут не только самим поступком, но и той любезной манерой, с которой это было сделано. Слезы стояли у него на глазах, когда он крепко пожал руку сквайра; его голос дрожал от чувства, когда он сказал:
– Ваша многочисленная доброта к сыну моего отца, сэр, я надеюсь, будет оправдана его любовью и преданностью. Если я говорю мало, то это потому, что я не совсем владею собой. Я постараюсь со временем показать, поскольку не могу сказать всего сразу, все, что я чувствую.
Гарольд продолжал жить в Норманстенде. Дом в Кэмпе оказался очаровательным коттеджем. Была нанята пара слуг, и время от времени он оставался там на несколько дней, желая привыкнуть к этому месту. Через пару месяцев все приняли новый порядок вещей; и жизнь в Норманстенде продолжалась почти так же, как и до того, как Гарольд уехал в колледж. В доме теперь был мужчина вместо мальчика: вот и все. Стивен тоже начинала становиться молодой женщиной, но их относительные позиции оставались прежними. Ее взросление, казалось, не производило заметной разницы ни для кого. Та, кто, возможно, заметила бы это больше всего, миссис Джерролд, умерла в последний год жизни Гарольда в колледже.
Когда настал день ежеквартального собрания мировых судей графства Норчестер, сквайр Роули, как обычно, договорился подвезти сквайра Нормана. Это было их привычкой уже много лет. Двум мужчинам обычно нравилось обсуждать собрание по дороге домой. Утро выдалось прекрасным для поездки, и когда Роули подлетел по аллее на своей двухколесной тележке с тремя великолепными гнедыми, Стивен выбежала на верхнюю ступеньку, чтобы посмотреть, как он подъедет. Роули был прекрасным кучером, и его лошади это чувствовали. Сквайр Норман был готов и, после поцелуя от Стивен, забрался в высокую тележку. Мужчины приподняли шляпы и попрощались. Слово от Роули; и лошади рванули с места. Стивен стояла и с восторгом смотрела на них; все было так солнечно, так ярко, так счастливо. Мир был сегодня так полон жизни и счастья, что казалось, этому никогда не будет конца; что ничего, кроме добра, не может случиться.
Гарольду позже тем утром тоже нужно было поехать в Норчестер; поэтому Стивен, у которой впереди был одинокий день, решила заняться всеми видами мелких личных дел. Они все встретятся за ужином, так как Роули должен был остановиться на ночь в Норманстенде.
Гарольд вовремя покинул клуб, чтобы поехать домой к ужину. Проезжая мимо окружного отеля, он остановился, чтобы спросить, не уехал ли сквайр Норман; и ему сказали, что тот уехал совсем недавно со сквайром Роули в его двухколесной тележке. Он быстро поехал дальше, думая, что, возможно, догонит их и поедет с ними. Но гнедые знали свое дело и делали его. Они сохранили свой отрыв; только на вершине Северного холма, в пяти милях от Норчестера, он увидел их вдалеке, летящих по ровной дороге. Он знал, что теперь их не догонит, и поэтому поехал несколько более неторопливо.
Шоссе Норчестера, миновав деревню Брэклинг, поворачивает направо за большой группой дубов. Отсюда дорога снова поворачивает налево, образуя двойную кривую, а затем тянется к Норлинг Парва по ровной дороге на несколько миль, прежде чем достигает крутого поворота вниз с холма, обозначенного как «Опасно для велосипедистов». От последней деревни отходит проселочная дорога через холм, которая является кратчайшим путем в Норманстенд.
Когда Гарольд повернул за угол в тени дубов, он увидел запоздавшего дорожного рабочего, окруженного несколькими разинувшими рты крестьянами, которые взволнованно указывали вдаль. Человек, который, конечно, знал его, крикнул ему, чтобы он остановился.
– Что случилось? – спросил Гарольд, осаживая коня.
– Это гнедые сквайра Роули понесли его. Трое, все в ряд, и несутся как ветер. Сквайр крепко держал вожжи, но лошадям, похоже, было все равно. Они взбесились и понесли. Передовая испугалась кучи камней вон там, и остальные за ней.
Не говоря ни слова, Гарольд натянул поводья и коснулся лошади кнутом. Животное словно поняло и рванулось вперед, покрывая землю с невероятной скоростью. Гарольд не был склонен к тревогам, но здесь могла быть серьезная опасность. Тройка резвых лошадей в легкой быстроходной тележке, несущихся в испуге, могла в любой момент закончиться катастрофой. Никогда в жизни он не ехал быстрее, чем по дороге в Норлинг Парва. Далеко впереди, на повороте, он то и дело видел бегущую фигуру. Что-то случилось. Его сердце похолодело: он знал, как если бы видел, как высокая тележка кренится на одном колесе за углом, пока обезумевшие лошади неслись дальше; один резкий рывок слишком сильный, и мгновенная реакция в момент крушения!..
С бьющимся сердцем и горящими глазами на белом лице он помчался вперед.
Все оказалось правдой. У обочины дороги на внутреннем повороте лежала перевернутая тележка со сломанными оглоблями. Лошади, все еще не оправившиеся от испуга, ржали и били копытами вдоль дороги. Каждую держали несколько человек.
А на траве лежали две фигуры, там, куда их выбросило. Роули, который, конечно, сидел с внешней стороны, выбросило дальше всех. Его голова ударилась о верстовой столб, стоявший на пустыре перед канавой. Не было нужды кому-либо говорить, что у него сломана шея. То, как лежала его голова набок, и скрюченные, безжизненные конечности, все красноречиво говорило само за себя.
Сквайр Норман лежал на спине, вытянувшись. Кто-то поднял его в сидячее положение, а затем снова опустил, выпрямив конечности. Поэтому он не выглядел так ужасно, как Роули, но признаки приближающейся смерти были видны в хриплом дыхании, в струйках крови, сочившейся из ноздрей, ушей и рта. Гарольд тут же опустился рядом с ним на колени и осмотрел его. Все, кто был рядом, знали его и отошли. Он ощупал ребра и конечности; насколько он мог определить на ощупь, ни одна кость не была сломана.
Как раз в этот момент приехал местный врач, за которым кто-то побежал, в своей двуколке. Он тоже опустился на колени рядом с пострадавшим, быстрого взгляда ему хватило, чтобы понять, что ухаживать нужно только за одним пациентом. Гарольд встал и стал ждать. Врач поднял глаза, качая головой. Гарольд едва подавил стон, поднимавшийся в его горле. Он спросил:
– Это неизбежно? Следует ли привезти сюда его дочь?
– Сколько времени ей понадобится, чтобы добраться?
– Возможно, полчаса; она не потеряет ни минуты.
– Тогда вам лучше послать за ней.
– Я поеду тотчас же! – ответил Гарольд, поворачиваясь, чтобы вскочить на своего коня, которого держали на дороге.
– Нет, нет! – сказал доктор, – пошлите кого-нибудь другого. Вам лучше остаться здесь самому. Он может прийти в сознание прямо перед концом; и он может захотеть что-то сказать!
Гарольду показалось, что в его ушах зазвонил большой колокол. – Перед концом! Боже мой! Бедная Стивен!.. Но сейчас не время для скорби или для размышлений об этом. Это придет позже. Нужно сделать все возможное; а для этого нужна холодная голова. Он позвал одного из парней, которого знал как хорошего наездника, и сказал ему:
– Садись на мою лошадь и скачи как можно быстрее в Норманстенд. Немедленно пошли к мисс Норман и скажи ей, что она нужна немедленно. Скажи ей, что произошел несчастный случай; что ее отец жив, но она должна приехать тотчас же, без малейшего промедления. Пусть она лучше вернется на моей лошади, это сэкономит время. Она поймет из этого важность времени. Быстро!
Парень вскочил в седло и в мгновение ока умчался. Пока Гарольд говорил, доктор велел мужчинам, которые, привыкнув к несчастным случаям на охоте, сняли ворота с петель и держали их наготове, поднести их ближе. Затем под его руководством сквайра положили на ворота. Ближайший дом был всего в сотне ярдов; туда его и отнесли. Его положили на кровать, и затем доктор провел более тщательный осмотр. Когда он встал, он выглядел очень серьезным и сказал Гарольду:
– Я очень боюсь, что она не успеет вовремя. Это кровотечение из ушей означает разрыв мозга. Однако это снимает давление, и он может прийти в сознание перед смертью. Вам лучше быть рядом с ним. В настоящее время ничего нельзя сделать. Если он вообще придет в сознание, это произойдет внезапно. Он снова потеряет сознание и, вероятно, умрет так же быстро.
Вдруг Норман открыл глаза и, увидев Гарольда, тихо сказал, оглядываясь:
– Что это за место, Гарольд?
– Дом Мартина – Джеймса Мартина, сэр. Вас привезли сюда после несчастного случая.
– Да, я помню! Я сильно пострадал? Я ничего не чувствую!
– Боюсь, что так, сэр! Я послал за Стивен.
– Послал за Стивен! Неужели я умираю? – Его голос, хотя и слабый, был серьезным и ровным.
– Увы! Сэр, боюсь, что так! – Гарольд упал на колени, говоря это, и взял его, своего второго отца, на руки.
– Это близко?
– Да.
– Тогда слушай меня! Если я не увижу Стивен, передай ей мою любовь и благословение! Скажи, что последним вздохом я молил Бога хранить ее и сделать счастливой! Ты ей это скажешь?
– Скажу! Скажу! – Он едва мог говорить из-за душивших его чувств. Затем голос продолжил, но медленнее и слабее:
– И Гарольд, мой дорогой мальчик, ты позаботишься о ней, не так ли? Береги ее и лелей ее, как если бы ты был действительно моим сыном, а она твоей сестрой!
– Буду. Да поможет мне Бог! – Последовала пауза в несколько секунд, показавшихся бесконечно долгими. Затем более слабым голосом сквайр Норман снова заговорил:
– И Гарольд – наклонись – я должен прошептать! Если случится так, что со временем вы и Стивен обнаружите, что между вами возникла другая привязанность, помни, что я одобряю это – моим предсмертным вздохом. Но дай ей время! Я доверяю это тебе! Она молода, и весь мир перед ней. Пусть она выберет… и будь верен ей, если это будет другой! Это может быть трудная задача, но я доверяю тебе, Гарольд. Бог благословит тебя, мой другой сын! – Он слегка приподнялся и прислушался. Сердце Гарольда подскочило. Послышался быстрый стук копыт скачущей лошади… Отец радостно произнес:
– Вот она! Это моя храбрая девочка! Дай Бог, чтобы она успела вовремя. Я знаю, что это будет значить для нее в будущем!
Лошадь внезапно остановилась.
Быстрый топот ног по коридору, и затем Стивен, полуодетая, в накинутом пеньюаре, ворвалась в комнату. С мягкой ловкостью леопарда она бросилась на колени рядом с отцом и обняла его. Умирающий жестом попросил Гарольда приподнять его. Когда это было сделано, он нежно положил руку на голову дочери, говоря:
– Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром! Бог благослови и сохрани тебя, мое дорогое дитя! Ты всю свою жизнь была моей радостью и утешением! Я расскажу твоей матери, когда встречусь с ней, обо всем, чем ты была для меня! Гарольд, будь добр к ней! Прощай – Стивен!… Маргарет!…
Его голова склонилась, и Гарольд, осторожно опустив его, опустился на колени рядом со Стивен. Он обнял ее; и она, повернувшись к нему, положила руку ему на грудь и зарыдала так, словно ее сердце разрывалось.
* * * * *
Тела двух сквайров привезли в Норманстенд. Роули давным-давно сказал, что если умрет неженатым, то хотел бы лежать рядом со своей сводной сестрой, и что будет правильно, если, поскольку Стивен станет новой сквайрихой Норвуда, ее прах со временем упокоится рядом с его. Когда ужасная весть о смерти ее племянника и Нормана дошла до Норвуда, мисс Летиция поспешила в Норманстенд так быстро, как только могли доставить ее лошади.
Ее приезд был невыразимым утешением для Стивен. После первого сокрушительного взрыва горя она погрузилась в острую безнадежность. Конечно, ей помогло то, что рядом был Гарольд, и она была благодарна и за это. Но это не сохранилось в ее памяти благодарности таким же образом. Конечно, Гарольд был рядом с ней в беде! Он всегда был; всегда будет.
Но утешение, которое могла дать тетя Летиция, было более позитивным.
С того часа мисс Роули осталась в Норманстенде. Стивен хотела ее рядом; и она хотела быть со Стивен.
После похорон Гарольд, с инстинктивной деликатностью чувств, уехал жить в свой собственный дом; но он приходил в Норманстенд каждый день. Стивен так давно привыкла советоваться с ним обо всем, что в их отношениях не произошло заметных изменений. Даже необходимые дела не воспринимались как что-то новое.
И так внешне в Норманстенде все продолжалось почти так же, как и до трагедии. Но долгое время у Стивен случались приступы горя, которые были настоящей мукой для тех, кто ее любил.
Тогда ее долг перед соседями стал своего рода страстью. Она не щадила себя ни днем, ни ночью. С быстрой интуицией она улавливала потребности любого сложного случая, который ей представлялся, и с такой же быстротой бралась за решение.
Ее тетя видела и одобряла. Стивен, чувствовала она, таким образом по-настоящему исполняет свой женский долг. Старая леди начала тайно надеяться и почти верить, что та отбросила те теории, воплощения которых в жизнь она так боялась.
Но теории не умирают так легко. Именно от теории практика черпает свою истинную силу, а также свое направление. И если бы только знала старая женщина, чья жизнь протекала под более строгим контролем, Стивен безжалостно и до конца следовала ее теориям.
Глава 9. Весна
Прошли месяцы после смерти отца, пошел второй год, прежде чем Стивен начала осознавать одиночество своей жизни. Теперь у нее не было никого, кроме тети; и хотя старая леди обожала ее, и Стивен отвечала ей полной взаимностью, одни лишь годы, разделявшие их, делали невозможным то товарищество, которого жаждет юность. Жизнь мисс Роули осталась в прошлом. Жизнь Стивен была в будущем. А одиночество – это чувство, которое незваным гостем приходит в сердце.
Стивен чувствовала свое одиночество повсюду. В прежние времена Гарольд всегда был поблизости, и было доступно товарищество равного возраста и понимания. Но теперь его сдержанность, продиктованная ее собственными интересами и желанием ее отца, причиняла ей боль. Гарольд изо всех сил сдерживал себя и по-своему страдал своего рода молчаливое мученичество. Он любил Стивен каждой клеточкой своего существа. День за днем он шел к ней с нетерпеливым шагом; день за днем он покидал ее с тоской, которая сжимала ему сердце и, казалось, превращала яркость дня в мрак. Ночь за ночью он часами ворочался, думая, думая, гадая, наступит ли когда-нибудь время, когда ее поцелуи станут его… Но муки и ужасы ночи сказывались на его днях. Казалось, само действие мысли, тоски, давало ему все новую и новую самообладание, так что он был способен своим поведением выполнять взятую на себя задачу: дать Стивен время выбрать себе спутника жизни. В этом заключалась его слабость – слабость, проистекавшая из незнания им мира женщин. Если бы у него когда-нибудь был любовный роман, пусть даже самый безобидный, он бы знал, что любовь требует положительного выражения. Недостаточно вздыхать, желать, надеяться и тосковать в одиночестве. Стивен инстинктивно чувствовала, что его сдержанная речь и манера поведения объясняются холодностью – или, скорее, доверчивым ослаблением обожания – братства, к которому она всегда привыкла. В то время, когда внутри нее проявлялись и расширялись новые силы; когда ее растущие инстинкты, взращенные чувствами и страстями юной природы, давали ей почувствовать другие силы, новые и старые, расширяющиеся вне ее; в то время, когда сердце девушки жаждет новых впечатлений и новых горизонтов, и зов пола бессознательно действует в ней, Гарольд, к которому, вероятно, первым обратилось бы ее сердце, своими усилиями лучше всего показать свою любовь, сделал себя quantité négligeable (фр. незначительной величиной).
Таким образом, Стивен, чувствуя, как в ней трепещут смутные желания расцветающей женственности, не имела ни мыслей, ни знаний об их характере или их конечной направленности. Она была бы потрясена, ужаснулась, если бы тот логический процесс, который она так свободно применяла к менее личным вопросам, был использован по отношению к ее собственной интимной природе. В ее случае логика, конечно, действовала бы в определенных пределах; и поскольку логика является сознательным интеллектуальным процессом, она осознала, что ее целью был мужчина. Мужчина – в абстракции. «Мужчина», а не «мужчина». Дальше этого она не могла пойти. Не будет преувеличением сказать, что она никогда, даже в самых заблудших мыслях, не применяла свои рассуждения и даже не мечтала об их последствиях в отношении обязанностей, ответственности или последствий наличия мужа. У нее было смутное желание более молодого товарищества, и именно того рода, которое естественно представляло для нее наибольший интерес. На этом мысль останавливалась.
Из всех ее знакомых мужчин в это время отсутствовал лишь один. Леонард Эверард, который некоторое время назад окончил курс в колледже, жил то в Лондоне, то на континенте. Само его отсутствие лишь подогревало интерес к нему со стороны его старой подруги по играм. Образ его грации и привлекательности, его властности и мужской силы, рано запечатлевшийся в ее сознании, начал выгодно отличаться от реальных качеств ее других друзей; по крайней мере, тех из них, кто входил в круг ее личных интересов. «Разлука заставляет сердце биться сильнее». В сердце Стивен была лишь крошечная горчичное зернышко привязанности. Но для нее забрезжили новые огни; и все они, в большей или меньшей степени, по очереди освещали воспоминание о том милом, своенравном, властном мальчике, который теперь, под воздействием каждого нового света, становился все выше ростом и мужественнее. Стивен довольно хорошо знала других насквозь. Обычная смесь добра и зла, силы и слабости, целеустремленности и нерешительности вполне укладывалась в рамки ее собственных чувств и наблюдений. Но этот мужчина представлял для нее своего рода загадку; и, как таковой, занимал в ее мыслях место, далеко превосходящее его собственную значимость.
В движении в какой-либо форме заключается жизнь; и даже идеи растут, когда бьется пульс и ускоряется мысль. Стивен давно вынашивала идею полового равенства. Долгое время, из уважения к чувствам тети, она не говорила об этом; ибо старая леди в целом вздрагивала от любого намека на нарушение условностей. Но хотя ее внешнее выражение, будучи таким образом сдержанным, помогло подавить или минимизировать возможности внутреннего размышления, эта идея никогда не покидала ее. Теперь, когда пол, сознательно или бессознательно, стал доминирующим фактором в ее мыслях, дремлющая идея пробудилась к новой жизни. Она считала, что если мужчины и женщины равны, то женщина должна иметь равные права и возможности с мужчиной. Она полагала абсурдным общепринятое правило, согласно которому такое дело, как предложение руки и сердца, должно быть исключительно прерогативой мужчины.
И тут к ней пришла, как всегда приходит к женщине, возможность. Возможность, самый жестокий, самый безжалостный, самый беспощадный, самый коварный враг, который когда-либо был у женственности. Вот представилась возможность проверить ее собственную теорию; доказать себе и другим, что она права. Они – «они», будучи безличными противниками или неверующими в ее теорию, – увидят, что женщина может сделать предложение так же, как и мужчина; и что результат будет хорошим.
Частью самодовольства, и, возможно, не самой безобидной его частью, является то, что оно обладает собственной возрастающей или множащейся силой. Желание сделать увеличивает способность сделать; а желание и сила, объединившись, находят новые способы для проявления силы. До сих пор влечение Стивен к Леонарду было смутным, туманным; но теперь, когда теория указала путь к его использованию, оно тотчас же начало становиться сначала определенным, затем конкретным, затем существенным. Как только идея стала возможностью, простое течение времени сделало остальное.
Ее тетя видела – и неправильно понимала. Урок ее собственной юности не был применен; даже те долгие часы, дни и недели, на которые она намекала, говоря о трагедии жизни, которая, по ее словам, была и ее собственной трагедией: «любить и быть беспомощной. Ждать, и ждать, и ждать, с пылающим сердцем!»
Стивен вовремя распознала беспокойство тети о ее здоровье и сумела оградить себя от любопытства ее любящей доброты. Ее молодость, живость, способность приспосабливаться и та способность к лицедейству, которая есть в каждом из нас и которой она обладала в полной мере, пришли ей на помощь. С небольшим усилием, основанным на кажущемся согласии с взглядами тети, она сумела убедить старую леди в том, что ее начинающаяся лихорадочная простуда уже достигла кризиса и проходит. Но, играя свою маленькую роль, она приобрела определенные знания. Весь этот инстинкт самосохранения был новым; к добру или к худу, она сделала еще один шаг не только в познании, но и во владении той двойственностью, которая так необходима в условной жизни женщины.
О! Если бы мы только видели! Если бы мы только могли видеть! Вот женщина, одаренная в юности всеми благами и прелестями, которые могли даровать боги, которая боролась против условностей; и которая все же нашла в условностях самое сильное и самое готовое оружие защиты.
Почти две недели решимость Стивен оставалась неподвижной, не продвигаясь и не отступая; это было поистине затишье ее решимости. Она боялась идти дальше. Не боялась в смысле обычного страха, а испытывала сопротивление девичьих инстинктов; тех инстинктов, которые естественны, но чье использование, а также чья сила нам неизвестны.
Глава 10. Решимость
Следующие несколько дней Стивен провела в необычайном беспокойстве. Она почти окончательно решила проверить свою теорию равенства полов, предложив Леонарду Эверарду жениться на ней; но трудность заключалась в том, как это сделать. Она хорошо понимала, что полагаться на случайную встречу для получения возможности не годится. В конце концов, дело было слишком серьезным, чтобы допускать возможность легкомыслия. Бывали моменты, когда она думала написать ему и таким образом изложить свои чувства и желания; но каждый раз, когда такая мысль приходила ей в голову, она тут же отбрасывалась. Однако в последние несколько дней она стала более склонна даже к такому способу действий. Горячка роста не утихала. Наконец наступил вечер, который она провела совершенно одна. Мисс Летиция уехала в Норвуд, чтобы разобраться там с делами, и осталась на ночь. Стивен увидела в ее отсутствии возможность для размышлений и действий и сказала, что у нее болит голова и она останется дома. Тетя предложила отложить свой визит. Но Стивен и слышать об этом не хотела; и таким образом вечер остался в ее распоряжении.
После ужина в своем будуаре она принялась за написание письма Леонарду, которое хотя бы отчасти передало бы ее чувства и желания по отношению к нему. В глубине ее сердца, которое время от времени бешено колотилось, таилась тайная надежда, что, как только идея будет высказана, Леонард сделает остальное. И когда она подумала об этом «остальном», на нее нашла томная мечтательность. Она представила, как он придет к ней, полный любви, страстного томления; как она постарается сначала сохранить независимый вид, который скроет ее тайное волнение до того момента, когда она сможет отдаться в его объятия и рассказать ему все. Часами она писала письмо за письмом, уничтожая их так же быстро, как писала, обнаруживая, что лишь качается маятником между откровенностью и холодностью. Некоторые письма были настолько холодны по тону, что она чувствовала, что они сведут на нет ее цель. Другие были настолько откровенно теплы в выражении – уважения, как она это называла, – что с пылающим румянцем она тут же уничтожала их у свечи перед собой.
Наконец она приняла решение. Точно так же, как в младенчестве, она поняла, что противоборствующие силы слишком сильны для нее; она изящно уступила. Не следует прямо в письме касаться этого дела. Она напишет Леонарду лишь с просьбой о встрече. Затем, когда они будут вместе, не опасаясь помех, она изложит ему свои взгляды.
Она дошла до «Дорогой мистер Леонард», когда встала, говоря себе:
– Я не буду спешить. Прежде чем писать, я должна выспаться!
Она взяла роман, который читала днем, и продолжала читать его до самого сна.
Той ночью она не спала. Дело было не в том, что она волновалась. Напротив, она чувствовала себя спокойнее, чем в последние несколько дней; после долгих тревожных раздумий она приняла решение о определенном образе действий. Поэтому ее бессонница не была мучительной. Скорее, она не хотела спать, чем не могла. Она лежала неподвижно, бесконечно размышляя;
…грезя такими снами, которые составляют священную тайну ее возраста и пола.
Утром она не чувствовала себя хуже после своего бдения. Когда к обеду вернулась тетя Летиция, Стивен рассказала обо всех мелочах, о которых должна была сообщить. После чая она осталась одна и смогла заняться тем, что, как она чувствовала, касалось непосредственно ее самой. За ночь она точно решила, что скажет Леонарду; и поскольку ее конкретное решение выдержало испытание дневным светом, она осталась довольна. Начальные слова с самого начала вызвали у нее некоторое беспокойство; но после нескольких часов размышлений она пришла к выводу, что обращаться к получателю письма как «Дорогой мистер Эверард» при данных обстоятельствах вряд ли подойдет. Единственным возможным оправданием ее нетрадиционного поступка было то, что между ними уже существовала дружба, многолетняя близость, с самого детства; что между ними уже было знание и понимание друг друга; что то, что она делала и собиралась сделать, было лишь следующим шагом в череде событий, начавшихся давным-давно.
Она решила, что лучше отправить письмо по почте, а не с посыльным, так как последний лишал ее всякой конфиденциальности в этом деле.
Письмо было следующим:
«Дорогой Леонард, – Будет ли тебе удобно встретиться со мной завтра, во вторник, в половине двенадцатого на вершине Кестер-Хилл? Я хочу поговорить о деле, которое может тебя заинтересовать, и там будет более уединенно, чем в доме. К тому же в тени на вершине холма будет прохладнее. —
Искренне твоя, Стивен Норман».
Отправив письмо, она занялась обычными делами в Норманстенде, и ничто не вызвало у тети ни подозрений, ни замечаний относительно нее.
В своей комнате той ночью, отослав горничную, она села подумать, и все дневные опасения вернулись. Одно за другим они были побеждены одним защитным аргументом:
«Я вольна делать, что хочу. Я сама себе хозяйка; и я не делаю ничего плохого. Даже если это нетрадиционно, что с того? Бог знает, в мире и так достаточно неправильных, безнадежно и неизменно неправильных условностей. В конце концов, кто больше всего связан условностями? Те, кто называют себя «светскими»! Если Условность – бог светского общества, то честным людям давно пора выбрать другого!»
* * * * *
Леонард получил письмо за завтраком. Он не придал ему особого значения, так как одновременно получил и другие письма, некоторые из которых, пусть и менее приятные, имели более непосредственную важность. В последнее время его засыпали напоминаниями об оплате от торговцев; ибо во время его университетской жизни и после нее он погряз в долгах. Умеренное содержание, которое давал ему отец, он рассматривал как наличные деньги на случайные расходы, но все остальное брал в кредит. Действительно, он начинал серьезно тревожиться о будущем, потому что его отец, который однажды оплатил его долги, и в то время, когда они были сравнительно незначительными, сказал, что ни при каких обстоятельствах не будет платить другие. Поэтому он не был против возможности на несколько часов уехать из дома; от самого себя – от тревог, возможностей. Утро выдалось знойным, и он ворчал себе под нос, отправляясь в путь через лес.
* * * * *
Стивен проснулась свежей и в хорошем настроении, несмотря на бессонную ночь. Когда юность и сила берут верх, ночной сон не имеет большого значения, ибо однажды приведенная в тонус система не позволяет себе расслабиться. Замечательным признаком ее сильной натуры было то, что она даже не проявляла нетерпения, а спокойно и твердо ждала часа, на который назначила встречу Леонарду Эверарду. Правда, чем ближе подходило время, тем меньше проявлялась ее твердость. А непосредственно перед встречей она была просто девушкой – и ничем больше; со всей девичьей робостью, девичьей неуверенностью в себе, девичьим самоотречением, девичьей податливостью.
В более чисто личном аспекте своего предприятия усилия Стивен были более осознанными. Едва ли красивая женщина, стремясь к совершенству, обращается за помощью к зеркалу и не осознает своих целей. Должна существовать, по крайней мере, одна доминирующая цель: достижение успеха. Стивен не пыталась отрицать свою красоту; напротив, она дала ей полную свободу. В ее взгляде, когда она в последний раз смотрелась в зеркало, чувствовалось определенное торжество; удовлетворение ее желания показать себя наилучшим образом. Зеркало отразило очень очаровательную картину.
Возможно, в зеркале есть товарищество, особенно для женщины; что отражение себя – это воодушевляющее присутствие, личность, которая лучше, чем реальность неоцененного незнакомца. Несомненно, когда Стивен закрыла дверь и оказалась в обшитой панелями прихожей, которая была лишь слабо освещена высокими окнами с обоих концов, ее мужество, казалось, тут же испарилось.
Вероятно, впервые в жизни, покинув тень длинного коридора и выйдя на лестницу, залитую светом полуденного солнца, Стивен почувствовала себя девушкой – «девушкой», выступающей как некий синоним слабости, мнимой или действительной. Страх, в какой бы форме или степени он ни приходил, является жизненно важным качеством и должен двигаться. Он не может стоять на месте; если его не отбросить назад, он должен прогрессировать. Стивен почувствовала это и, хотя вся ее натура противилась этой задаче, заставила себя приложить усилия к подавлению. Ей, как она чувствовала, доставило бы восхитительное удовольствие отказаться от всяких усилий; погрузиться в томность самоотречения.
Женщина в ней действовала; ее пол дал о себе знать!
Она обернулась и посмотрела вокруг, словно чувствуя, что за ней наблюдают. Затем, убедившись, что она одна, она пошла своей дорогой с твердым намерением; с блестящими глазами и горящими щеками – и бьющимся сердцем. Сердцем, целиком женским, поскольку оно сильнее всего трепетало от предчувствия, когда враг, Мужчина, был целью ее самой решительной атаки. Она знала, что должна продолжать двигаться; что она не должна останавливаться или медлить; иначе вся ее решимость рухнет. И поэтому она спешила вперед, боясь, что случайная встреча с кем-либо может поставить под угрозу ее цель.
Она шла по слабо заросшим мхом тропинкам; через луга, богатые цветущими травами и множеством красных летних полевых цветов. И так вверх по тропе, проложенной в естественном углублении скалы, которая возвышалась над Кестер-Хилл и образовывала прочное основание для группы больших деревьев, служивших ориентиром на многие мили вокруг. В первой части своего пути между домом и вершиной холма она старалась держать свою цель на расстоянии вытянутой руки; достаточно будет встретиться лицом к лицу с ее ужасами, когда придет время. Тем временем этот вопрос имел такое огромное значение, что ничто другое не могло занять его место; все, что она могла сделать, это приостановить активную часть мыслительных способностей и оставить разум лишь восприимчивым.
Но когда она прошла через тонкую полосу низкорослых дубов и буков, ограждавших последний из пышных лугов, и увидела группу деревьев на вершине холма, она бессознательно собралась с духом, как молодой полк перестает дрожать, когда перед ним возникает враг. Ее глаза больше не смотрели вниз; они были подняты, и подняты гордо. Стивен Норман была тверда в своем намерении. Подобно древней женщине, ее ноги стояли на лемехах, и она не отступит.
Приближаясь к назначенному месту, она замедляла шаг все больше и больше; женщина в ней бессознательно проявлялась. Она не будет первой на свидании с мужчиной. Однако бессознательность – это не то рабочее качество, на которое можно положиться в плане выносливости; приближение к месту встречи снова напомнило ей о странном характере ее предприятия. Она решилась на это; обманывать себя было бесполезно. То, что она задумала сделать, было гораздо более нетрадиционным, чем прийти на встречу первой. Задерживаться было глупо и слабо. Последняя мысль придала ей сил; и именно торопливой походкой, которая одна могла бы выдать ее внимательному наблюдателю, она вошла в рощу.
