Почему мы помним. Как раскрыть способность памяти удерживать важное
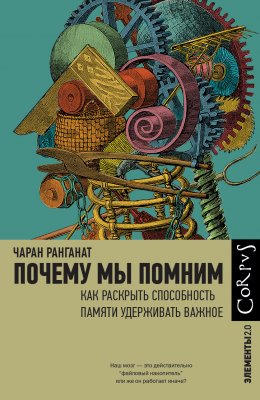
Charan Ranganath
Why We Remember
Unlocking Memory's Power to Hold on to What Matters
© Charan Ranganath, 2024
© А. Петрова, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО «Издательство Аст», 2025
Издательство CORPUS ®
Введение
Встречайте свое помнящее «я»
Моя способность вспомнить текст песни восьмидесятых значительно превышает мою способность вспомнить, зачем я зашел на кухню.
Анонимный интернет-мем
Задумайтесь на секунду о том, кто вы прямо сейчас.
Подумайте о своих близких людях, о работе, географическом положении, текущих жизненных обстоятельствах. Что в вашем жизненном опыте самое неизгладимое – что сделало вас таким, какой вы есть? Каковы ваши самые глубокие убеждения? Какие решения – большие и маленькие, хорошие и плохие – привели вас сюда, в этот момент?
На эти решения, как правило, влияет – а иногда и полностью определяет их – память. Перефразируем нобелевского психолога Дэнни Канемана: живет ваше «переживающее „я“», но решения принимает «помнящее „я“»[1].
Иногда это решения незначительные, бытовые: что съесть на обед, стиральный порошок какой марки взять с магазинной полки. А иногда это решения, круто поворачивающие жизнь: какую выбрать карьеру, где жить, во что верить, как растить детей, какими людьми себя окружить. Более того, память определяет то, как вы будете относиться к этим решениям. Канеман и другие в рамках множества исследований показали, что счастье и удовлетворенность решениями зависит не от того, что вы испытали, а от того, что вы помните.
Коротко говоря, ваше помнящее «я» постоянно – и всеобъемлюще – задает ваше настоящее и будущее: оно воздействует практически на каждое принимаемое вами решение. Это не всегда плохо, но из этого следует, что стоит разобраться в помнящем «я» и механизмах его далеко идущего воздействия.
Однако зачастую мы не замечаем, насколько память пронизывает все наши мысли, действия, эмоции и решения – до тех пор, пока она нас не подводит. Когда я рассказываю новым знакомым, что занимаюсь исследованиями памяти, меня чаще всего спрашивают: «Почему я такой забывчивый?» Я и сам часто задаюсь этим вопросом. Каждый день я забываю имена, лица, разговоры – даже чем я должен заниматься в какой-то конкретный момент. Мы все иногда впадаем в отчаяние, будучи не в силах что-то вспомнить, – а с возрастом эта проблема начинает пугать всерьез.
Серьезная потеря памяти, несомненно, изнурительна, но обычные наши заботы и жалобы на повседневную забывчивость в основном обусловлены устоявшимися заблуждениями. Вопреки распространенному мнению, главное, что стоит вынести из науки о памяти, – это не то, что можно или даже следует помнить больше. Загвоздка в первую очередь не в памяти, а в наших неверных представлениях о том, что такое память.
От нас не требуется помнить все свое прошлое. Механизмы памяти строились не для того, чтобы мы вспомнили, как звали того-то парня, которого мы встретили на такой-то тусовке. Как говорил британский психолог сэр Фредерик Бартлетт, один из столпов в истории исследований памяти, «буквальное вспоминание предельно неважно»[2].
Так что не стоит спрашивать: «Почему мы забываем?» – вместо этого стоит спросить: «Почему мы помним?»
Мое путешествие к ответу на этот вопрос началось ветреным осенним днем в 1993 году. Мне было 22 года, я учился в аспирантуре по клинической психологии в Северо-Западном университете и только что разработал свое первое исследование памяти – хотя как раз память-то исследовать и не предполагалось. Я изучал клиническую депрессию, и мы собирались экспериментально проверить теорию о влиянии грусти на внимание. Я вошел в лабораторию Cresap, в наушниках орала группа Hüsker Dü (что со шведского переводится как «Ты помнишь?») – я хотел собраться с духом перед своим первым электроэнцефалографическим экспериментом. Крепить электроды к голове было непросто: у студентки-испытуемой были пышные кудри. Полчаса я пялился в монитор, завороженный волнами электрической активности ее мозга, а потом пришло время снимать электроды и наводить порядок. Я старался изо всех сил, но она все равно ушла из лаборатории с коркой густого проводящего геля в волосах.
Эксперимент заключался в том, чтобы навести грусть на эмоционально стабильных людей, а затем наблюдать, повлияет ли настроение на то, станут ли испытуемые обращать больше внимания на отрицательно заряженные слова (например, «травма», «мучения») по сравнению с нейтральными (например, «банан» или «дверь»). Чтобы опечалить добровольцев, мы ставили им замедленную классическую музыку, в том числе «Русь под игом монгольским» Сергея Прокофьева из фильма «Александр Невский»[3]: эта вещь так эффективно вызывает грусть, что ее задействовали в целом ряде исследований клинической депрессии. Включив фоновую музыку, мы просили добровольцев вспомнить эпизод или событие из прошлого, когда им было грустно. Мы предполагали, что музыка поможет вспомнить грустные события, а память о грустных событиях, в свою очередь, опечалит людей. Мы оказались правы – срабатывало раз за разом.
Остальная часть эксперимента провалилась, но меня зацепило то, что у нас получилось воспользоваться памятью людей о прошлом, чтобы повлиять на то, как они себя чувствовали и смотрели на вещи в настоящем. Дело было не просто в том, что мысли о болезненном событии из прошлого наводили на них грусть: само состояние грусти позволяло им легче вспоминать другие грустные события. С тех пор меня завораживало, как сильно структуры мозга, лежащие в основе того, что мы называем «вспоминанием», влияют на наши мысли и чувства в настоящий момент, а следовательно, и на то, как мы движемся в будущее.
Можно вызвать воспоминания в лаборатории при помощи траурной музыкальной пьесы, но в реальном мире они иногда подкрадываются к нам в самые неожиданные моменты и из самых неожиданных источников – слово, лицо, запах или вкус. Мне вот хватает двух аккордов песни «Born in the USA», чтобы окунуться в поток воспоминаний об одноклассниках из старшей школы, которые регулярно отпускали в мою сторону разнообразные расистские эпитеты.
Звуки, запахи и виды, которые мы воспринимаем в настоящем, могут отправить нас и к счастливым временам в нашей памяти. Песня инди-рок-группы fIREHOSE неизменно возвращает меня на первое свидание с Николь, моей будущей женой. Запах джекфрута напоминает о прогулке на пляже с дедом в Мадрасе. При виде ярко расписанной стены возле небольшого паба в Беркли под названием «Звездный плуг» я вновь оказываюсь в студенчестве, когда мы сыграли знаменательный концерт с нашей рок-группой Plug-In Drug (согласен, название было ошибкой[4]).
Впечатления, которые мне запомнились, и чувства, которые они вызывают, связаны с одним из фундаментальных принципов, на которые опирается почти вся моя работа – как в роли клинического психолога, так и в роли нейробиолога: память – далеко не только архив прошлого: это призма, сквозь которую мы видим себя, других и весь мир. Это соединительная ткань, лежащая в основе всего, что мы говорим, думаем и делаем. Мой выбор профессии был, несомненно, обусловлен и моим опытом иммигранта в первом поколении, который дал мне стойкое чувство инаковости. До такой степени, что иногда мне кажется, будто я инопланетянин и копаюсь в человеческих мозгах, чтобы попытаться разобраться, почему же люди себя так ведут.
Чтобы по-настоящему оценить причудливые способы, какими человеческий мозг улавливает прошлое, нужно задавать более глубокие вопросы: почему и как память определяет нашу жизнь. Разнообразные механизмы, участвующие в работе памяти, эволюционировали, чтобы отвечать все новым требованиям выживания. Нашим предкам приходилось ставить на первое место информацию, которая помогала им подготовиться к будущему. Они должны были помнить, какие ягоды ядовиты, какие люди скорее помогут, а какие – предадут, в каком месте по вечерам дует нежный ветерок, где есть питьевая вода и какая река кишит крокодилами. Эти воспоминания помогали им дожить до следующего ужина.
С этой точки зрения становится очевидно: то, что мы часто считаем недостатками памяти, является и ее характерными свойствами. Мы забываем, потому что памяти необходимо отдать предпочтение важной информации – держать ее под рукой, чтобы воспользоваться, как только понадобится. Наши воспоминания податливы и иногда неточны, потому что мозг формировался для ориентирования в постоянно меняющемся мире. Место, где раньше можно было вдоволь прокормиться, может теперь оказаться безжизненной пустыней. Человек, которому мы доверяли, теперь может представлять угрозу. Человеческой памяти требовалось скорее быть гибкой[5] и подстраиваться под контекст, нежели быть неизменной и фотографически точной.
Так что эта книга не о том, как запомнить все. В следующих главах я скорее раскрою вам глубины механизмов памяти, чтобы вы смогли понять, как помнящее «я» влияет на ваши отношения, решения и идентичность, а также на социальный мир, в котором вы обитаете. Поняв, насколько широко простирается власть помнящего «я», вы сможете сосредоточиться на запоминании того, что хотите удержать в памяти, и пользоваться прошлым для ориентировки в будущем.
В первой части этой книги я познакомлю вас с фундаментальными механизмами работы памяти, с принципами, по которым мы забываем, и с тем, как запоминать важное. Но это лишь начало пути. Во второй части мы еще глубже погрузимся в скрытые силы памяти, определяющие то, как мы трактуем прошлое и формируем восприятие настоящего. Наконец, в третьей части мы исследуем то, как податливая природа памяти позволяет подстраиваться под изменчивый мир, и рассмотрим более обширные следствия того, как наши собственные воспоминания связаны с чужими.
На этом пути вы познакомитесь с людьми, на чью жизнь кардинально повлияли специфические особенности памяти: кто-то помнит слишком много, кто-то не может запоминать новое, кого-то мучают воспоминания о прошлом, кто-то серьезно пострадал от ошибок чужой памяти. Их истории, как и более обычные истории вроде моей, демонстрируют, как (иногда) невидимая рука памяти ведет нас по жизни.
Память – это не только то, кем мы были: это и то, кто мы есть, и кем мы можем стать – как отдельные люди и как общество. История того, почему мы помним, – это история человечества. И эта история начинается с нейронных связей, которые связывают воедино прошлое с настоящим, а настоящее – с будущим.
Часть первая
Основные принципы памяти
1. Где мой разум?
Почему мы что-то помним, а что-то забываем
Может быть, память моя так плоха потому, что я всегда делаю не меньше двух дел одновременно. Проще забыть то, что ты сделал лишь наполовину или на четверть.
Энди Уорхол
В течение жизни нам приходится воспринимать намного больше информации, чем организм в принципе способен сохранить. По некоторым прикидкам, средний американец получает 34 гигабайта (или 11,8 часа) информации в день[6]. Почти непрерывный поток изображений, слов и звуков льется на нас из смартфонов, интернета, книг, радио, телевидения, электронной почты и социальных сетей, не говоря уже о непосредственном опыте, который мы получаем в физическом мире – неудивительно, что мы помним не все. Удивительно скорее, что мы вообще запоминаем хоть что-то. Человеку свойственно забывать. Но забывание – чуть ли не основной источник наших хлопот и огорчений.
Сам собой возникает вопрос: «Почему одни события мы помним, а другие забываем?»
Не так давно мы с Николь отмечали тридцатилетие знакомства. По этому поводу мы откопали старые семейные видеозаписи, которые годами собирали пыль, и отдали в оцифровку. Особенно меня интересовали съемки с дней рождения нашей дочери Майры. Включая их, я ждал, что нахлынет поток воспоминаний. Но обнаружил, что почти все видел будто впервые. И ведь снимал я сам – но не помнил этих праздников как отдельных событий, за одним исключением.
Когда Майра была маленькой, мы устраивали ей дни рождения в таких местах, как зоопарк Сакраменто, местный естественнонаучный музей, гимнастическая студия или крытый скалодром. Там детям есть чем заняться, они не теряются, есть бесперебойный доступ к еде и сладким напиткам, и в течение забронированных двух часов им предлагают разнообразные развлечения. На этих праздниках я тоже участвовал в веселье, но в основном сосредоточивался на том, чтобы запечатлеть драгоценные мгновения – для нас с Николь, на память.
Когда Майре исполнялось восемь, я решил попробовать кое-что новенькое. В детстве мы с братом Рави праздновали дни рождения дома. Нам было очень весело, а родителям не приходилось особенно тратиться. Так что в тот год я последовал своим панковским убеждениям «сделай сам» и устроил день рождения Майры у нас дома. Все, кому когда-нибудь приходилось устраивать детский день рождения, знают, что главная цель – занять детей. Майра увлекалась художествами, и в соседнем городке я нашел магазин, где можно было купить керамические заготовки в форме кошек: дети могли бы расписать их глазурью, а потом обжечь и забрать домой. К тому же я подвесил во дворе пиньяту в виде Губки Боба – казалось, дело в шляпе.
Ох, как же я ошибался. Кошек расписали минут за пятнадцать. Торта надо было дожидаться еще несколько часов, дети начинали маяться, и я начинал паниковать. Я вывел их во двор и предложил по очереди лупить пиньяту – она отказывалась лопаться. Пришлось брать дело в свои руки: я достал из гаража клюшку для гольфа и пробил огромную дыру. Повсюду полетели конфеты, а дети буквально накинулись на Губку Боба из папье-маше – смахивало на сцену из сериала «Ходячие мертвецы». Одна девочка заприметила в траве сникерс-мини и совершила ради него достойный олимпийской гимнастки прыжок через весь двор.
Для торта все еще было слишком рано, так что мне пришла в голову светлая идея предложить им поиграть в перетягивание каната со старой веревкой, которая попалась мне в гараже. Накануне прошел дождь, дети поскальзывались в грязи и траве. Помню, как огляделся в какой-то момент – ошалевшие от сладкого дети гонялись друг за другом по всему двору, кто-то жаловался на ожоги от веревки, пара человек по очереди добивала останки Губки Боба клюшкой для гольфа – и подумал, как быстро день рождения восьмилетнего ребенка переходит от расписывания керамики к «Повелителю мух». То был не лучший миг моей жизни, но как раз его я помню в мучительных подробностях.
Не все наши впечатления одинаково важны. Одни совершенно незначительны, другие мы надеемся сохранить навсегда. К сожалению, даже бесценные моменты иногда ускользают сквозь пальцы. Тогда я мог бы поклясться, что запомню все дни рождения Майры – так почему же этот так выделялся, а другие праздничные записи смотрелись как повторы давно забытого сериала?
Как так выходит, что опыт, который кажется столь запоминающимся, пока мы его проживаем, в итоге сводится к смутному, едва различимому образу?
Хоть мы и склонны считать, что можем и должны запоминать все, что хотим, – на самом деле мы созданы, чтобы забывать: это один из главных уроков, которые следует вынести из науки о памяти. Как мы узнаем в этой главе, отдавая себе отчет в том, как мы запоминаем и почему забываем, мы сможем сохранить воспоминания о самых важных для нас моментах.
Наладить нужные связи
Научные исследования памяти в том виде, в котором мы знаем их сегодня, начал в конце XIX века немецкий психолог Герман Эббингауз[7]. Предусмотрительный и методичный ученый пришел к выводу, что для понимания памяти вначале нужно научиться объективно ее измерять. Эббингауз не стал расспрашивать людей о субъективных воспоминаниях вроде детских праздников, а разработал новый подход к измерению запоминания и забывания. И, в отличие от современных психологов, которым доступна роскошь собирать данные со студентами-добровольцами, бедняге Эббингаузу приходилось работать в одиночку. Словно безумный ученый из готического ужастика, он подвергал себя нудным экспериментам, в которых заучивал тысячи бессмысленных трехбуквенных слов – триграмм из гласной между двумя согласными. Замысел состоял в том, что память можно измерить, сосчитав число триграмм – DAX, REN, VAB и т. п., – которые удастся выучить и запомнить.
Остановимся на минутку, чтобы оценить масштаб кропотливых трудов Эббингауза. В трактате 1885 года «О памяти: вклад в экспериментальную психологию» он писал, что мог запомнить только 64 триграммы за сорокапятиминутную сессию, так как «к концу сессии часто возникали утомление, головная боль и другие симптомы»[8]. Его титанический труд принес плоды: эксперименты выявили некоторые фундаментальные свойства того, как мы запоминаем и забываем. Одно из его главных достижений – кривая забывания: он первым графически изобразил, как быстро мы забываем информацию. Эббингауз обнаружил, что всего спустя 20 минут после заучивания списка триграмм он уже не помнил половины. Через день забывалось две трети заученного. К его экспериментальным методам есть некоторые вопросы[9], но выводы остаются в силе: многое из того, что вы переживаете прямо сейчас, будет забыто меньше чем за день. Почему?
Чтобы ответить на этот вопрос, начнем с того, как вообще формируются воспоминания. Каждая зона человеческого неокортекса – складчатой массы серого вещества на внешней поверхности мозга – состоит из огромных скоплений нейронов[10], по некоторым оценкам, их примерно 86 миллиардов. Для масштаба – это более чем вдесятеро больше населения Земли. Нейроны – базовая единица мозга. Эти специализированные клетки отвечают за передачу в различные области мозга сообщений о сенсорной информации, воспринимаемой из мира. Все, что мы чувствуем, видим, слышим, обоняем, к чему прикасаемся, каждый наш вздох, каждое движение (простите, не удержался)[11] происходит благодаря тому, что нейроны общаются между собой. Если вы чувствуете, что влюбились, разозлились или проголодались – это поговорили друг с другом ваши нейроны. Они могут работать и в фоновом режиме, регулируя важные, но даже не осознаваемые функции – например, сердцебиение. Они работают даже когда мы спим, наполняя голову безумными снами.
Нейробиологи до сих пор разбираются в том, как именно все эти нейроны работают сообща, но на данный момент нам известно достаточно, чтобы строить компьютерные модели, учитывающие основные принципы работы мозга. По сути, нейроны работают по принципу демократии. Как у каждого человека есть только один голос, чтобы повлиять на результаты выборов – так и каждый нейрон играет лишь крошечную роль в любых нейронных расчетах. В условиях демократии мы вступаем в политические союзы, чтобы продвигать собственные интересы; так поступают и нейроны – объединяются, чтобы чего-то добиться в мозге. Канадский нейробиолог Дональд Хебб, чья работа значительно продвинула наше понимание роли нейронов в научении, называл эти объединения клеточными ансамблями.
В нейробиологии, как и в политике, все зависит от нужных связей.
Чтобы лучше понять, как все это устроено, давайте взглянем, что происходит, когда новорожденный ребенок слышит человеческую речь. Еще не зная языка, младенцы слышат разницу между разными звуками, но не знают, как извлекать из этих звуков лингвистически значимую информацию. К счастью, с первых минут нашей жизни мозг принимается разбираться в том, что мы слышим, и пытается разбивать непрерывный поток звуковых волн на отдельные слоги. Что в итоге услышит ребенок, зависит от результатов «выборов», происходящих в областях мозга, где обрабатывается речь. Возможно, ребенок слышит звук, но в комнате шумно, и не совсем понятно, сказали «спать» или «стать». Где-то в речевых центрах мозга крупная коалиция нейронов отдает голос за «спать», коалиция поменьше выбирает «стать», а оставшееся меньшинство голосует за других кандидатов. Голоса подсчитываются меньше чем за полсекунды, и в итоге ребенок понимает, что пора – спать.
Здесь в дело вступает научение. После «выборов» победившая коалиция стремится укрепить свои позиции. Нейроны, которые поддерживали победителя слишком слабо, нужно наставить на путь истинный, а те, которые не поддержали его вовсе, нужно устранить. Связи между нейронами, выбравшими «спать», укрепляются, а связи с нейронами, голосовавшими не за тот звук, ослабляются. Но бывает и так, что ребенок отчетливо слышит слово «стать». Связи между нейронами, поддерживающими «стать», укрепятся, а их связь с нейронами, выбиравшими ошибочное слово, ослабнет. В таких послевыборных перетасовках «партии» все больше разделяются, нейроны становятся еще более привязанными к ансамблям, которые они и так поддерживали, и все больше отделяются от тех, к которым относились прохладнее. От этого «выборы» становятся все более эффективными, и их итог становится очевиден еще в начале голосования.
Детский мозг особенно пластичен и постоянно перестраивается, оптимизируя восприятие окружающей среды. За первые несколько лет жизни младенцы достигают огромных успехов в том, чтобы выделять отдельные слоги, превращая непрерывный поток звука в осмысленную речь – это происходит благодаря постоянной реорганизации связей между нейронами. Но по мере того как эти нейроны образуют устойчивые коалиции, различающие звуки, они становятся менее чувствительными к различиям между звуками, которые не фигурируют в данном языке. Нейроны будто выбирают из меньшего числа кандидатов на основании нескольких ключевых факторов.
Способность младенцев реагировать на новый опыт изменением связей в неокортексе называется нейропластичностью. Мы прекрасно знаем, что она уменьшается по мере взросления, хотя в новостях и телепередачах научные данные представляют в несколько искаженном виде[12]: нам подают гнетущую перспективу того, как с возрастом нейропластичность уходит безвозвратно. На этом выстраивают рекламу компании, продающие товары для отсрочки неизбежного ухудшения памяти. Да, после двенадцати лет нейронные союзы вокруг знакомых звуков действительно упрочиваются достаточно, чтобы стало труднее заучивать новые виды слогов с той же скоростью. Поэтому начать учить китайский или хинди в сорок лет труднее, чем при погружении в языковую среду с детства. К счастью, взрослому мозгу и без таблеток, порошков и добавок хватает пластичности. По мере приобретения нового опыта связи в мозге постоянно преобразуются, чтобы улучшать восприятие, движение и мышление. Более того, если взглянуть за рамки базового восприятия (что мы видим, слышим, обоняем, к чему прикасаемся, что чувствуем на вкус) и перейти к высшим функциям (оценки, суждения, решение задач), мы увидим, что мозг обладает удивительной пластичностью и результаты нейронных «выборов» оказываются весьма спорными.
Представьте, что вы провели неделю в Дели за изучением хинди и хотите заказать в ресторане воды. Вы запомнили слово всего час назад, а оно уже потерялось. К сожалению, пока вы не наберетесь опыта, многие слова на хинди будут звучать для вас похоже. Клеточный ансамбль для нужного слова (paani) еще не обрел прочных связей, и в обилии конкурирующих вариантов многие нейроны не знают, на чьей они стороне. Это та же задача, которую мы решаем, пытаясь вспомнить более сложные впечатления, например, прекрасно организованный день рождения моей дочери в зоопарке Сакраменто. Чтобы добраться до того, что мы хотим вспомнить, нужно найти путь к нужным нейронным союзам – но часто случается так, что союз, в котором скрывается нужное воспоминание, вступает в жесткую конкуренцию с другими коалициями, содержащими ненужные вам в данный момент воспоминания. Иногда конкуренция не так страшна, но, если союзов много и воспоминания в них похожие, борьба может оказаться напряженной и безусловного победителя может так и не выявиться. В исследованиях памяти конкуренция между разными воспоминаниями называется интерференцией: именно ее следует винить в большей части нашего повседневного забывания[13]. Ключ к тому, чтобы избежать интерференции, – формировать воспоминания, которые способны победить конкурентов; к счастью, это нам вполне по силам.
Внимание и намерение
Представим себе сцену из повседневной жизни. Вы возвращаетесь домой, вставляете ключ в замок и открываете дверь, одновременно проверяя почту в телефоне. Стоит ступить на порог, как к вам кидается со слюнявыми объятиями жизнерадостная, недрессированная, недавно взятая из приюта собака. Из комнаты дочери грохочет музыка – в мозг ввинчивается привязчивая, нагруженная синтезаторами попсовая мелодия из восьмидесятых. Едва держась на ногах, вы заходите в кухню, где мерзкий запах напоминает о том, что вчера вы забыли вынести мусор. Укол резкой боли напоминает, что нужно приложить лед к подвернутой пару недель назад лодыжке.
Теперь, не оглядываясь, попробуйте вспомнить, где оставили ключи. Если вспомнили, что они остались в замке, – прекрасно, но, если не получилось, знайте: вы не одиноки. Вы просто отвлеклись на все остальное. Натиск входящей информации загромождает путь к воспоминанию о конкретном событии[14]. Хуже того: пытаясь вспомнить, куда подевали ключи, мы перебираем воспоминания о всех предыдущих местах, где их оставляли, и обстоятельствах, в которых это происходило – будь то накануне, на прошлой неделе или в прошлом году; интерференции по горло. Именно поэтому чаще всего мы теряем вещи, которыми постоянно пользуемся: ключи, телефон, очки, кошелек, даже машину. С учетом такой конкуренции, как нам вообще удается о них помнить?
Представьте себе память в виде письменного стола, заваленного обрывками бумаги. Если на одном из обрывков записать пароль от онлайн-банка, то для того, чтобы потом его найти, потребуется немало усилий и удачи. Похожим образом дело обстоит и с попытками вспомнить. Если у нас образуется много воспоминаний, устроенных сходным образом – как те бессмысленные триграммы, которые заучивал Эббингауз, – найти нужное воспоминание становится во сто крат сложнее. Но если записать пароль на ярко-розовой бумажке, он будет выделяться среди остальных заметок на столе, и найти его будет нетрудно. Подобным образом работает и память. Легче всего вспомнить самые приметные впечатления, потому что они выделяются на фоне всего остального.
Как же создать воспоминания, которые будут выделяться в замусоренном сознании? Ответ: внимание и намерение. Внимание – это способ, которым наш мозг расставляет приоритеты среди всего, что мы видим, слышим, о чем думаем. В каждый конкретный момент мы можем обращать внимание на множество вещей, творящихся вокруг. События из окружающей среды нередко завладевают нашим вниманием без спросу. В сцене, которую я описал ранее, вы, быть может, ненадолго обратили внимание на ключи, прежде чем столкнуться со всем, что нахлынуло на вас, стоило открыть дверь. Даже если стараться обращать внимание на самое важное, что необходимо запомнить (например, на ключи, которые понадобятся через час, когда вы спохватитесь, что опаздываете встретить близкого человека в аэропорту), это само по себе еще не значит, что образуется приметное впечатление, которое преодолеет интерференцию от всего, что ворвалось в поле внимания (собачьи восторги, запах из мусорки в кухне, песня группы Kajagoogoo из комнаты дочери).
Здесь в дело вступает намерение. Чтобы создать воспоминание, к которому потом удастся вернуться, следует намеренно направить внимание на конкретный объект. В следующий раз, прежде чем положить предмет, который часто теряется (например, ключи), отведите минутку, чтобы сосредоточиться на чем-то уникальном для этого времени и места, например, на цвете столешницы или стопке нераспечатанных писем рядом с ключами. Немного осознанного намерения – и мы сможем побороть природную склонность мозга приглушать память о том, что делаем регулярно, и создать уникальные воспоминания, у которых будет шанс выстоять против помех.
Центральный исполнитель
В повседневной жизни мы, как правило, неплохо справляемся с тем, чтобы сосредоточиваться на важном. За это следует благодарить область мозга, расположенную прямо за лобной костью, – префронтальную кору. Префронтальная кора будет упомянута в этой книге еще много раз, потому что она играет главную роль во множестве будничных побед и поражений нашей памяти, и одна из ее многочисленных функций – помогать нам в целенаправленном обучении.
Префронтальная кора у человека занимает примерно треть поверхности коры головного мозга, но в ходе развития нейробиологии как науки ее функции были не слишком ясны. В 1960-х считалось в порядке вещей удалять префронтальную кору для лечения шизофрении, депрессии, эпилепсии и любых видов антиобщественного поведения. Эта грубая процедура, известная под названием «лоботомия», часто проводилась так: под местной анестезией пациенту втыкали в глазницу прямо над глазом хирургический инструмент, напоминающий ледоруб, и, по сути, возили им туда-сюда, чтобы разрушить побольше префронтальной коры. Вся процедура занимала минут десять. После успешной лоботомии – часто случались и провальные, после которых наступали серьезные осложнения, иногда смерть, – пациенты могли нормально ходить и говорить и не страдали потерей памяти, но становились спокойнее и послушнее – будто бы «исцелялись». Однако лоботомия не исцеляла психическое заболевание: вместо этого она оставляла пациентов в состоянии «зомби» – апатичными, покорными, лишенными мотивации.
Примерно в то же время небольшая, но увлеченная группа нейробиологов, изучавших префронтальную кору (она входит в область покрупнее – лобные доли), стала понимать, как важна эта зона мозга. Они отмечали, что повреждение префронтальной коры вызывало нарушения мышления и обучения[15], но какова ее функция, было все еще неясно. С 1960-х до 1980-х годов в научных статьях подчеркивалась загадочная природа этой области, заголовки выглядели как «Загадка функции лобных долей у человека», «Тайна лобных долей», «Лобные доли: неизведанные территории мозга».
В вопросах человеческой памяти префронтальная кора не получает должного признания. Если вы читали какие-нибудь книги или популярную прессу о памяти, вы, скорее всего, сталкивались с упоминанием гиппокампа. Он имеет форму морского конька, скрывается в середине мозга и считается главной зоной, определяющей, забудете вы что-то или запомните. Эта область мозга действительно играет важную роль в памяти – об этом в следующей главе. Но пусть многие нейробиологи и превозносят гиппокамп как королеву бала, в моем сердце особое место занимает префронтальная кора. Именно с нее начался мой путь в исследованиях памяти, и она играет ключевую роль в определении того, что сохранится, а что будет утрачено.
В учебниках писали, что префронтальная кора и гиппокамп – два разных вида систем памяти в мозге. Префронтальная кора рассматривалась как система рабочей, или оперативной памяти[16], которая удерживает информацию в доступе временно – как оперативная память наших компьютеров. Гиппокамп же считался системой долговременной памяти, позволяющей сохранять воспоминания более-менее насовсем – вроде жесткого диска. Некоторые нейробиологи представляли рабочую память чем-то вроде сортировочного пункта, где поступающая информация удерживается, пока ее не выбросят или не отправят на долгосрочное хранение в гиппокамп. Как мы скоро увидим, это очень упрощенное представление, не учитывающее обширного влияния префронтальной коры на все стороны мыслительной деятельности.
К середине девяностых исследователи стали применять методы визуализации мозга, чтобы разобраться, как определенные области мозга, например префронтальная кора, участвуют в рабочей памяти. Один из этих методов – позитронно-эмиссионная томография, или ПЭТ, – выявляет, где в мозге усиливается кровоток: людям делают инъекцию раствора, содержащего радиоактивный маркер, и помещают их в сканер, улавливающий радиоактивное излучение. Первые исследования показали, что кровоток усиливался в областях, которые активно работали и требовали больше глюкозы. Эту информацию ученые использовали для картирования мозга: людям в сканере давали задания, задействующие разные функции – язык, восприятие, память.
ПЭТ обходится дорого, да и лучше бы по возможности избегать радиоактивных инъекций, поэтому на смену этой технологии вскоре пришла функциональная магнитно-резонансная томография, или фМРТ, благодаря которой исследователи смогли измерять, как меняется магнитное поле в зависимости от кровотока (это возможно благодаря гемоглобину – молекуле, содержащей железо: когда она не переносит кислород, она чувствительна к магнитным полям).
В стандартном фМРТ-исследовании испытуемый лежит на кушетке в отверстии магнита, внутри трубы с мощностью магнитного поля в 1,5 или 3 теслы[17] (то есть в 30 или 60 тысяч раз сильнее магнитного поля Земли), вокруг головы – шлемообразная катушка, которой и сканируется мозг. К катушке прикреплено зеркало, расположенное под таким углом, чтобы испытуемому было видно экран с экспериментальными стимулами, а в руки ему дают панель с кнопками, которые нужно нажимать в ответ на эти стимулы. В ушах у испытуемого беруши, потому что во время сбора данных фМРТ-сканер издает непрерывный громкий звук. Знаю, описание не самое привлекательное, но меня все устраивает – мне вот в сканере вообще прекрасно спится.
Чтобы исследовать рабочую память при помощи фМРТ[18], добровольцу могут поочередно показывать ряд цифр на экране и просить запомнить последнюю. Каждый раз, как появляется новая цифра, ему нужно определить, совпадает ли она с предыдущей. Для решения таких задач задействуется рабочая память: доброволец должен удерживать в памяти только последнюю цифру и раз за разом выкидывать ее и заменять следующей. В разных вариантах задачи предлагалось удерживать в памяти две последние цифры и т. д. Чем больше цифр нужно было помнить, тем больше активности наблюдалось в префронтальной коре. Выглядело как убедительное подтверждение того, что префронтальная кора участвует во временном удержании информации.
Когда я учился в аспирантуре Северо-Западного университета, эти исследования меня восхищали, но я не мог соотнести их с тем, что наблюдал в клинике Эванстона, где стажировался в нейропсихологии. Многих пациентов в эту клинику направляли врачи, заподозрившие повреждение мозга. Моей задачей было проводить когнитивные тесты, чтобы способствовать диагностике и лечению. У некоторых пациентов были трудности с языком (афазия), намеренным движением (апраксия), распознаванием объектов или лиц (агнозия). У некоторых были затруднения памяти (амнезия), похожие на те, что возникают при ранних стадиях болезни Альцгеймера, эпилепсии или заболеваниях, при которых ненадолго прерывается доступ кислорода к мозгу. Эти симптомы заметить было нетрудно. А еще встречались люди с повреждениями префронтальной коры[19].
Иногда повреждение было очевидным: у прокурора случился инсульт, строителя ударило по голове брусом, водителю автобуса хирургическим путем удалили опухоль мозга. У некоторых пациентов был рассеянный склероз, при котором иммунная система сходит с ума и нападает на нейронные связи в префронтальной коре (а также во всем остальном мозге). И все эти пациенты жаловались на проблемы с памятью. Но в тестах на память они показывали отличные результаты. Дело было в чем-то другом. Они запросто удерживали в памяти целый ряд цифр и повторяли его, они прекрасно справлялись с задачей, имитирующей электронную игру «Саймон», где они смотрели, как я нажимаю на разные фигуры, а потом повторяли последовательность в том же порядке. Другими словами, в рабочей памяти информация удерживалась. Сложности возникали в тех тестах, где требовалось сосредоточиться в присутствии отвлекающих факторов. Например, мы могли попросить пациентов удерживать в памяти цифры, появляющиеся в центре экрана, но не обращать внимания на цифры, вспыхивающие слева или справа. Многие отвлекались на боковые цифры и переставали следить за центральными.
Еще пациенты с лобными нарушениями не всегда успешно справлялись с заданиями на долговременную память, в рамках которых мы просили запомнить длинный список слов, таких как «корица» и «имбирь». Если затем мы просто просили вспомнить слова, без дополнительных подсказок, пациенты припоминали только несколько слов. Но если их спрашивали, было ли в списке конкретное слово, они могли с легкостью распознать, что да – было. Пациенты запоминали слова[20], но не могли добраться до воспоминания без подсказок. Одной из причин трудностей было то, что они не пользовались никакими стратегиями запоминания, полагаясь лишь на то, что притягивало их внимание в тот момент. Здоровые же испытуемые, напротив, применяли стратегии, которые помогали и вспоминать, и распознавать (например, сосредоточиться на том, что многие слова обозначали специи).
Я протестировал множество пациентов и понял, что люди с нарушениями в префронтальной коре справляются с заданиями, когда у них есть четкие инструкции и их ничего не отвлекает, – трудности возникают, если нужно спонтанно применять стратегии запоминания или удерживать фокус на задаче, когда за внимание пациента соперничают отвлекающие факторы. Эти наблюдения убедили меня в том, что, пусть префронтальная кора и не «занимается» памятью, ее повреждения влияют на функционирование памяти в реальном мире.
Окончив в 1999 году клиническую подготовку, я полностью переключился на исследования и стал работать на медицинском факультете Пенсильванского университета с доктором Марком Д'Эспозито. Марк стремился расширить горизонты возможного и разработать более совершенные технологии фМРТ для изучения рабочей памяти. Но, в отличие от большинства других специалистов по когнитивной нейробиологии, он успевал работать и в лаборатории, и в клинике (где был лечащим поведенческим неврологом). Марк прекрасно видел пропасть, пролегавшую между обсуждениями префронтальной коры в среде нейробиологов и трудностями, которые он наблюдал у пациентов с ее повреждениями. Один из его пациентов – дальнобойщик по имени Джим – не мог работать и вообще самостоятельно жить после инсульта, повлекшего серьезные нарушения функции лобных долей. Жена Джима объясняла: у него проблемы с памятью. Посмотрев фильм, он сразу забывал большие куски и пересматривал все по два-три раза подряд. Он забывал побриться, почистить зубы – хотя раньше был весьма прилежен в этих вопросах. Но за нарушениями памяти проглядывало нечто другое. Дело было не в том, что он забыл, как делаются эти дела: он был вполне способен почистить зубы, но, оставшись один, не проявлял в этом инициативу или отвлекался на что-то другое. Джим был чем-то похож на моих испытуемых в клинике Эванстона, которые не пытались пользоваться стратегиями, чтобы запоминать слова.
Многие сотрудники лаборатории Марка проводили фМРТ-исследования рабочей памяти, и наши данные неизменно подкрепляли представление о том, что в задней части мозга располагаются клеточные ансамбли, которые, похоже, хранят воспоминания о конкретных видах информации. Одна область может активироваться, когда человека просят держать в уме чье-то лицо, другая – когда просят держать в уме изображение дома. Активность префронтальной коры была не слишком чувствительна к тому, что нужно было держать в уме[21], да и к выполнению задания на рабочую память вообще. Заметную активность префронтальная кора показывала тогда[22], когда человеку приходилось намеренно сосредоточиваться на задании, сопротивляться отвлекающим факторам или применять стратегии запоминания.
Наши исследования префронтальной коры сокращали разрыв между тем, что обсуждалось в научных статьях, и тем, что мы наблюдали в клинической практике. В учебниках пишут, что мозг состоит из специализированных систем памяти и каждая соответствует определенной задаче – но такое представление не дает нам общей картины. Префронтальная кора не имеет конкретной специализации для определенного вида памяти. Исследования с помощью фМРТ и наблюдения за пациентами подтверждали другую теорию[23], согласно которой префронтальная кора – это центральный исполнитель, «генеральный директор» мозга.
Проще всего понять эту теорию, если вообразить себе мозг как большую корпорацию. В ней есть множество специализированных отделов: разработка, бухгалтерия, маркетинг, продажи и так далее. Работа генерального директора – не в том, чтобы самому быть специалистом, а в том, чтобы руководить компанией, координируя работу всех отделов и направляя всех к общей цели. Похожим образом все обстоит и в мозге: некоторые его области довольно узко специализированы, а задача префронтальной коры – руководить ими, координируя их деятельность на благо общего дела.
После лоботомии или поражения лобных долей в результате инсульта специализированные области мозга остаются на месте, но перестают работать сообща, с единой целью. Люди с поражениями префронтальной коры кажутся совершенно здоровыми, если дать им задание на конкретный вид памяти с четкими инструкциями и в среде без отвлекающих факторов. Но без префронтальной коры они не способны намеренно самостоятельно учиться и не могут эффективно пользоваться тем, что помнят, чтобы чего-то добиться в реальном мире. Они могут пойти в магазин за молоком и отвлечься на красиво разложенные чипсы. Они могут знать, что предстоит визит к врачу, но не справятся применить какую-нибудь стратегию, чтобы о нем не забыть (например, поставить напоминание на телефоне).
Кормление и уход за префронтальной корой
Префронтальная кора так занимает меня отчасти потому, что нарушения памяти у пациентов с лобными повреждениями напрямую связаны с затруднениями, с которыми многие из нас сталкиваются в обычной жизни. На работу префронтальной коры может влиять множество факторов и помимо физических повреждений[24], а от этого тоже возникают проблемы с памятью. К примеру, многие пациенты, которых я тестировал в нейропсихологической клинике в Эванстоне, получили направление к нам в связи с подозрением на болезнь Альцгеймера, но тесты показали, что на самом деле у них клиническая депрессия. У людей старшего возраста депрессия может напоминать ранние стадии Альцгеймера – как было, например, с одним учителем-пенсионером, который пришел ко мне на прием. Он всегда гордился остротой ума, но теперь с трудом мог сосредоточиться и многое забывал. МРТ повреждений мозга не выявила, но его мышление работало не сильно лучше, чем у пациентов с повреждениями префронтальной коры. Ни ему, ни его врачу не пришло в голову, что когнитивные проблемы могли возникнуть от того, что он недавно развелся и впервые за десятки лет стал жить один.
Из всех областей мозга префронтальная кора созревает едва ли не последней и корректирует свои связи с остальным мозгом на протяжении всего подросткового возраста. Поэтому дети, хоть и учатся быстро, не слишком хорошо умеют сосредотачиваться на важном и легко отвлекаются. Особенно ярко это проявляется у детей с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности): им нелегко дается учеба в школе не потому, что они не понимают материала, а потому, что не могут удерживать на нем внимание, не могут развивать привычки эффективно учиться и применять стратегии, ведущие к успеху на контрольных и экзаменах. Множество данных свидетельствует о том, что СДВГ связан с атипичной активностью в префронтальной коре[25].
Также префронтальная кора одной из первых начинает терять свою функцию с возрастом[26], и мы становимся забывчивее. К счастью для большинства пожилых людей, нарушается не способность к образованию воспоминаний, а умение сосредоточивать внимание: это приводит к изменениям в том, как мы запоминаем события. Например, вы не можете вспомнить, как звали человека, с которым познакомились на свадьбе родственника, хотя помните множество мелких деталей той встречи: у него были веснушки, ярко-желтый галстук-бабочка, он без конца рассказывал о том, как съездил в Нэшвилл.
Склонность запоминать пустяки[27] вместо важных вещей с возрастом усиливается. Многие исследования показали, что пожилые запоминают хуже молодых, когда нужно напрягать внимание и не отвлекаться, – но показывают не худшие, а то и лучшие результаты, когда нужно запоминать отвлекающую информацию. Старея, мы все еще можем учиться, но нам труднее сосредоточиться на том, что мы хотим запомнить, и в итоге мы зачастую обучаемся ненужному.
Факторов, которые в любом возрасте заставят вас почувствовать, что префронтальная кора вышла из строя, предостаточно. В современном мире главный виновник – пожалуй, многозадачность[28]. Наши разговоры, встречи и дела постоянно прерываются сообщениями и звонками[29], а мы часто дополнительно усложняем себе задачу, разделяя внимание между разными задачами. Многозадачности подвержены даже нейробиологи: в наши дни почти на любом научном докладе можно увидеть ученых с открытыми ноутбуками (я и сам не исключение), которые то слушают выступающего, то отвечают на письма. Многие даже гордятся своей способностью делать несколько дел одновременно, но это почти всегда обходится недешево[30]. Префронтальная кора помогает сосредоточиться на том, что нужно сделать, чтобы достичь цели, но этой чудесной способности начинает не хватать, если быстро переключаться между разными целями. Нейробиолог Мелина Анкейфер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско с коллегами показали, что «медиамногозадачность» (переключение между потоками информации из, например, текстовых сообщений и электронных писем) отрицательно влияет на память. Более того, у людей, которые часто и помногу переключаются между медиазадачами, некоторые зоны префронтальной коры истончаются. Необходимо больше исследований, чтобы понять, является ли лобная дисфункция причиной или следствием многозадачности, но вывод в любом случае один. Как говорит мой друг и периодический товарищ по музыкальной группе, а также один из ведущих мировых специалистов по префронтальной коре, профессор Массачусетского технологического института Эрл Миллер, «никакой многозадачности нет – человек просто делает то одно, то другое дело кое-как»[31].
На функцию лобной доли могут влиять и некоторые заболевания. Скажем, гипертония и диабет могут приводить к повреждениям белого вещества[32] – волокон, которые связывают между собой разные области мозга. Мы с коллегами обнаружили, что повреждения белого вещества, связанные с возрастом, похоже, изолируют префронтальную кору от всего остального мозга: представьте себе, что генеральный директор оказывается заперт один в комнате без телефона и доступа к интернету. К похожим последствиям могут приводить и некоторые инфекции, вызывающие воспалительные процессы в мозге. Скажем, многие люди, заразившиеся коронавирусом в начале пандемии, пострадали от нарушения исполнительных функций, таких как внимание и память, а также у них изменилась структура мозга в некоторых зонах префронтальной коры[33]. Изменения функции лобной доли могут объяснить так называемый «туман в мозгу», также известный как постковидный синдром, о котором сообщали болевшие очень долго люди и те, кто страдал другими инфекционно-ассоциированными заболеваниями, такими как синдром хронической усталости.
Если не заботиться о физическом и психическом здоровье, префронтальная кора тоже может пострадать[34]. Например, катастрофические последствия для префронтальной коры и памяти имеет недосып. Алкоголь тоже плохо влияет на префронтальную кору, и некоторые исследования позволяют предположить, что последствия могут наблюдаться на протяжении нескольких дней после попойки. Как мы увидим в следующих главах, стресс тоже может «вырубить» префронтальную функцию. Если после тяжелой рабочей недели целую ночь не спать, напиваться и думскроллить[35] новостные сайты – не удивляйтесь, если ваши выходные пройдут в «мозговом тумане».
К счастью, в наших силах кое-что сделать для улучшения работы префронтальной коры – хоть это, может быть, и не то, о чем вы подумали[36]. Мозг – тоже часть тела, так что любые полезные телу вещи полезны и для мозга, а значит, для памяти. Сон, физическая активность и здоровое питание – все, что хорошо для физического и психического здоровья, хорошо и для префронтальной коры. Аэробные упражнения (например, бег) повышают выделение в мозге веществ, улучшающих нейропластичность, укрепляют сосудистую систему, доставляющую в мозг энергию и кислород, и снижают воспаления и подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету. К тому же тренировки улучшают сон и снижают стресс, смягчая таким образом две главных угрозы для префронтальных ресурсов. Совокупно эти факторы могут заметно способствовать сохранению функции памяти при старении. В одном особенно впечатляющем исследовании[37], где наблюдали за работой памяти у более 29 тысяч участников, было обнаружено, что у людей, в чьей повседневной жизни фигурировали упомянутые выше факторы, на горизонте десяти лет память сохранялась лучше.
Осознанные воспоминания
Избирательная природа памяти означает, что наша жизнь – люди, с которыми мы общаемся, дела, которые мы делаем, места, в которых бываем, – неизбежно сведется к воспоминаниям, сохраняющим лишь малую долю реального опыта. Мы можем отказаться от борьбы с избирательностью памяти, от тщетных попыток запомнить больше и принять, что мы созданы для забывания, а запомнить важное удается, если намеренно направлять внимание.
Почти всем известно, как трудно бывает вспомнить имя нового знакомого. Удивительно, что это вообще кому-то удается, потому что связь между именем и лицом сама по себе ни на чем не основана. Стратегические приемы – например, попросту повторять имя – могут помочь, но их бывает недостаточно, потому что они не укрепляют связь. Чтобы преуспеть, нужно приложить намерение, сосредоточиться на нужной информации – тогда в следующий раз при виде этого лица у вас будет подсказка, которая приведет к имени человека. Например, если мы с вами познакомимся на вечеринке и вы читали греческие мифы, вы могли бы связать мое имя с Хароном – загробным паромщиком, который перевозит души умерших через реку Стикс. Если вы найдете в моей внешности что-то напоминающее Грецию, мифы и/или мертвых, каждый раз, увидев меня, вы будете вспоминать это имя. Суть подобных стратегий – намеренно создавать значимые связи, позволяющие найти дорогу к воспоминаниям, которые хочется удержать.
И тут мы возвращаемся к моим видеозаписям со дней рождения дочери. Видеокамеры становились все компактнее, и мы пользовались ими, чтобы запечатлеть важные моменты в жизни Майры. К сожалению, за время, проведенное за камерой, приходилось расплачиваться. Почти на всех праздниках я был сосредоточен на съемке и потому помню те драгоценные минуты далеко не так четко, чем если бы отложил камеру и позволил мозгу заняться тем, что ему так хорошо удается.
Загвоздка даже не в технологиях[38], а скорее в том, что мы пропускаем свой опыт сквозь оптический фильтр камеры. Фотографируя или снимая видео, мы, как правило, сосредоточиваемся на тех сторонах опыта, которые подкрепляют память о зрительных подробностях, за счет тех, что погружают нас в непосредственное переживание – звуков, запахов, мыслей, чувств. Бездумно документируя события, мы отключаемся от тех стимулов, что помогают сохранить отчетливые воспоминания и преодолеть интерференцию.
К счастью, фотографии и видеосъемка не всегда мешают запоминать. Оптимальный подход – соблюдать баланс между нуждами переживающего и запоминающего «я». При некотором осознанном намерении камера может стать нашим союзником в формировании и даже отборе воспоминаний, к которым потом можно будет вернуться. В путешествиях я не люблю бесконечно снимать постановочные кадры, пейзажи и достопримечательности – это умаляет мои непосредственные переживания. Зато я делаю импровизированные снимки, на которых люди чем-то поглощены, смеются, удивляются, или фотографирую необычные детали: смешной указатель, аляповатую скульптуру. Я фиксирую несколько редких ярких моментов и освобождаю ум для непосредственного переживания поездки, обращаю внимание на то, что творится вокруг. Пересматривая немногочисленные фотографии, я возвращаюсь к деталям поездки, которые хочу вспомнить, – а менее приятные ее стороны (толпы, очереди, пробки) расплываются.
Жизнь коротка. В силу преходящей природы памяти она может казаться еще короче. Мы склонны считать, что память позволяет нам держаться за прошлое, хотя на самом деле человеческий мозг создан не для того, чтобы просто складировать наши впечатления и опыт (в последующих главах мы узнаем, для чего еще). Забывание – не сбой в работе памяти, а следствие процессов, которые позволяют мозгу расставлять приоритеты в море информации и помогают нам ориентироваться в мире. Мы можем активно управлять забыванием – совершать в настоящем осознанный выбор, позволяющий создать целый арсенал воспоминаний, который можно взять с собой в будущее.
2. Путешественники во времени и пространстве
Как воспоминания отправляют нас в прошлое
Я знаю, путешествия во времени на самом деле уже существуют.
Существуют внутри нашего собственного разума.
The Flaming Lips
С одной стороны, забывание раздражает, с другой – иногда можно приятно удивиться внезапно всплывшему воспоминанию, которое перенесет нас в другое время и место. Это не причуды мозга. Мы склонны считать память записью того, что случилось, но человеческий мозг обладает замечательной способностью связывать «что» с «где», «когда» и «как». Этим можно объяснить неуловимое и необъяснимое чувство прошедшего, которое так часто сопровождает опыт вспоминания. И именно поэтому, если оказаться в нужное время в нужном месте, воспоминания будто бы сами находят нас – со мной такое случалось не раз.
Родители привезли меня в Соединенные Штаты, когда мне было меньше года. Я почти всю жизнь прожил в Северной Калифорнии, но почти все мои родственники остались в Индии. Пока я рос, мы ездили туда примерно каждые четыре года – повидаться с дедушками, бабушками, тетями, дядьями, двоюродными братьями и сестрами. В детстве и подростковом возрасте у меня было много ярких переживаний из поездок в Индию, но по возвращении в Калифорнию память о них неизбежно угасала, словно от того, что между моим домом и дедовским пролегли тысячи миль. Пусть мои первые слова и были на тамильском – родном языке родителей, – но сказать на нем я могу лишь несколько фраз (к огорчению бабушки с отцовской стороны). Иногда кажется, будто все эти воспоминания заперты в секретном ящичке, спрятаны вне досягаемости. Но в Индии они возвращаются ко мне.
После изматывающего семнадцатичасового перелета я прохожу таможенный контроль международного аэропорта Ченнаи – и оказываюсь в другом мире. Стоит ступить за порог, как на меня обрушивается вал ощущений. Из кондиционированного терминала я попадаю в густой, влажный воздух, летом жарко и душно, как в сауне, – изо всех пор моего тела течет пот, но и это не помогает охладиться. Я вбираю в себя пестрое многоцветье города, оттенки женских сари в рыночной суете, цветастые фургоны на дорогах. Беспрестанный поток запахов то вызывает тошноту (если рядом открытая канализация), то пьянит (сладкий запах тропических цветов, морской воздух на пляже, густой дым от поленьев, горящих на жаровнях торговцев арахисом). На следующее утро, пока солнце взбирается с горизонта, я просыпаюсь в джетлаге от гомона тропических птиц, разносящегося по району. Когда я оказываюсь в Ченнаи, вся окружающая какофония звуков, цветов и запахов будто позволяет поймать воспоминания и о прошлых поездках – те, что не даются мне, когда я дома.
Такое чувство пребывания в определенном месте и времени называется контекст, он играет важнейшую роль в нашем обыденном запоминании. Многое мы забываем не потому, что воспоминания исчезли, а потому, что не удается найти к ним дорогу. Но в нужном контексте могут всплыть на поверхность даже те воспоминания, которые казались давно утраченными.
Отчего так происходит, почему в подходящем контексте я могу добраться до «спрятанных» воспоминаний, недоступных мне дома, – даже слов и фраз на языке, в иных обстоятельствах для меня чужом? Ответ кроется в том, как наш мозг запечатлевает воспоминания о событиях.
Мысленные путешествия во времени
Заметную часть XX века в исследованиях памяти царил бихевиоризм – направление мысли, согласно которому память можно свести к простым, экспериментально наблюдаемым связям между стимулами (звуками, запахами, зрительными сигналами) и реакциями (действиями, которые мы совершаем в ответ на стимулы)[39]. В пору расцвета бихевиоризма почти все исследования научения проводились на животных. Будь то крыса, что стремится выбраться из лабиринта, голубь, который клюет за награду, или человек, стремящийся запомнить скучный список триграмм, – все сводилось к одному: научение – простой процесс формирования связей. Любые попытки разобраться в том, как люди понимают и сознательно вспоминают прошлые события, воспринимались как ненаучные и бессмысленные. Разобраться в памяти для бихевиористов значило вывести уравнения, которые позволили бы количественно измерить, как быстро заучиваются и забываются связи в разных условиях. Читать научные статьи того периода – примерно так же весело, как ходить к зубному (не в обиду моему стоматологу, который вообще-то прекрасен).
На этом мрачном фоне в игру вступает Эндель Тульвинг – профессор психологии из университета Торонто, родом из Эстонии. Тульвинг любил рассуждать не только о том, что происходит в экспериментах, но и о том, что творится у людей в головах. В 1972 году он порвал с бихевиористской теорией в революционной статье, где отверг представление о памяти как о хранилище простых ассоциаций и выдвинул вместо него модель, согласно которой у человека есть два вида памяти. Он предложил термин «эпизодическая память» для описания того типа запоминания, что позволяет представить себе и даже заново пережить события из прошлого. Тульвинг предложил отличать эпизодическую память от семантической[40] – способности вспоминать факты и данные о мире независимо от того, когда и где мы получили эту информацию. Главная мысль Тульвинга состоит в следующем: чтобы вспомнить событие (эпизодическая память), нужно мысленно вернуться в определенное место и время, но, чтобы иметь знания (семантическая память), нужно уметь пользоваться выученным ранее в разных контекстах.
Тульвинг заявил, что память – не просто клубок связей между стимулами и реакциями, и тем самым полностью отказался от заманчивой простоты бихевиоризма. Позже он пошел еще дальше и назвал эпизодическую память видом «мысленных путешествий во времени», имея в виду, что вспоминание погружает нас в состояние сознания, в котором мы будто переносимся в прошлое[41]. По выражению Тульвинга, ключевое свойство человеческого сознания – «способность мысленно путешествовать во времени, произвольно передвигаясь по тому, что произошло, и тому, что может произойти, – без оглядки на физические законы вселенной». Прочтя это описание впервые, я подумал, что Тульвинг слегка двинулся умом: рассуждения о путешествиях во времени и сознании звучали не слишком научно. Но если приложить немного самонаблюдения, становится понятно, что в этом что-то есть.
Предположим, я попрошу вас рассказать, что вам известно о Париже. Вы могли бы начать с того, что это город во Франции, он знаменит музеями и ресторанами, там стоит Эйфелева башня. Вы, пожалуй, будете на 100 % уверены в этих фактах, даже если не сможете вспомнить, когда и где узнали их впервые. А теперь предположим, что я попрошу вас рассказать, бывали ли вы в Париже. Если бывали, то для ответа на этот вопрос вы, вероятно, обратитесь к информации, которая погрузит вас в конкретный опыт: аромат каштанов на жаровне уличного торговца по дороге от вашей гостиницы к метро, очередь к лифту на вершину Эйфелевой башни зябким осенним вечером незадолго до заката, вид с башни на город, когда загораются огни. Дело не в силе или слабости воспоминаний – вы можете с уверенностью вспоминать факты о Париже (семантическая память) и заново переживать поездку в Париж (эпизодическая память), но эти два вида опыта совершенно различны.
Вначале рассуждения Тульвинга звучали для психологов спорно. Но за последующие 50 лет ученые собрали множество свидетельств, подтверждающих его предположения о том, что мы способны перезагружать сознание до состояния, в котором оно пребывало во время события в прошлом. Эпизодическая память – не просто вспоминание: она соединяет нас с мимолетными мгновениями прошлого, которые делают нас теми, кто мы есть сейчас.
Люди – роботы: 1:0
Разница между эпизодической и семантической памятью – основной фактор, позволяющий людям так быстро и эффективно учиться. Одно из свидетельств в пользу этого, как это ни странно, обнаруживается в исследованиях того, какие виды научения особенно трудно даются машинам. Многие продвинутые программы с искусственным интеллектом – от умных помощников вроде Алексы и Сири до прошивки беспилотных автомобилей – основаны на «нейронных сетях» – алгоритмах, которые в абстрактном виде воспроизводят научение так, как оно устроено в мозге[42]. Каждый раз, когда нейронная сеть при тренировке заучивает некий факт, меняются связи между ее смоделированными нейронами. По мере того как сеть выучивает все больше фактов, смоделированные клеточные ансамбли постоянно перекомпоновываются, голосуя уже не за отдельный выученный факт, а отражая целую категорию знания. Так, например, вы можете научить сеть следующему:
«Орел – птица. У него есть перья, крылья и клюв. Он летает».
«Ворон – птица. У него есть перья, крылья и клюв. Он летает».
«Сокол – птица. У него есть перья, крылья и клюв. Он летает».
Со временем компьютерная модель все лучше учится фактам о новых птицах, так как опирается на уже известное. Если сеть узнает, что чайка – птица, клеточные ансамбли могут заполнить пропуски и догадаться, что чайка умеет летать. Но что, если научить ее чему-то другому?
«Пингвин – птица. У него есть перья, крылья и клюв. Он плавает».
Теперь у машины возникнут сложности: пингвин отвечает всем признакам птицы, кроме одного. Пингвин – исключение из правила, согласно которому все птицы летают, так что, когда компьютер выучит исключение, он забудет то, что выучил раньше о признаках птиц. Это называется катастрофической помехой, и для машинного обучения это действительно катастрофа. Решение состоит в том, чтобы учить машину очень медленно: тогда, выучив исключение, она не будет тут же отказываться от правила. Это значит, что для эффективного выполнения задач нейронным сетям нужно очень много тренироваться и им плохо удается быстро приспосабливаться к сложности реального мира. Даже в наши дни самые сложные воплощения искусственного интеллекта нужно тренировать на колоссальных объемах данных, прежде чем они будут способны произвести что-то интересное.
Люди, как и описанные выше нейронные сети, отлично извлекают общие знания из прошлого опыта, так что мы можем делать предположения и допущения о ситуациях в будущем («Это смахивает на птицу, так что можно ожидать, что оно улетит»). Но, в отличие от машин, мы не даем сбой при каждом столкновении с отклонениями, потому что у нас есть еще и эпизодическая память. Она не предназначена для того, чтобы улавливать общее в нашем опыте: она хранит и регистрирует каждое событие по отдельности, благодаря чему вы не путаетесь, когда выучиваете исключение из правила[43].
Вооружившись эпизодической и семантической памятью, мы можем быстро выучить как правило (большинство птиц летает), так и исключение (пингвины – птицы, которые плавают). В реальном мире это позволяет нам черпать информацию, на которую обычно можно полагаться, – например, оптимальный маршрут на работу, – но оставаться при этом достаточно гибкими, чтобы приспосабливаться к необычным обстоятельствам – например, поехать другим маршрутом, вспомнив, что дороги временно перекрыты из-за строительных работ.
Собрав воедино данные о нейроанатомии, активности мозга, последствиях повреждения мозга у человека и о компьютерных моделях, ученые пришли к выводу, что мозг решает проблему катастрофических помех при помощи систем, которые учатся по-разному. Неокортекс – огромная серая масса мозгового вещества, которую я описывал в первой главе, – работает как обычная нейронная сеть: позволяет нам улавливать факты, будь то знания о птицах или о погоде в Ченнаи в июне. Гиппокамп, надежно запрятанный в сердцевине мозга и тоже упомянутый в предыдущей главе, отвечает за удивительную способность мозга быстро создавать новые воспоминания о событиях, чтобы мы могли быстро усвоить странный опыт, не укладывающийся в рамки прошлых знаний, – например, нежаркий и сухой летний день в Ченнаи.
Коды памяти
Гиппокамп изучают, пожалуй, больше всех прочих областей мозга. Для многих нейробиологов он синонимичен памяти – в частности, благодаря исследованию нейропсихолога-новатора Бренды Милнер. В 1957 году она опубликовала статью[44], в которой познакомила мир с пациентом Г. М. – имя его не раскрывали, и он прославился в научной литературе именно под своими инициалами. Теперь мы знаем, что его звали Генри Молисон; молодой человек страдал от тяжелых припадков более десятка лет, он не мог найти работу и жить нормальной жизнью. Когда ему было около тридцати, он согласился на радикальную экспериментальную операцию: ему удалили около пяти сантиметров ткани[45] с левой и правой сторон гиппокампа, а также окружающую ткань неокортекса в височных долях. Операцию провел нейрохирург Уильям Сковилл. После нее симптомы эпилепсии у Г. М. смягчились, но также у него проявилась сильная амнезия. Расстройство памяти у Г. М. было столь серьезным, что если бы вы заговорили с ним и вышли из комнаты меньше чем на минуту, то по вашем возвращении он бы уже не помнил никакого разговора. Статья Милнер, в которой образование новых воспоминаний однозначно связывалось с гиппокампом, прогремела по всему миру, вдохновив целое поколение ученых начать разбираться в том, как и почему эта крошечная зона человеческого мозга позволяет нам возвращать к жизни прошлое. Вклад Милнер в науку о памяти был столь значителен, что спустя несколько лет после публикации исследования о Г. М. легендарный российский нейропсихолог Александр Лурия отправил ей записку: «Память была спящей красавицей мозга, и теперь она пробудилась»[46].
После эпохальной публикации Милнер вопрос, которым задавалась нейробиология, заключался уже не в том, участвует ли гиппокамп в процессах памяти, а в том, как именно он это делает. Дальнейшие исследования показали, что Г. М. и другие пациенты с тяжелой амнезией (возникшей от разных причин – например, герпетического энцефалита или корсаковского синдрома) имели одинаковые затруднения с тем, чтобы вспоминать недавние события и заучивать новые факты. Некоторые ученые делали из этого вывод о том, что гиппокамп служит универсальным носителем памяти[47] и что по крайней мере в отношении гиппокампа тульвинговское разделение на эпизодическую и семантическую память не имеет значения.
Вывод был преждевременным. Из исходной статьи Бренды Милнер было ясно, что у Г. М. был поврежден не только гиппокамп, но и другие области мозга. С появлением технологии МРТ стало очевидно, что это было преуменьшением. Сковилл удалил у Г. М. примерно треть височных долей, а попутно разворотил заметный кусок белого вещества, который в нормальных условиях позволяет множеству других неповрежденных областей мозга сообщаться друг с другом. В результате мы не можем говорить о том, какие функции памяти у Г. М. базировались конкретно на гиппокампе, а какие – на всех прочих областях мозга, затронутых операцией. Чтобы ответить на этот вопрос, придется изучать память у людей, нарушения мозга у которых были намного более локальны и ограничивались гиппокампом.
Именно этим занялась в 1997 году доктор Фаране Варга-Хадем, нейропсихолог из Университетского колледжа Лондона[48], – и обнаружила, что Эндель Тульвинг был прав, проводя различия между эпизодической и семантической памятью. Фаране изучала подростков и молодых людей с амнезией развития – этот термин она придумала для описания людей, страдающих от нарушений памяти в раннем возрасте. Увы, это встречается чаще, чем можно подумать, и причины могут быть самые разнообразные: недоношенность, диабетическая гипогликемия, несчастные случаи с утоплением, нехватка кислорода в мозге при родах, когда пуповина обвивается вокруг шеи младенца. Во всех этих случаях первым в мозге страдает гиппокамп. В передовой работе 1997 года Фаране описала три случая людей, у которых в раннем детстве пострадал именно гиппокамп. Основываясь на данных о Г. М., можно предположить, что эти дети росли с задержками в развитии и не могли приобретать знания, необходимые, чтобы ориентироваться в мире. На самом же деле, хоть у них и присутствовала заметная амнезия на события, они могли приобретать новые семантические знания в школе, хоть и учились, вероятно, медленнее сверстников с исправным гиппокампом.
В том же году Фаране пригласила в Лондон группу ученых, в числе которых был и Эндель Тульвинг, и предложила им встретиться с одним из фигурантов статьи – подростком по имени Джон, которому диагностировали амнезию развития в 11 лет. Несмотря на амнезию, Джон продемонстрировал недюжинные познания в истории, с легкостью приводя факты вроде «В период Первой мировой войны Британская империя занимала примерно треть суши нашей планеты». Позже ученые повели Джона обедать, а Эндель Тульвинг задержался, чтобы составить тест на память, которым огорошил Джона по его возвращении. Вопросы Тульвинга выявили, что Джон практически ничего не помнил о том, что происходило за обедом, какой дорогой они шли в ресторан и что видели по пути. Как заметил Тульвинг, расхождения между семантической и эпизодической памятью Джона были так велики, что «он не был похож ни на какого другого пациента, когда-либо описанного в науке».
Исследования на таких пациентах, как Джон, недвусмысленно показали, что эпизодическая память опирается на гиппокамп. С тех пор картину дополнили данные фМРТ, посредством которых можно увидеть, как работает гиппокамп в неповрежденном мозге. Значительный прогресс в этой области наметился, когда стала доступна новая технология фМРТ, позволяющая наблюдать активность мозга в то время, как человек обращается к конкретным воспоминаниям – например, о поездке в Париж. Это позволяет уже не только наблюдать, как подсвечиваются активные области мозга, но и отслеживать сигналы от конкретных событий и таким образом понять, что делает каждое воспоминание уникальным.
Работает это следующим образом: на фМРТ гиппокампа человека, выполняющего задания на память, видно, что в каждый конкретный момент одни пиксели ярче, другие – темнее. Их узор все время слегка меняется: конкретный пиксель может подсветиться или угаснуть. Раньше эти перемены считали «шумом» МРТ-аппарата[49], но теперь стало ясно, что там есть и значимая информация. В 2009 году мы обедали с другом, Кеном Норманом, который сейчас руководит факультетом психологии в Принстоне, – он убедил меня повнимательнее вглядеться в эти узоры активности мозга. Тогда я задумался: что, если каждый раз, как мы обращаемся к воспоминанию о конкретном событии, этому событию соответствует уникальная схема активности мозга? Что, если каждый узор из ярких и темных пикселей подобен QR-коду, который можно отсканировать телефоном, и каждая уникальная конфигурация укажет на конкретное воспоминание? Если это так, то при помощи МРТ можно считывать «коды памяти», которые сообщат нам, как воспоминания располагаются в разных областях мозга[50].
Например, если бы я лег в МРТ-сканер и стал бы вспоминать, как мой брат Рави играл со своей собакой на недавнем семейном пикнике в парке, а затем вспомнил бы, как мы с ним встретились несколько лет назад, когда он выгуливал собаку по грязному тротуару своего района Сан-Франциско, – может быть, мы обнаружили бы сходные коды памяти для каждого из этих воспоминаний. Именно это мы обнаружили в экспериментах[51], глядя на области неокортекса, в которых, предположительно, хранятся обобщенные факты: объект «Рави» и объект «его собака Зигги» присутствовали при событии. А вот в гиппокампе коды памяти для этих двух событий выглядели совершенно по-разному. Зато, когда мы смотрели на гиппокамп человека, вспоминающего два эпизода одного и того же события – например, я вспоминал встречу с Рави на пикнике в парке и свою жену Николь на том же пикнике, – коды памяти выглядели очень похоже.
Эти данные помогли разгадать тайну мысленных путешествий во времени при помощи гиппокампа. Клеточные ансамбли, которые позволяют нам запоминать определенные элементы события: лицо Рави, вкус бутербродов на пикнике, лай его собаки – располагаются в разных областях мозга, которые обычно не общаются друг с другом. Единственное, что между ними общего, – они активировались примерно в одно и то же время. Гиппокамп же связан со многими из этих областей, и его задача – хранить отсылки к тем ансамблям, которые активируются одновременно. Если бы позже я снова посетил тот парк, мой гиппокамп помог бы заново активировать все эти клеточные ансамбли и заново пережить встречу с Рави. Гиппокамп позволяет нам «индексировать» воспоминания о событиях[52] не согласно тому, что произошло, а согласно тому, где и когда оно произошло.
У такого способа формирования воспоминаний есть занятное побочное преимущество. Гиппокамп выстраивает воспоминания по контексту[53], а потому, если вспомнить что-то одно, проще будет вспоминать и о других событиях, произошедших примерно в то же время в том же месте, получая более полную картину. Если вспомнить, как мы на пикнике резали арбуз, вспомнится и то, что было дальше – например, игры в волейбол и фрисби. Гиппокамп способен «катать» нас вперед-назад во времени, и для этого даже не понадобится расшатанный «Делореан».
Здесь и сейчас
Сила эпизодической памяти – не только в том, что она позволяет пробраться в прошлое. Базовое восприятие реальности работает в том числе благодаря способности ориентироваться во времени и пространстве, и для этого часто приходится вспоминать недавнее прошлое. Вспомните, как просыпались среди ночи в незнакомой постели с мыслью «где я?». Чтобы ответить на этот вопрос, гиппокамп подтягивает нужные коды памяти: может быть, вы вспомните, что несколькими часами ранее заселились в отель, и с этими данными дезориентация быстро пройдет. Извлечение памяти о недавнем прошлом помогает найти опору здесь и сейчас. Согласно одной известной теории[54], эпизодическая память возникла в процессе эволюции из первичной способности понимать, где мы находимся в мире. Молодой аспирант Питер Кук, с которым мне посчастливилось сотрудничать, показал, что эта способность необходима для выживания.
Мы познакомились на конференции по теме памяти. После нескольких студенческих выступлений о том, как люди запоминают списки слов, на сцену вышел Питер с серией коротких видеозаписей об экспериментах с научением у калифорнийских морских львов. Его исследования захватили мое воображение: мне никогда не приходила в голову сама возможность изучать память морских львов. Сразу после доклада я представился и уболтал Питера пригласить меня с семьей в лабораторию в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. Пятилетняя Майра увидела вблизи морского льва и даже помогла со сбором данных. Питер тогда проводил тесты на память, и Майре досталось тянуть рычаги, чтобы открывать двери, и нажимать на кнопки, чтобы подавать морским львам сигналы.
В ходе нашего визита я узнал, что Питер изучал воздействие на гиппокамп домоевой кислоты. Этот морской биотоксин выделяется во время пагубного цветения водорослей, так называемых «красных приливов», и поднимается по пищевой цепочке: моллюски поедают водоросли, а их, в свою очередь, съедают морские львы, которые подвергаются воздействию высоких доз домоевой кислоты. У человека при его употреблении может возникнуть амнестическое отравление моллюсками: его симптомы – тошнота, рвота, спутанность сознания и потеря памяти. То же самое, по всей видимости, творилось под воздействием домоевой кислоты и с морскими львами. Питеру выпала уникальная возможность просканировать этих морских львов в аппарате МРТ, и он обнаружил, что у животных с отравлением домоевой кислотой оказывается значительно поврежден гиппокамп.
После того визита мы с Питером договорились совместно поработать над проектом, который стал одной из самых интересных моих работ по визуализации мозга. Я помогал Питеру разрабатывать новые тесты памяти для морских львов[55]. В одном из тестов львам нужно было запомнить расположение рыб, которых Питер запрятал в определенные места. В другом львы должны были запоминать свои недавние действия, чтобы успешно собрать рыб, разложенных по разным ведрам. Морские львы с отравлением домоевой кислотой справлялись с этими тестами из рук вон плохо. Исходя из тяжести повреждения гиппокампа, мы даже могли предугадать насколько. Наши исследования помогли объяснить, почему этих животных выносило на берег. Отказ гиппокампа их дезориентирует. Они теряются, не могут вспомнить, где кормились, недоедают и в итоге оказываются выброшенными на берег.
Когда я увидел данные Питера, мне пришло в голову, что мы зачастую и не отдаем себе отчета, насколько полагаемся на эпизодическую память, чтобы ориентироваться в мире. Помните, как оказались в отеле? А теперь представьте себе, что вы просыпаетесь и понятия не имеете, какой сегодня день или где вы находитесь, – полная дезориентация, не за что ухватиться ни во времени, ни в пространстве. Такова печальная действительность миллионов людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Одной из первых областей мозга, которую разрушает Альцгеймер, оказывается гиппокамп – и, вероятно, из-за этого пациенты на ранних стадиях болезни часто теряются и не замечают, как проходит время. Друг, ухаживающий за матерью с Альцгеймером, рассказывал, как больно было видеть страх на ее лице, когда она полностью утрачивала ориентиры, раньше помогавшие определять, в каком месте и времени она находится. Должно быть жутко – как пытаться удержаться на плаву в открытом море.
Машина времени
Пусть гиппокамп и позволяет нам мысленно путешествовать назад во времени и пространстве, следует подчеркнуть, что у мозга нет прямой возможности знать наше местоположение или точное время по часам. На наших воспоминаниях не стоят отметки времени или GPS-координаты, сообщающие, когда и где произошло событие[56]. Скорее гиппокамп отслеживает время по изменениям окружающего мира. В течение дня мы передвигаемся с места на место. Эти места – от маленьких закрытых помещений до бескрайних просторов – характеризуются специфическими видами, звуками и запахами: из них складывается представление о том, где мы находимся. Более того, окружающая среда постоянно меняется[57]. День сменяется ночью, сытость – голодом, эйфория – усталостью.
Все эти внешние факторы, а также стремления, мысли и чувства, характеризующие наш внутренний мир, складываются вместе и образуют уникальный контекст, окружающий переживания каждого момента. Когда мы обращаемся к конкретному эпизодическому воспоминанию, мы можем вместе с ним извлечь и кусочек своего прошлого состояния и таким образом словно перенестись в то время и место. Изменения контекста с течением времени, в свою очередь, запускают изменения в схемах активности мозга, и мы воспринимаем это как течение времени. Два события, соседствующих во времени, – например, приготовление кофе и завтрак – будут иметь больше общих контекстных элементов, чем события, отстоящие дальше во времени, например завтрак и готовка ужина.
Контекст – неотъемлемая часть эпизодических воспоминаний, он оказывает мощное влияние на то, что мы способны вспомнить. В определенном месте, например, когда меня окружают виды и запахи индийского дома моих бабушек и дедушек, мне удается добраться до воспоминаний, которые в иных обстоятельствах ускользают. Запахи и вкусы – тоже отличный сигнал. Это ярко показано в конце фильма «Рататуй», когда ложечка простого французского тушеного блюда переносит угрюмого ресторанного критика в детство, когда его мама готовила похожую еду.
Еще эпизодические воспоминания с огромной силой пробуждаются от музыки. Песня, которую вы не слышали с семнадцати лет, может перенести на школьную дискотеку, где случился ваш первый поцелуй. Петр Яната[58], мой коллега из Калифорнийского университета в Дэвисе, в своих исследованиях составлял каталоги музыки, которую люди слушали в разное время, и обнаружил, что песни отлично способствуют мысленным путешествиям во времени. Другие показали, что музыка вызывает воспоминания о прошлых событиях даже у тех, кто страдает болезнью Альцгеймера[59]. Я убедился в этом на собственном опыте, наблюдая деменцию у деда по отцу – южноиндийского кинорежиссера. К концу жизни память его ухудшилась, и он не всегда узнавал меня, но все еще мог петь песни, которые писал для своих фильмов, и песни помогали ему добраться до воспоминаний из того времени его жизни, которые иначе были бы недоступны.
В контекст вносят вклад и эмоции[60], то есть наши чувства в настоящем влияют на то, что мы можем вспомнить из прошлого. Когда мы злимся, легко вспоминать то, что разозлит еще больше, и труднее добраться до воспоминаний, не имеющих такого свойства. Например, когда все хорошо, вам не составит труда вспомнить что-то приятное о любимом человеке, но когда вы спорите, чья очередь гулять с собакой или мыть посуду, это может оказаться не так просто.
Ключевая роль контекста в эпизодической памяти помогает разобраться в том, почему мы забываем и как преодолеть забывание под натиском интерференции. Как я уже упоминал в первой главе, самые частые (и раздражающие) сложности с памятью возникают из повторяющегося опыта: например, попытки вспомнить, куда вы положили ключи или приняли ли с утра таблетки. Задумайтесь над задачей найти кошелек. Остался ли он на журнальном столике? На столе на работе? Или в кармане куртки? В какой-то момент кошелек побывал во всех этих местах, но это неважно – вспомнить надо, где он был в последний раз. Если бы гиппокамп сохранял лишь фотографические воспоминания о том, что произошло, эта задача была бы практически нерешаемой: пришлось бы копаться в огромной куче «кошельковых» воспоминаний. Но главная хитрость гиппокампа в том, что он берет интересующую нас информацию – например, о кошельке и журнальном столике – и связывает с информацией о контексте, обо всем, что творится на фоне – например, какая программа шла по телевизору, каков был на вкус и запах кофе, глоток которого вы сделали, положив кошелек на столик, как было жарко и как хотелось включить кондиционер. Мы переживаем миллионы повторяющихся событий, но уникальным каждое из них делает контекст. А значит, контекст может спасти нас, когда требуется найти дорогу назад, к вещам, что мы вечно теряем.
Когда вы опаздываете на работу и в панике разыскиваете, например, кошелек – особенно если вы спешите, можно начать со стратегии, основанной на семантической памяти: искать, опираясь на знание, где он лежит обычно. Но можно обратиться и к эпизодической памяти, чтобы отследить свои действия. Попробуйте живо представить себе, где вы были и что делали, когда кошелек в последний раз был у вас в руках. Если вам удастся мысленно отправиться в момент, когда вы куда-то положили кошелек, гиппокамп поможет извлечь остальную информацию, окружающую тот миг. Чем ближе вы подберетесь к этому контексту, тем легче будет отыскать кошелек.
В определенных местах, ситуациях или состояниях нам оказывается проще вспомнить события, произошедшие в похожих контекстах[61] – но так же и неправильный контекст может затруднить поиск нужного воспоминания. Предположим, вы пошли на вечеринку и после пары бокалов вина вступили в оживленную дискуссию с новым знакомым. На другой день вы сталкиваетесь в супермаркете, но не можете толком вспомнить, кто перед вами и как вы познакомились. Подвох в том, что гиппокамп не просто сохранил в вашей памяти лицо этого человека – он связал его с контекстом: обстановка в стиле модерна середины века, легкое опьянение от второго бокала мерло, гул танцевальной музыки и разговоров гостей. Без всех этих контекстных подсказок не так уж и просто вернуться к разговору, который завязался у вас с кем-то в очереди в туалет.
Чем дальше назад во времени вы пытаетесь отправиться, тем труднее мозгу подтянуть прошлый контекст, и это удается ему не всегда. Несмотря на единичные свидетельства обратного, научные исследования показали, что у взрослых, как правило, не бывает устойчивых эпизодических воспоминаний до двухлетнего возраста[62]. Этот феномен, известный как инфантильная амнезия, ставит ученых в тупик: ведь маленькие дети очень быстро учатся и, казалось бы, способны к образованию эпизодических воспоминаний – но с возрастом мы почему-то теряем к ним доступ. Одно из возможных объяснений опирается на исследования Симоны Гетти – моей коллеги по Калифорнийскому университету в Дэвисе[63]: в первые годы жизни гиппокамп все еще развивается, и младенцы еще не способны связывать свой опыт с конкретным пространственным и временным контекстом. Также, я подозреваю, инфантильная амнезия возникает от того, что в первые годы нейронные связи во всем неокортексе проходят значительную перестройку[64]. Для взрослого практически невозможно отправиться в младенчество: чтобы вернуться в свое детское состояние, мозгу потребовалось бы отмотать назад долгие годы структурных изменений.
Что же я искал?
Вам наверняка случалось зайти в комнату и не помнить, зачем вы вообще туда пришли. Это не говорит о нарушениях памяти, это совершенно нормальное следствие того, что специалисты по памяти называют границами события. Когда вы дома, у вас есть представление о том, где вы находитесь. Стоит выйти за дверь, и это представление кардинально меняется, хоть вы и ушли совсем недалеко. Мы естественным образом уточняем свои представления о контексте[65] по мере изменений в восприятии окружающего мира, и моменты уточнения отмечают границы между событиями.
Изменение контекста на границе события имеет значительные последствия для эпизодической памяти[66]. Как стены выступают в роли физических границ и делят дом на отдельные комнаты, так и границы событий разбивают непрерывное течение нашего опыта на удобоваримые фрагменты. Люди лучше запоминают информацию с границ события, чем из середины. Недавние исследования многих лабораторий дают основания считать, что это происходит потому, что гиппокамп не сохраняет память о событии, пока не наступит граница – то есть воспоминание регистрируется, только когда мы поймем, что произошло[67].
Поскольку на границах событий наше представление о контексте резко меняется, иногда бывает трудно вспомнить, что происходило лишь мгновения назад. Хотя бы раз в неделю я ловлю себя на том, что захожу на кухню, чешу в затылке и гадаю: «Что же я искал?» От расстройства я неизбежно залезаю в холодильник и набиваю рот какой-нибудь нездоровой едой, а потом иду обратно и, едва сев за рабочий стол, понимаю, что шел в кухню за очками. Благодаря границам событий я поглотил немало пустых калорий.
Мы все время сталкиваемся с границами событий, для этого даже не обязательно перемещаться в пространстве. Все, что меняет представление о текущем контексте: смена темы разговора, смена ближайших целей, любое неожиданное явление, – может возвести границу события. Вы наверняка понимаете, о чем я, если вам доводилось что-то рассказывать, а вас прерывали, скажем, чтобы сообщить о развязавшемся шнурке, – и вы совершенно забывали, что собирались говорить дальше. Необходимость задавать после этого вопрос «О чем мы говорили?» может огорчать, а по мере перехода в среднюю и старшую возрастную категорию – даже тревожить[68]. Но будьте уверены, это обычное следствие того, как наш мозг применяет контекст для организации эпизодических воспоминаний.
Границы событий не только вызывают такие запинки в памяти, но и влияют на наше ощущение хода времени. В 2020 году миллионы людей по всему миру месяцами сидели в локдаунах во время первой волны пандемии коронавируса. Мы днями напролет сидели в одном и том же месте, лишенные обычных занятий, которые структурировали время: уроков в школе, поездок на работу, – и у многих возникло ощущение оторванности от времени и пространства. Чтобы разобраться в том, как люди переживают искаженность времени, я опросил 120 студентов своего онлайн-курса по человеческой памяти о том, как они ощущают ход времени. Они провели почти весь семестр запертыми по домам, вперившись в экран компьютера, без перерыва смотря сериалы и проходя онлайн-курсы, и подавляющему большинству (95 %) казалось, что дни текут очень медленно. Но в отсутствие отчетливых воспоминаний о том, что происходило в эти дни, большинство (80 %) в то же время ощущало, что недели идут слишком быстро.
В отсутствие границ событий, которые придавали бы жизни осмысленную структуру, мои студенты – вместе с миллионами людей по всему миру – оказались в подвешенном состоянии, будто бесцельно дрейфуя во времени и пространстве.
Максимум пользы от мысленных путешествий во времени
Ностальгия, эта щемящая смесь радости и грусти, пронизывает многие драгоценные воспоминания: это один из самых мощных рычагов воздействия эпизодической памяти на повседневную жизнь. В среднем людям проще вспоминать положительный опыт, чем отрицательный, и перевес в положительную сторону усиливается с возрастом[69] – возможно, этим объясняется склонность к ностальгии у пожилых людей.
Результаты множества исследований дают основания считать, что повторное переживание положительного опыта может улучшить настроение и уверенность в себе, а значит, дать оптимистичное отношение к будущему. Сцена с воспоминанием из «Рататуя», упомянутая ранее в этой главе, так тронула сердца зрителей потому, что мы узнавали в угрюмом критике самих себя. Этот эпизод напоминает, как простой контекстный сигнал может послать нас в счастливое прошлое, может быть, даже изменить нашу точку зрения на самих себя и свое место в мире.
Оглядываясь в прошлое, мы, как правило, сосредоточиваемся на определенном периоде жизни – где-то между десятью и тридцатью годами. Преобладание памяти об этом времени называется всплеском воспоминаний[70], и он проявляется не только очевидным образом, когда мы просим людей вспоминать события из жизни, но и косвенно – когда люди составляют списки любимых фильмов, книг и музыки. Словно, послушав песню или посмотрев фильм из тех определяющих лет, мы сможем обрести смысл, соединиться с идеализированным представлением о себе.
Ностальгия может радовать, но может действовать и противоположным образом – в зависимости от того, на каких воспоминаниях мы сосредоточиваемся и как их осмысляем. Термин «ностальгия» впервые употребил швейцарский врач в конце XVII века, описывая особое тревожное расстройство, которое наблюдал у солдат-наемников вдали от дома[71]. Для них воспоминания о счастливых временах в знакомых местах лишь подчеркивали недовольство настоящим. Недавно же ученые обнаружили, что люди, чувствующие одиночество в повседневной жизни, от ностальгических мыслей чувствуют себя еще более одиноко[72]. Другими словами, расплата за ностальгию – в том, что она может отъединить нас от жизни в настоящем, погрузить в ощущение, что теперь все уже не так, как «в старые добрые времена».
Руминация – бесконечное, бесцельное возвращение в мыслях к отрицательным событиям – злой двойник ностальгии и наглядный пример того, как не надо пользоваться эпизодической памятью. Люди с гипертимезией – исключительно мощной автобиографической памятью – могут вспоминать незначительные события из прошлого в мельчайших подробностях, и они, как правило, склонны к руминации[73]. Как выразился один из них, «я застреваю на переживаниях дольше, чем обычные люди, и когда что-то причиняет боль – расставание, утрата близкого, – я не могу об этом забыть»[74].
Чтобы извлечь выгоду из мысленных путешествий во времени, полезно вспомнить, зачем вообще у мозга возникла эта способность: чтобы учиться на единичных случаях. Отправляясь в прошлые контексты, мы получаем доступ к опыту, который переориентирует наше представление о настоящем. Вспоминая отрицательные события, мы вспоминаем уроки, выученные в прошлом, и в настоящем это позволяет принимать лучшие решения[75]. Вспоминая положительные события, мы можем становиться лучше: повышается сострадание и альтруизм. В одном из исследований люди, которые живо припоминали, как помогли кому-то, проявляли больше эмпатии к чужим несчастьям и больше готовности помочь нуждающимся[76]. Вспоминая эпизоды, когда мы проявили сострадание, мудрость, стойкость и отвагу, мы можем использовать связь с прошлым, чтобы расширить представление о том, на что мы способны и кем можем быть.
3. Сокращайте, используйте повторно, утилизируйте
Как помнить больше, запоминая меньше
Мы пользуемся словом «интуиция», иногда «проницательность» или даже «креативность», чтобы описать способность специалистов давать практически мгновенные ответы.
Херб Саймон
Как видно, объем информации, с которым мы сталкиваемся в течение жизни, слишком велик, чтобы запомнить все переживания и события. К счастью, этого и не требуется. Мы можем приспособить то, что уже знаем, чтобы организовать свой опыт и разложить бесчисленные обрывки информации на удобоваримые порции. Наращивая опыт, мы можем приобрести экспертные навыки, которые позволят молниеносно распознавать знакомые закономерности, помнить прошлое, понимать настоящее и предсказывать будущее.
Если вспоминать великих спортсменов, на ум приходят американская олимпийская гимнастка Симона Байлз, ямайский спринтер Усейн Болт или аргентинский футболист Лионель Месси. Бывший инженер-химик из Файеттвилля, Северная Каролина, в этом списке будет смотреться некстати. Но в мире спорта памяти Скотт Хэгвуд – живая легенда: четырехкратный победитель чемпионата США по памяти и первый американский мнемоспортсмен, которого признала гроссмейстером Международная ассоциация памяти.
В отличие от профессиональных атлетов, одаренных почти сверхчеловеческими физическими способностями, Скотт Хэгвуд не обладал выдающимися прирожденными талантами. По его собственным словам, учился он средне, а на экзаменах цепенел от тревоги. В 36 лет ему диагностировали рак щитовидной железы и сообщили, что лучевая терапия, необходимая для спасения жизни, заодно разрушит его память. Скотт испугался, что от ухудшения памяти может утратить важную часть самоощущения, и обратился к науке о памяти[77], чтобы бороться с побочными эффектами лечения.
Наткнувшись на книгу британского тренера памяти Тони Бьюзена[78], Скотт принялся упражняться с колодой карт. Результаты его потрясли, вскоре он поспорил с братом, что сможет запомнить порядок карт в свежеперетасованной колоде за 10 минут, – и выиграл. Спустя год рак ушел в ремиссию, а Скотт решил поучаствовать в национальном чемпионате памяти, где выступил с новообретенными умениями против опытных мнемоспортсменов со всей страны: всего за 5 или 15 минут им нужно было запоминать длинные списки имен, лиц, страницы неопубликованных стихов, последовательности карт и длинные наборы случайных слов и цифр. Скотт стал чемпионом не только в тот год: он успешно защитил титул и в трех последующих соревнованиях.
Мнемоспорт обрел популярность в начале 1990-х и с тех пор бурно разрастался: национальные соревнования возникали в каждом уголке мира. Новое поколение мастеров-мнемонистов вывело этот спорт и в XXI век: теперь в нем соревнуются опытные пользователи социальных сетей – например, Янджаа Уинтерсоул, шведско-монгольская трехкратная рекордсменка[79] и первая женщина, выступившая за команду – победителя Мирового чемпионата памяти. Янджаа, которую легко запомнить по шевелюре цвета фуксии, пожалуй, больше всего прославилась благодаря вирусному видео 2017 года[80], в котором полностью заучивала мебельный каталог IKEA (328 страниц, примерно 5000 наименований) меньше чем за неделю.
Подвиги элитных спортсменов вроде Скотта Хэгвуда и Янджии Уинтерсоул впечатляют еще больше, если учесть, что никто из этих «суперпамятников» не показывал результатов выше среднего по тестам на естественную память и даже не утверждал, что обладает особыми умственными способностями. Как же этим простым смертным удается исполнять такие удивительные трюки по запоминанию? И что это нам говорит о том, как работает память у обычных людей?
Подсказку можно найти в устных традициях, которые можно проследить на тысячелетия в прошлое. С «Рамаяны» и «Махабхараты» до «Илиады» и «Одиссеи» певцы и ораторы заучивали классические литературные эпосы наизусть, повторяя одинаковые структуры и поэтические ритмы. Похожим образом в туземных культурах сохранялись и передавались потомкам знания о растениях и животных, географии и астрологии, генеалогии и мифологии – через песни, истории, танцы и ритуалы.
И нынешние мнемоспортсмены, декламирующие число пи до стотысячного знака, и древние ораторы, развлекающие публику длинными историями о героях, и группа детсадовцев, что учит азбуку, – все пользуются мнемотехниками (стратегиями запоминания), и самые эффективные из них основаны на фундаментальных механизмах, возникших в человеческом мозге, чтобы справляться со сложностью окружающего мира.
Все начинается с группирования.
Собирай в кучки
В 1956 году Джордж Миллер, один из основателей зарождавшейся тогда когнитивной психологии, написал довольно странную статью[81]. В духе тех времен ее зачин звучит фиглярски-эксцентрично, совсем не похоже на сухую и безжизненную прозу, какой требуют от нас нынешние редакторы и ворчливые рецензенты:
Дело в том, что меня преследует число. Уже семь лет оно ходит за мной повсюду, вторгается в мои личные данные, нападает на меня со страниц популярных журналов <..>. Цитируя известного сенатора, за этим стоит разумный замысел, в появлениях числа видна закономерность. Либо в нем действительно есть что-то особенное, либо я одержим манией преследования.
Несмотря на вычурный тон вступления, статья Миллера стала классической: в ней устанавливалось принципиальное положение о памяти, которое позже подтверждалось снова и снова: в каждый конкретный момент человеческий мозг может удерживать лишь ограниченный объем информации[82].
Миллер прибег к комической метафоре преследования, чтобы привлечь внимание к своему выводу: мы способны держать в уме лишь около семи элементов. По более поздним оценкам кажется, что Миллер был настроен слишком оптимистично и мы можем одновременно удерживать лишь три-четыре элемента информации. Это ограничение памяти помогает объяснить, почему, если сайт сгенерирует вам временный пароль из случайных букв и цифр – скажем, JP672K4LZ, – вы немедленно его забудете, если не запишете. Профессиональные мнемоспортсмены сталкиваются с теми же ограничениями, что все остальные, но пользуются огромной брешью в этой стене: нигде не сказано, что считается за один элемент информации. Группирование позволяет сжимать огромные объемы данных в удобные и доступные фрагменты[83].
Вы давно пользуетесь группированием для повседневного обучения и запоминания, даже если сами этого не осознаете. Например, если вы гражданин США, вы, скорее всего, выучили наизусть девять цифр своего номера социального страхования. Эту последовательность легко запомнить, потому что она разбита на три удобных группы – по схеме 3–2–4. В Соединенных Штатах мы так же запоминаем и телефонные номера из десяти цифр (по схеме 3–3–4). Группируя цифры, мы на две трети сокращаем объем информации, который приходится обрабатывать мозгу. Аббревиатуры (например, HOMES для названий Великих озер) и акростихи (например, «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» для цветов радуги) следуют тому же принципу, привязывая информацию, которую было бы трудно запомнить, к простым элементам, которые даются легко. Даже та бессмысленная, случайно сгенерированная последовательность букв и цифр в пароле становится намного удобнее, если разбить ее на группы: JP6–72K–4LZ.
Некоторые из самых убедительных исследований группирования провел в 1970-х Херб Саймон, психолог из Университета Карнеги – Меллона, первопроходец в зарождающейся науке об искусственном интеллекте. Саймон работал во многих областях, в том числе в экономике, за что в 1978 году получил Нобелевскую премию, но больше всего меня интересовали его исследования шахмат. В 1950-х Саймон заинтересовался разработкой компьютерных алгоритмов для симуляции того, как решают задачи люди[84], и в качестве предельно сложной задачи он взял шахматы.
Новичку шахматы могут показаться пугающе сложными. В начале игры у каждого игрока по восемь пешек, два слона, два коня, две ладьи, ферзь и король; они двигаются по сетке из 64 чередующихся черных и белых клеток. Глядя на доску, новичок, возможно, даже уследить за всеми фигурами сможет с трудом. А вот гроссмейстер (этот титул присваивают лишь величайшим игрокам) может мгновенно уяснить положение на доске, распознать и отреагировать на знакомые расстановки и последовательности. То есть новичок страдает на каждом ходу, а гроссмейстер может отбросить все лишнее и предугадать целую последовательность ходов, которой только предстоит развернуться.
Изучая профессиональных шахматистов[85], Саймон отметил, что они могли, всего несколько секунд посмотрев на доску с фигурами, воспроизвести расстановку по памяти. Но если их просили запомнить расположение шахматных фигур, позиции которых не соответствуют правилам игры, – их память работала не лучше, чем у любителей. Напрашивается вывод о том, что дело вовсе не в выдающейся памяти гроссмейстеров, а в том, что они полагаются на знание предсказуемых схем и последовательностей, накопленное за множество партий. Как и мнемоспортсмены, шахматисты-гроссмейстеры пользуются сочетанием умений, тренировки и опыта – то есть компетентностью – для молниеносного группирования[86].
В 2004 году моя исследовательская деятельность разделилась по нескольким направлениям, и меня заинтересовало то, как компетентность меняет нашу манеру учиться и запоминать. Все мы – или почти все – в чем-то компетентны: любители птиц могут быстро распознавать разные виды птиц, автолюбители – мгновенно узнать марку, год выпуска и модель классической машины. Тогда большинство нейробиологов считали, что компетентность строится на изменениях в сенсорных областях мозга[87]. С этой точки зрения специалисты по птицам могут распознать отличия между десятком видов воробьев, потому что воспринимают тончайшие нюансы узоров на крыльях, практически неразличимые для рядового наблюдателя.
Мне, исследователю памяти, дело виделось иначе. Зная, что префронтальная кора помогает сосредоточиться на отличительных свойствах события, я подозревал, что компетентность меняет сам способ, которым задействуется префронтальная кора. Эта мысль ждала своего часа, пока мой аспирант Майк Коэн не познакомил меня с замечательным студентом-психологом по имени Крис Мур. Крис с Майком допоздна засиживались за работой и создали компьютерную программу, которая генерировала ряд трехмерных фигур. Фигуры чем-то напоминали корабли инопланетян, но им была присуща определенная структура и логика – так же, как у разных видов птиц или моделей машин есть набор таких свойств, которые меняются, а есть такие, что остаются более-менее постоянными.
Затем Крис с Майком набрали группу студентов-добровольцев, которые за 10 дней стали «компетентными экспертами» по этим инопланетным фигурам, научились определять их общие свойства и распознавать различия. После обучения мы помещали их в МРТ-сканер, чтобы посмотреть, что изменилось в мозге. Пока записывалась мозговая деятельность, мы ненадолго показывали им одну из фигур и просили держать ее в уме. Спустя примерно 10 секунд показывали еще одну фигуру и спрашивали, совпадает ли она с предыдущей. Без обучения эта задача была бы неподъемной, но наши добровольцы справлялись практически безупречно. Подобно шахматистам Херба Саймона, наши эксперты разработали собственные способы извлекать самую нужную информацию о том, что стремились запомнить: компетентность позволяла им обойти ограничения памяти. Но когда мы стали показывать фигуры в перевернутом виде, эксперты больше не могли применять свои знания, и им с трудом удавалось отличить одну фигуру от другой.
Как я и ожидал, когда студенты полагались на свою компетентность, чтобы удерживать в памяти «инопланетные» фигуры, на МРТ был виден рост активности в префронтальной коре[88]. Это говорит нам о том, что компетентность – не только в том, чтобы видеть закономерности, но и в том, чтобы их находить. Скажем, специалисты по птицам не просто «видят» разницу между певчим воробьем и домовым: они пользуются своей компетентностью, чтобы сфокусироваться на отличительных чертах этих птиц. Обретая компетентность в любой теме, мы можем пользоваться выученным, чтобы сфокусироваться на самых нужных элементах новой информации.
Кстати о компетентности, не могу не добавить к этому рассказу некоторое послесловие. Пока Крис работал у меня в лаборатории, по многим предметам он успевал кое-как. Я не мог понять почему: когда мы говорили о памяти, он казался опытным ученым, а не студентом со средненькими оценками. Спустя несколько лет после выпуска Крис поступил на нейробиологию в Принстон, где работал над моделями нейронных сетей, симулирующими обучение в человеческом мозге. Вместо того чтобы сосредоточиться на диссертационной работе, Крис тратил кучу времени, применяя свои вычислительные умения к бейсбольной статистике – искал в ней закономерности, чтобы определять лучших игроков и команды победителей[89]. Диссертацию Крис все же защитил, недолго поработал на Уолл-стрит, а потом поставил свою компетентность на службу бейсбольному клубу «Чикаго кабс», где теперь возглавляет отдел исследований и разработки. Труды по предсказательной аналитике принесли ему прозвище Денежный[90]: он разработал сложные вычислительные модели, отслеживающие и оценивающие достижения игроков, – благодаря им «Кабс» преодолели «проклятие козла»[91], которое давило на них 70 лет, и выиграли Мировую серию 2016 года.
Чертеж
Группирование помогает паковать информацию в удобные блоки и обычным людям, и шахматистам, и мнемоспортсменам, но дело не только в ней: само по себе группирование не объясняет, как нам удается запоминать огромные объемы информации без интерференции – помех от конкурирующих воспоминаний, из-за которых мы постоянно столько всего забываем.
Человеческий мозг – механизм не запоминания, а мышления. Мы организуем свой опыт таким образом, чтобы осмысливать окружающий мир. Чтобы справляться со сложностью мира и не поддаваться интерференции, можно воспользоваться одним из самых мощных орудий мозга для упорядочения информации: схемой[92].
Схема – это мысленная структура, позволяющая сознанию обрабатывать, упорядочивать и трактовать большой объем информации с минимальными усилиями. Человеческий мозг пользуется схемами для создания новых воспоминаний, примерно так же, как архитектор пользуется чертежами для проектирования домов. Чертеж – своего рода карта основной конфигурации строения (стены, двери, лестницы, окна и так далее), по которой понятно, как элементы связаны между собой. Природа чертежа абстрактна, а значит, его можно использовать снова и снова.
Это ярко видно на примере загородных жилых массивов, которые повылезали по всем Соединенным Штатам в начале 1950-х, чтобы удовлетворить растущий в послевоенную эпоху спрос на дешевые дома. Проехав по любому из этих районов, можно заметить, что группы домов построены по одним и тем же чертежам. Могут отличаться цвета, наличники, кровля и прочее, но общий план один и тот же, потому что архитекторы того времени обнаружили: намного эффективнее и дешевле (по времени, трудозатратам и материалам) строить все дома в одном районе по одному и тому же чертежу.
Как для оптимизации строительства новых домов можно снова и снова применять одни и те же чертежи, так и для оптимизации формирования воспоминаний можно пользоваться одними и теми же схемами. Вряд ли многим из нас придется запоминать целый мебельный каталог, но, если вам доводилось ездить в ближайшую «ИКЕА» больше одного раза, у вас, скорее всего, есть мысленная карта магазина, устроенного как лабиринт[93]. Если бы мозг хранил память о плане «ИКЕА» как фотографию, пользы от нее было бы не очень много. Но храня ее в виде чертежа, вы получаете мысленный образ, которым можно пользоваться раз за разом. Даже если вы отправитесь в другой магазин «ИКЕА», его план будет достаточно сходным, чтобы не пришлось строить новую мысленную карту с нуля. Вместо этого можно будет воспользоваться имеющейся схемой «ИКЕА» и сосредоточиться на отличительных особенностях нового магазина, чтобы сориентироваться в выставочных залах, на торговой площадке, на складе или забрать ребенка из игровой комнаты.
Понятие схемы применимо не только к физическим пространствам. У всех есть мысленные чертежи того, как могут разворачиваться события в знакомой ситуации[94]. Эти «схемы событий» дают нам структуру, которая позволяет быстро формировать воспоминания о сложных событиях. Допустим, вы регулярно встречаетесь с другом выпить кофе в кафе. Ваш мозг мог бы записывать подробные фотографические воспоминания о каждой секунде каждой встречи – как вы ждете в очереди, заказываете латте, смотрите, как бариста рисует идеальный узор вспененным молоком. Но если каждый раз создавать новое воспоминание с нуля, учитывая каждую подробность, то у вас быстро наберется гора дублирующихся воспоминаний. Намного эффективнее свести все повторяющиеся черты опыта в кафе в один чертеж, обобщающий все подробности. Это позволит сосредоточиться на том, чтобы запоминать отличительные черты каждой встречи.
Так или иначе, каждый мнемоспортсмен, шахматист, наблюдатель птиц и автолюбитель пользуется возможностями схем, чтобы упорядочить то, что нужно запомнить, в структуру, к которой можно будет затем возвращаться. Один из примеров – метод локусов, древняя мнемотехника, которую, предположительно, изобрел греческий поэт Симонид: сегодня она более известна как техника дворцов памяти, ею пользовался и Шерлок Холмс в недавней экранизации Би-би-си. По этому методу информацию, которую нужно запомнить, следует мысленно располагать в знакомом месте или по знакомому маршруту. Это может быть дворец, рынок, ваша детская спальня – суть в том, что схема места помогает упорядочить информацию, к которой вы позже сможете вернуться, мысленно пройдясь по знакомой территории.
Еще один удивительный пример того, как мы пользуемся организованным знанием, чтобы быстро заучивать и кодировать новую информацию, – музыка и классическая эпическая поэзия. В блюзе и роке многие песни следуют повторяющемуся 12-тактовому формату. Поп и фолк следуют простой структуре «куплет – припев – куплет», а переходы весьма предсказуемы, поэтому текст или мелодию новой песни, устроенной по тому же образцу, выучить очень легко. Более того, музыка – великое подспорье для запоминания. В музыкальные схемы легко встроить то, что нужно запомнить. Все, что я знаю об американском законодательстве, я знаю из песни «I'm just a bill» из музыкального мультсериала «Schoolhouse Rock!», которую в детстве множество раз слышал из телевизора по утрам в субботу. Отсюда недалеко и до мысли, что многое в музыке и поэзии, созданных народами из всех уголков планеты, пережило века благодаря тому, как легко запоминается и передается значимая информация в рамках музыкальной структуры.
Возможно, самый простой способ применения схем для запоминания – тот, которым мы ежедневно пользуемся, чтобы запомнить новые события. Скажем, если вы хотите запомнить порядок карт в колоде, лучше не пытаться запомнить каждую карту по отдельности. Можно сочинить историю, которая свяжет их друг с другом (например, дама попросила короля поменять ей колесо в машине, и он проехал семерку миль до заправки «Туз»…). Эффективность подобных стратегий говорит об умной и эффективной природе человеческого запоминания – в противоположность бездумной природе фотографической памяти.
Ум в бездействии
Новейшие нейробиологические исследования пролили немало света на то, как схемы воплощаются в мозге. Как ни странно, больше всего помогло открытие сети зон мозга, которые, судя по всему, активируются, когда мы ничего не делаем.
В большинстве фМРТ-экспериментов испытуемые выполняют обычные задания: лежа в сканере, разглядывают изображения или слова на экране и принимают решения нажатием кнопки. В былые времена из этих данных делались выводы, согласно которым мозг состоит из набора разных зон, работающих по отдельности: каждая выполняет свою задачу. По мере того как мы все лучше разбирались в устройстве неокортекса, мы стали понимать, что дело обстоит совсем иначе.
Сети социальных связей у людей строятся из взаимосвязанных кругов семьи, друзей, коллег – так и неокортекс подразделяется на сети анатомически и функционально связанных между собой зон, которые общаются друг с другом, когда мы реагируем на окружающий мир[95]. По мере прогресса фМРТ-исследований становилось все яснее, что зоны в одной сети, как правило, активируются одновременно. Скажем, если я смотрю на пустой экран и на нем вдруг вспыхивает изображение собаки, «загорается» зрительная сеть; если я слышу собачий лай – загораются зоны в слуховой сети, и так далее. Когда нам дают задания, требующие больше внимания, на фМРТ видно, как повышается активация в различных нейронных сетях… за одним исключением.
В 2001 году Маркус Райхл, первопроходец нейровизуализационных исследований из Вашингтонского университета, отметил, что определенный набор зон неокортекса потребляет больше всего энергии в мозге, но активность в этих зонах понижается, когда люди сосредоточивают внимание на конкретной задаче – скажем, нажать кнопку, когда на экране появится X. Райхл предположил, что эта сеть зон включается по умолчанию, когда мы не взаимодействуем со средой[96]: он назвал ее «сеть пассивного режима работы мозга» (СПРРМ). Объединив под общим именем набор малопонятных зон, запрятанных в глубине неокортекса, Райхл указал, что они могут иметь некую общую функцию.
Нейробиологи, как правило, активны, амбициозны и серьезно относятся к своим задачам. В сети зон мозга, которые выключаются, когда люди берутся за дело, не может быть ничего полезного, верно? СПРРМ часто изучают в связи с «витанием в облаках»[97] – как будто ее основная функция состоит в том, чтобы помогать нам отвлекаться и бездельничать.
Я не знал, как истолковать все эти исследования. Казалось, что чего-то не хватает. Меня не устраивала мысль о том, что эволюция сконструировала огромный кусок мозга, исключительно чтобы грезить наяву. Еще больше я был озадачен, узнав, что активность мозга в гиппокампе тесно связана с СПРРМ. Когда снижается активность СПРРМ, она снижается и в гиппокампе.
Все это казалось мне полной бессмыслицей до 2011 года, когда я послушал несколько докладов на конференции по памяти в Йорке, в Англии, и узнал о растущем числе фМРТ-исследований, в которых СПРРМ подсвечивалась, как новогодняя елка[98]. Эта сеть выключается, когда люди берутся за несложные задания (например, им показывают слово «акула» и просят назвать первый глагол, какой придет в голову), но «зажигается» при более сложных мыслительных процессах – например, когда человека просят припомнить что-то из прошлого, пройти игру в виртуальной реальности или даже просто понять смысл рассказа или фильма. Вернувшись из Йорка, я объединил усилия с Морин Ритчи – тогда она была постдоком у меня в лаборатории, теперь профессор в Бостонском колледже, – чтобы просеять горку исследований, проведенных на людях, обезьянах и даже крысах, – и вскоре проявилась закономерность. Мы выдвинули предположение о том, что клеточные ансамбли в СПРРМ хранят схемы, при помощи которых люди понимают мир[99]: переживаемые события расчленяются на кусочки, которые можно использовать вновь, чтобы создавать новые воспоминания. А гиппокамп, в свою очередь, может собирать эти кусочки воедино, чтобы сохранять конкретные эпизодические воспоминания.
Мне не терпелось проверить наши гипотезы о СПРРМ, но я не знал, с чего начать. Почти все, что нам было известно о нейробиологии человеческой памяти, опиралось на исследования по модели Эббингауза, в которых мы просили людей запоминать списки случайных слов и лиц. Подобные задачи не слишком позволяют развернуться в пользовании схемами. К счастью, на горизонте замаячили перемены. Мне стали попадаться на глаза новые данные из исследований, где мозговую активность наблюдали на фМРТ, пока люди смотрели фильмы или слушали рассказы[100]. Эти исследования показывали, что не обязательно ограничиваться фиксацией микрокосмов памяти. Можно целить выше и изучать память на события, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни. Эти работы вдохновили меня на то, чтобы собрать команду «супердрузей» – со мной были Сэм Гершман из Гарварда, Лючия Меллони из Нью-Йоркского университета, Кен Норман из Принстона и Джефф Закс из Вашингтонского университета – и построить компьютерную модель того, как СПРРМ помогает запоминать события реальной жизни[101]. Удивительным образом мы убедили Управление военно-морских исследований США поддержать этот проект, и я принялся перестраивать подход своей лаборатории к изучению механизмов памяти.
Мы перешли от изучения активности мозга у людей, которые заучивали отдельные слова или картинки, к экспериментам посложнее, где люди вспоминали, что происходило в сорокапятиминутном фильме или рассказе[102]. Наша команда долгие месяцы снимала фильмы и писала рассказы, а один постдок, Алекс Барнетт, даже сделал два мультфильма (один – полицейская производственная драма, другой – что-то среднее между «Шреком» и «Игрой престолов»). После всех трудов мы наконец были готовы проверить гипотезы о том, как схемы помогают нам понимать и формировать воспоминания о мире.
Одно из наших самых интересных исследований провел Зак Ри, который тогда был постдоком в моей лаборатории, а теперь профессор в Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Практически все события, которые мы переживаем, состоят из четырех основных компонентов: люди, вещи, а также места и обстоятельства, в которых они взаимодействуют. Поэтому мы предположили, что схемы для людей и вещей будут храниться отдельно от схем для мест и обстоятельств, в разных местах СПРРМ. Чтобы проверить эту гипотезу, Заку пришлось стать режиссером-любителем. Он снял на камеру GoPro двух других постдоков, Алекса Барнетта и Камин Ким, в супермаркете и в кафе. В одном фильме Алекс выбирал консервы в магазине Safeway, в другом Камин читала книгу и пила чай в Mishka's, знаменитом кафе в Дэвисе. В этих коротких видео были запечатлены простые и понятные события, так что они идеально подходили, чтобы проверить, используем ли мы вновь одни и те же схемы, когда осознаем и запоминаем события. Если это так, стоит ожидать, что области, входящие в СПРРМ, проявят схожую активность (то есть те же коды памяти), скажем, при наблюдениях, как Алекс покупает консервированную фасоль в дешевом кооперативном магазине и как Камин покупает органическую голубику в Nugget (модной местной продуктовой сети). Чтобы все это проверить, мы укладывали людей в сканер и записывали активность мозга, пока они смотрели все восемь фильмов Зака, а потом пересказывали их содержание по памяти.
Завершив эксперимент, мы решили посмотреть, обнаружатся ли закономерности в данных фМРТ – увидим ли мы коды памяти, которые позволят понять, как для разных событий схемы используются заново[103]. Мы обнаружили, что СПРРМ предоставляет сырье, необходимое, чтобы понять и запомнить каждый фильм, но не хранит эпизодических воспоминаний, привязанных к контексту. Вместо того чтобы сохранять уникальный код памяти для каждого фильма, СПРРМ разбивала каждый фильм на компоненты, которые использовались снова и снова, чтобы понимать или запоминать другие фильмы, состоящие из тех же компонентов. Коды памяти в одной из частей СПРРМ могли сообщать нам, смотрит ли испытуемый фильм, действие которого происходит в супермаркете или кафе, а коды памяти в другой части сообщали, кто снимался в фильме – Алекс или Камин. А вот гиппокамп, в отличие от СПРРМ, сохранял лишь воспоминание о начале и конце каждого фильма (то есть о границах событий).
Распределение обязанностей между отделами СПРРМ наводит на мысль, что для разных составляющих опыта у нас имеются разные виды схем. Одни схемы сообщают о контексте определенных событий, независимо от их участников. Скажем, в супермаркете понятно, что за продукты придется платить независимо от того, кто сидит за кассой. Другие схемы сообщают о конкретных людях и вещах. Скажем, у меня есть схемы, которые говорят мне о том, кто такие Алекс и Камин – независимо от того, когда и где мы с ними столкнемся. Благодаря СПРРМ каждый раз, как иду за покупками, я могу воспользоваться схемой супермаркета, а каждый раз, как вижу Алекса, – схемой Алекса. А благодаря гиппокампу я могу также формировать разные воспоминания для каждой конкретной встречи с Алексом в супермаркете.
На основании этих данных я пришел к мнению, что формирование эпизодических воспоминаний в чем-то сродни сборке лего. Средневековый город из лего можно разобрать и рассортировать по кучкам кирпичей и пластиковых человечков. Так же и СПРРМ может разобрать событие и отдельно обработать детали того, «кто» и «что» там были, а отдельно – «где» и «как» это происходило. С лего можно заново выстроить средневековую сцену, заглянув в инструкцию, – или взять другие инструкции, по которым из тех же деталей можно построить сцену из «Звездных войн». Так же и с памятью: СПРРМ располагает элементами, которые можно использовать для множества событий. У гиппокампа, видимо, есть инструкции, по которым следует собирать кусочки воедино, чтобы запоминать конкретное событие, и активация гиппокампа резко растет, когда на границах событий он сообщается с СПРРМ[104]. Можно свериться с инструкцией, собрать кусочек лего, затем вновь обратиться за подсказкой, переходя к следующей части, – так и гиппокамп в ключевые моменты дает указания СПРРМ, чтобы та использовала нужные элементы и воссоздавала нужные воспоминания.
Наши исследования СПРРМ потенциально важны для понимания Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Уже ясно, что амилоид – протеин, участвующий в развитии болезни Альцгеймера, – накапливается в СПРРМ примерно у 20 % пожилых людей еще до появления каких-либо симптомов[105]. Единственный способ разработать действенное лечение болезни Альцгеймера – давать лекарства людям из группы риска на этой «доклинической» стадии, поскольку позже, в ходе развития болезни, в СПРРМ происходит необратимая массовая гибель клеток. В данный момент мы изучаем, можно ли использовать данные фМРТ-исследований памяти для распознавания дисфункции СПРРМ на ранних стадиях болезни, чтобы люди из группы риска могли получать лечение до наступления необратимых повреждений мозга.
Назад в будущее
Если бы вы заявили на вечеринке, что способны предсказывать будущее, скорее всего, к вам отнеслись бы скептически. Но на самом деле это утверждение не так уж и далеко от действительности. Предположим, друзья пригласили вас на школьный выпускной своего ребенка. Даже если вы никогда не бывали на церемониях в этой конкретной школе, вы сможете небезосновательно предсказать, что услышите вдохновенные речи, а наряженным в шапочки и мантии ученикам вручат дипломы под торжественные марши Элгара.
Вернемся к шахматным гроссмейстерам, которые проводят бессчетные часы, изучая и проигрывая одни и те же приемы в тысячах партий. У гроссмейстера в голове есть библиотека шахматных схем, в каждой схеме – образцы последовательностей ходов, которые, как правило, встречаются в игре. Эти схемы позволяют гроссмейстеру вспоминать последовательности ходов из прошедших игр, понимать в реальном времени, что происходит в игре, и предсказывать вероятные ходы соперника в будущем. Если воспользоваться экспертным знанием, с виду сложная расстановка на доске окажется понятным шагом в последовательности ходов, за которые можно съесть уйму фигур и поставить мат.
Профессиональные спортсмены часто пользуются своими знаниями так же, как шахматные гроссмейстеры. В стремительных командных видах спорта – скажем, баскетболе или футболе – одних физических талантов недостаточно. Для истинного успеха нужно изучать игру и собирать арсенал схем, которые будут под рукой в нужный момент. Леброн Джеймс – один из величайших игроков в баскетбол за историю NBA и рекордсмен по очкам – известен также своей способностью в подробностях вспоминать, как разворачивались прошедшие игры. Сам Джеймс говорит, что обладает фотографической памятью, но его настоящая сила в том, что тренер NBA (и бывшая баскетбольная легенда Калифорнии) Джейсон Кидд называет «баскетбольным IQ». Словно шахматный гроссмейстер, Леброн опирается на свои знания об игре, чтобы мгновенно сжимать информацию о сложных последовательностях действий. Он может в реальном времени соотносить то, что видит, с обширной мысленной базой схем событий и делать точные прогнозы дальнейшего хода игры.
Джейсон Кидд говорит, что Леброн «играет, будто предвосхищая, что будет дальше. Человек с высоким баскетбольным IQ раньше других понимает, что произойдет дальше»[106]. Сам Леброн описывает свой баскетбольный IQ похожим образом: «Благодаря этому я видел, что случится, до того, как оно случится, отправлял ребят на позиции, знал, где находится каждый игрок, кто в ритме, кто выбился из ритма, какой счет, какое время, что творится у соперников, что им нравится и не нравится, и все это учитывал, оценивая игровую ситуацию».
В видеоигры с друзьями Леброн играет с тем же мнемоническим рвением. Его давний друг Брэндон Уимз выразился так: «Он помнит, как вы планировали игры в прошлом, когда играли в одной команде, так что в игре против тебя он будет подбирать команду, видя все твои стратегии насквозь… Любимые приемы тоже лучше придержать, потому что он будет помнить, как ты сыграл в такой же ситуации в прошлый раз, и будет подготовлен»[107]. Одно из конкурентных преимуществ Леброна в том, что он пользуется памятью с небывалой эффективностью.
Схемы позволяют видеть события насквозь, улавливать глубокие структурные связи. Таким образом память о сотнях, тысячах событий сжимается в формат, который позволяет делать выводы и предсказания о событиях, которых мы еще не пережили. Схемы позволяют пользоваться знанием о том, что произошло, чтобы упредить то, что произойдет.
Но, как я покажу в следующей главе, подобная генеративная система памяти имеет не только преимущества, но и потенциальные издержки. Если мы пользуемся одним и тем же знанием для разных событий – что будет, если чересчур полагаться на схемы и заполнять пробелы в памяти, все дальше отклоняясь от реального опыта?
4. Лишь мое воображение
Почему память неразрывно связана с воображением
Ник Кейв, The Sick Bad Song
- Память воображаема, а не реальна.
- Не стыдись ее стремления создавать.
Соломон Шерешевский, российский газетный репортер, обладал на редкость феноменальной памятью. Заметную часть своей жизни он не отдавал себе отчета в том, насколько его память особенна. Когда ему было около тридцати, редактор московской газеты, где тот работал, обратил внимание, что Шерешевский никогда не делает заметок на утренних летучках. Тот ответил, что ничего не записывает, так как ему это не нужно, – и дословно повторил длинный список указаний и адресов по задачам того дня. Редактор был впечатлен, но еще больше его заинтересовало то, что Шерешевский не видел в этом ничего необычного. «Разве не у всех так?» Редактор никогда ни с чем таким не сталкивался и отправил Шерешевского на проверку памяти.
Там, в психологической лаборатории местного университета, репортер встретился с молодым ученым Александром Лурией – одним из будущих основателей нейропсихологии. На протяжении тридцати лет Лурия проверял, изучал и тщательно документировал выдающиеся способности Шерешевского мгновенно запоминать выдуманные слова, сложные математические формулы, даже стихи и тексты на незнакомых языках. Мало того, что Шерешевский мог спустя много лет в точности вспомнить всю информацию, он еще и помнил, как был одет Лурия в день той или иной проверки. В классическом труде 1968 года «Маленькая книжка о большой памяти. Ум мнемониста»[108] Лурия писал: «Приходилось признать, что объем его памяти не имеет ясных границ».
Лурия связывал выдающиеся способности Шерешевского с редким расстройством под названием синестезия: каждый стимул, приходящий по любому из сенсорных каналов, запускал все остальные чувства. Шерешевский чувствовал слова на вкус, видел музыку, обонял цвета – на его восприятие влияло даже звучание слов. Он рассказывал, как спросил продавщицу в киоске, какое есть мороженое. Что-то в звуке голоса, которым она ответила «Пломбир!», вызвало у него образ углей и черного шлака, сыплющихся у нее изо рта, и есть ему резко расхотелось. Связь между мирами, созданными в его сознании, и миром, где он жил, была столь сильна, что Шерешевский мог ускорять свое сердцебиение, лишь представив, как бежит за поездом. Он мог повышать температуру одной руки и понижать температуру другой, представляя, как кладет одну на раскаленную плиту, а другую – на глыбу льда.
Особенности чувственного мира Шерешевского распространялись и на его воображение, позволяя ему формировать отчетливые воспоминания, устойчивые к интерференции. Журналист New Yorker Рид Джонсон, который десять лет изучал случай Шерешевского, описывал его способности привязывать любую, самую заурядную информацию к выдуманным историям, которые он мог впоследствии припоминать и, словно по следу из хлебных крошек, находить по ним путь к нужным данным[109]:
Его воспоминания были столь прочны и длительны, вероятно, в силу его способности создавать сложные мультисенсорные мысленные образы и располагать их в воображаемых местах или сюжетах: чем ярче образ и сюжет, тем глубже он укореняется в памяти.
В поздние годы, когда Шерешевский стал на публику исполнять невероятные трюки памяти за деньги, в дополнение к природным способностям он освоил и технику, знакомую современным мнемоспортсменам, таким как Скотт Хэгвуд или Янджаа Уинтерсоул. Судя по всему, он скорее открыл для себя этот метод самостоятельно, чем обучился ему, но техника напоминала метод локусов. Когда нужно было запомнить последовательность слов или чисел, он представлял их в виде букв и цифр, расположенных в знакомой схеме – скажем, на московской улице – и отправлялся гулять по бескрайним мысленным мирам.
Соломона Шерешевского часто приводят как пример человека с выдающейся памятью, но разгадка его необыкновенных способностей кроется в силе воображения. Десятки лет исследований Лурии показывают, насколько глубока связь памяти с воображением, лежащая в основе запоминания у каждого из нас. В этой главе мы рассмотрим, как особенности формирования воспоминаний могут уводить нас слишком далеко от действительности, но разжигают наше воображение, суля безграничные возможности.
Что может случиться
Простейший способ увидеть работу эпизодической памяти – просканировать мозг человека, описывающего какое-нибудь событие из своей жизни. К примеру, если меня положить в МРТ-сканер, показать слово «фотография» и попросить описать событие из моей жизни с использованием этого слова, я вспомню, скажем, о том, как впервые побывал на рок-концерте. В 14 лет я фанател от альбома Pyromania английской хэви-метал группы Def Leppard. Если бы вы наблюдали работу моего мозга, пока я вспоминаю, как Стив Кларк исполнял знаменитый рифф во время песни «Photograph», вы бы увидели, как активируется гиппокамп при извлечении контекстуальной информации, которая мысленно переносит меня в 1985 год, и СПРРМ – при извлечении знаний о концертах вообще, позволяющих подробно рассказать о том, как разворачивались события на том конкретном концерте[110].
Теперь попробуем иначе. Предположим, вы лежите в МРТ-сканере, а я показываю вам слова – например, «паста» или «парашют» – и прошу использовать эти слова, чтобы вообразить нечто, чего не случалось в действительности, или даже что-то, что и вовсе вряд ли могло бы произойти. Вы можете вызвать мысленный образ, скажем, как готовите спагетти с Марвином Гэем, звездой мотауна[111], или как прыгаете с парашютом вместе с легендой физики Марией Кюри. В 2007 году исследования на эту тему опубликовали три лаборатории, и вот что они обнаружили: изменения активности мозга людей, представляющих себе подобные сцены, удивительно похожи на те, что происходят в мозге, когда люди вспоминают о действительно пережитых событиях[112].
Это странное сходство воображения и памяти удивило многих в научном сообществе и привлекло внимание прессы – журнал Science внес это в десятку прорывов года[113], – но это не стало полной неожиданностью. Это предсказал почти столетием раньше английский психолог сэр Фредерик Бартлетт: его труды легли в основу представления о том, что мы пользуемся мысленными конструкциями (то есть схемами), чтобы обрабатывать и упорядочивать окружающий мир.
Бартлетт начал исследовать человеческую память в 1913 году, в аспирантуре Кембриджского университета[114]. После защиты диссертации он сосредоточился не на памяти, но на культурной антропологии и применении психологии к военному делу[115]. К счастью, в какой-то момент он вернулся к теме памяти и в 1932 году опубликовал самую важную свою работу – книгу «Запоминание: исследование в области экспериментальной и социальной психологии» (Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology)[116].
Книга Бартлетта была резким отступлением от традиции исследований памяти, заложенной Германом Эббингаузом еще в 1885 году. Эббингауз измерял запоминание странной, бессмысленной информации в строго контролируемых условиях. Бартлетт же опирался на свой опыт в практической психологии и антропологии; он наблюдал и описывал, как мы пользуемся памятью в повседневной жизни. Говоря кратко, Бартлетт скорее стремился понять, как мы запоминаем, а не просто измерить сколько.
В своем самом известном эксперименте Бартлетт познакомил группу добровольцев из Кембриджского университета с индейской народной сказкой «Война привидений», которую выбрали именно потому, что ее культурный контекст был совершенно чужд английским студентам. Испытуемые Бартлетта запоминали суть сюжета, но совершали характерные ошибки. Дело было не просто в том, что они не могли припомнить какие-то подробности – они подстраивали подробности под свои собственные культурные нормы и ожидания. Каноэ превращалось в лодку, охота на тюленей – в рыбалку.
Обдумывая эти результаты, Бартлетт отметил, что, пусть люди и вспоминают некоторые подробности из прошлого, их воспоминания в лучшем случае приблизительны. Он заключил: «Вспоминание – это не активация заново бесчисленных закрепленных, безжизненных и фрагментарных следов. Это творческая реконструкция». Мы не просто заново проигрываем события из прошлого, но пользуемся небольшим объемом контекста и вспоминаемой информации как отправной точкой для того, чтобы вообразить, что могло бы случиться в прошлом. Мы составляем историю на лету, опираясь на личный и культурный опыт, и обогащаем получившийся сюжет теми подробностями, что вспомним. Идеи Бартлетта – ключ к пониманию того, почему мозговые механизмы воображения и памяти не полностью независимы друг от друга – и те, и другие опираются на извлечение знания о том, что может произойти, но не обязательно о том, что произошло.
Сказки реконструкции
Поскольку память по природе своей – реконструкция, наши воспоминания иногда способны зажить собственной жизнью. Вспомним Брайана Уильямса, бывшего ведущего новостей на канале NBC. Во время хоккейного матча New York Rangers в 2015 году Уильямс рассказывал, как в 2003-м ездил со своей новостной командой в Ирак и их вертолет сбили реактивной гранатой[117]. Его рассказ тут же опровергли несколько ветеранов-очевидцев. За время, проведенное в Ираке, Уильямс никогда не попадал под неприятельский огонь, а вот в эпицентре скандала вполне себе очутился: его рассказ прозвучал как неприкрытая ложь.
На самом деле Уильямс с командой летели примерно с часовым отставанием от трех военных вертолетов, один из которых действительно сбила реактивная граната, и всем трем пришлось совершить аварийную посадку в пустыне. Их нагнал и вертолет Уильямса, а из-за песчаной бури они все застряли в пустыне на несколько дней. Отдельные подробности, которые описывал Уильямс в 2015 году, совпадали с тем, что произошло на самом деле, но история, которую он рассказал спустя двенадцать лет, принадлежала не ему, а солдатам из сбитого вертолета. Уильямс извинялся, пытался все списать на «туман в памяти», но было уже поздно. Журналистская честь была запятнана, его заподозрили во лжи ради репутации. Уильямса на полгода отстранили от работы, и в конечном итоге он ушел с поста ведущего вечерних новостей NBC.
Я не могу сказать, намеренно ли Брайан Уильямс приукрасил свой рассказ, но, если следовать презумпции невиновности, кажется, что он вспомнил множество верных элементов, но воссоздал принципиально неверный сюжет. Его творческая реконструкция пошла наперекосяк.
Наши воспоминания обычно не так далеко отклоняются от цели, как рассказ Уильямса об Ираке, но обширные научные данные позволяют считать, что иногда мы с уверенностью вспоминаем то, чего на деле не происходило. В 1995 году Генри Рёдигер III и Кэтлин Макдермотт из университета Вашингтона в Сент-Луисе продемонстрировали это в рамках эксперимента, о котором теперь рассказывают почти в каждом вводном курсе психологии[118]. Они просили участников заучивать списки слов, таких как:
Теперь сделайте одолжение. Не глядя на список, подумайте, какие слова вы видели? Вы прочитали слова «страх» и «ярость»? А слово «злоба» там было? Если вам кажется, что да, – вы ошибаетесь, но вы не одиноки. Участники эксперимента Рёдигера и Макдермотт с одинаковой вероятностью припоминали слово «злоба» и слова, которые действительно прочли, – например, «страх» и «ярость».
