Полководцы Победы
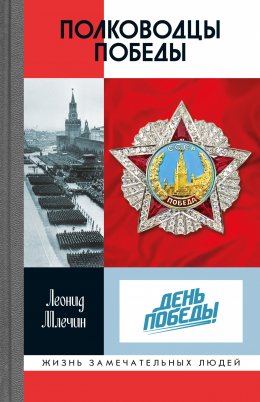
Жизнь замечательных людей.
Серия биографий
Выпуск 2063
© Млечин Л. М., 2025
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2025
Вместо предисловия
Судьба России могла сложиться иначе. Если бы не герои этой книги. Конечно же, выдающиеся военачальники, полководцы, победившие в Великой Отечественной войне, заслужили вечную славу.
Полный авантюризм фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, его беспримерные наглость и самоуверенность помешали ему понять, что войну с Советским Союзом вермахт выиграть не сможет. В Берлине не понимали силу Красной армии и не сознавали, какие талантливые полководцы защищают свою Родину.
Стратегия – это доступное немногим искусство добиваться нужного результата в самом враждебном окружении, в мире, который ополчился против нас. Стратегия – это то, что позволяет спасти страну в самой безумной ситуации, одержать победу над самым подготовленным врагом.
Универсальной формулы стратегического успеха не существует. Подход, который обеспечил победу в одном сражении, может иметь катастрофические последствия в другом. Враг всегда будет пытаться сорвать самые продуманные планы. Стратегия – это искусство, бесконечный поиск, в котором гибкость, здравый смысл стремление к новому бесконечно важны.
Одно дело задумывать великие дела, и совсем другое – осуществить их и добиться успеха. Для осуществления великих дел требуются талант, характер и воля. Все это было у полководцев Победы. Одни проявили себя на поле боя еще до Великой Отечественной. Звезда других взошла в годы войны.
Одаренные профессионалы, они не сомневались, что немцы будут разгромлены. Но нельзя забывать, каким опасным и хорошо подготовленным был враг. Великая Отечественная продолжалась долгие 1418 дней. И дорого обошлась нашему народу и стране. Полководцы Красной армии громили врага в упорных и тяжелых сражениях.
Но каким был путь к Победе?
Леонид Млечин, Москва, 2025 год
Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов
На следующий день после начала войны, 23 июня 1941 г. да, была образована Ставка Главного командования под председательством наркома обороны маршала Советского Союза Семена Константиновича Тимошенко. Сталин включил в нее и прежнего наркома – маршала Климента Ефремовича Ворошилова.
Теперь мы знаем, что те первые дни и определили исход войны.
Брестская крепость
«Предрассветная полумгла на западе озарилась мгновенно взблеснувшей зарницей, яростные вспышки взрывов, вздымающих к небу черные столбы земли, забушевали на первых метрах пограничной советской территории, и все потонуло в тяжком оглушительном грохоте, далеко сотрясающем землю.
Тысячи германских орудий и минометов, скрытно сосредоточенных в последние дни у границы, открыли огонь по нашей пограничной полосе. Всегда настороженно-тихая линия государственного рубежа сразу превратилась в ревущую, огненную линию фронта…»
Это была война, которая станет для нашей страны Великой Отечественной. Так начал свой рассказ о защитниках Брестской крепости писатель-фронтовик Сергей Сергеевич Смирнов, который сам прошел всю войну.
Оборона Брестской крепости имела еще и особое, символическое значение. В августе 1941 года Адольф Гитлер именно сюда пригласил своего союзника – вождя фашистской Италии Бенито Муссолини, чтобы продемонстрировать ему силу немецкого солдата и мощь немецкого оружия. Они прилетели на двух «Юнкерсах» и несколько часов ходили по разрушенной крепости.
Порадоваться собственным успехам в Брест прибыли начальник Верховного командования вермахта (ОКВ) генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник Штаба оперативного руководства ОКВ генерал-полковник Альфред Йодль, командующий 4-й армией генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, командующий 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг.
На самом деле хвастаться было нечем. Да только в Берлине не в силах были это признать. В Бресте немецкая армия, считавшая себя непобедимой, столкнулась с противником, одолеть которого не сможет.
Писатель Сергей Смирнов – а он много лет собирал материалы для книги об обороне Брестской крепости – не просто восстановил справедливость в отношении бойцов и командиров Красной армии, которые первыми приняли удар вермахта и сражались до последнего. История обороны Брестской крепости объясняет, почему нацистская Германия потерпела поражение в войне.
Еще летом 1942 года наши части захватили документы штаба 45-й немецкой дивизии, которой в июне 41-го было приказано взять Брестскую крепость и захватить мосты через реки Буг и Западный Мухавец.
Командир 45-й дивизии генерал-майор Фриц Шлипер, которого Адольф Гитлер в конце 1941 года произвел в генерал-лейтенанты и наградил Рыцарским крестом, подводя итоги сражения за Брестскую крепость, писал:
«Личным наблюдением убедился, что ближним боем пехоты крепости не взять…
Там, откуда русские были выбиты, через короткий промежуток времени из подвалов домов, из-за водосточных труб и других укрытий появлялись новые силы, стреляли превосходно, так что потери значительно увеличились…
Наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Это простая истина еще раз доказана при взятии Брест-Литовска. Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к борьбе».
Немецкие части прошли хорошую выучку и в бою действовали умело. И у них уже накопился немалый боевой опыт – они успели захватить пол-Европы.
И в 1941-м командование вермахта нисколько не сомневалось: русские поступят так же, как поляки, французы, голландцы, англичане: увидев, что соотношение сил не в их пользу, – отступят и капитулируют: зачем умирать?
Но защитники Брестской крепости погибали в бою, но не сдавались.
Невероятная самоотверженность, стойкость, бесстрашие, отвага – эти качества красноармейцев сыграли определяющую роль в первые, самые тяжелые дни войны…
Я много писал о пограничниках. Еще в советские времена. Однажды приехал на одну заставу на западной границе – недалеко от Бреста – поздно ночью. А встал рано утром, когда еще все спали кроме дежурной группы. И вижу: на территории заставы два старых дота – долговременных огневых точки, сооружений из железобетона, с амбразурами для ведения огня по противнику. Подошел поближе и понял: они с войны остались. Один разворочен прямым попаданием артиллерийского снаряда. И я представил себе наших пограничников, которые ранним утром 22 июня 1941-го заняли тут оборону. Они могли, спасая свою жизнь, отойти. А они остались на боевом посту. И немцы не могли здесь прорваться!
45-й дивизии вермахта приказано было взять Брестскую крепость одним ударом, чтобы как можно скорее открыть дорогу для наступления 2-й танковой группы создателя немецких танковых войск генерал-полковника Гейнца Гудериана. А его танки должны были неостановимо рваться к Москве. Вот, что тогда стояло на кону.
На крепость обрушился артиллерийский огонь невиданной плотности – семьсот снарядов в минуту. Немцы подтянули не только двенадцать артиллерийских батарей, но и оружие большой мощности – сверхтяжелые 600-миллиметровые мортиры «Карл» и еще дивизион 210-миллиметровых мортир. Эти орудия Гитлер будет с гордостью демонстрировать вождю фашистской Италии Бенито Муссолини.
Сначала снаряды полетели в сторону восточной окраины. Через пятнадцать минут немцы перенесли огонь на крепость и Северный городок.
Днем немцам удалось захватить клуб и столовую командного состава. Часть гарнизона отступила. Оставшиеся продолжали сражаться. Командир 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Петр Михайлович Гаврилов возглавил оборону восточного сектора крепости.
Германское командование было уверено, что интенсивного артиллерийского огня достаточно, чтобы заставить гарнизон сдаться. Кто в состоянии выдержать такой обстрел?
Немцы ошиблись. Крепость не пала, как рассчитывали в Генеральном штабе сухопутных сил вермахта.
Архитектура крепости позволила бойцам и командирам пережить массированный артобстрел. Пограничники и красноармейцы продолжали сражаться. Немцы несли неожиданно большие потери.
Рано утром 23 июня немецкие войска были выведены из крепости, и на нее вновь обрушился артиллерийский огонь. Крепость в течение всего дня подвергалась обстрелу, а вечером в район Северного острова перебросили машины пропагандистской роты, оснащенные громкоговорителями.
В штабе 45-й немецкой дивизии отметили в сводке:
«Около 9.00 прибыла радиомашина, из которой стали разъяснять русским бесполезность их сопротивления и призывали к сдаче в плен… Но с наступлением темноты русские пытались сделать мощные вылазки… Русские, готовые к дальнейшим боям, отклоняли любую капитуляцию».
Немецкому командованию стало ясно, что оставшиеся к крепости красноармейцы намерены сражаться до последнего.
В районе Бреста наступал XLVI моторизованный корпус вермахта, сформированный в октябре 1940 года. Весной 1941 года корпус участвовал в захвате Югославии, которая не захотела подчиниться Адольфу Гитлеру и была оккупирована. В состав корпуса входили элитные войска: дивизия СС «Рейх», 10-я танковая дивизия и пехотный полк «Великая Германия» (это образцовая часть, она неизменно участвовала в парадах, и в нее зачисляли лучших солдат).
Разработчики плана «Барбаросса» – нападения на Советский Союз – исходили из того, что разгром Красной армии потребует всего нескольких недель. Адольф Гитлер уверенно обещал своим солдатам, что они вернутся на свои рабочие места уже в конце августа сорок первого. Он пребывал в уверенности, что никто не способен противостоять немецкому солдату.
Расовая теория привела Адольфа Гитлера к власти. Фюрер аккумулировал и изложил в доступной форме идеи, которые были безумно симпатичны множеству немцев: уверенность в том, что они от природы лучше других.
Полюбившаяся нацистам политическая антропология поделила человечество на полноценные и неполноценные расы. Расовой судьбой одним предопределено управлять миром, другим исчезнуть с лица земли. Адольф Гитлер вернул немцам, болезненно пережившим распад империи после поражения в Первой мировой войне, ощущение принадлежности к великой державе.
Гитлер утверждал, что он затеял войну против России как войну против мирового коммунизма. Но в реальности ему было все равно, кто управлял Россией. Россия была соперником Германии на континенте. Поэтому она подлежала уничтожению, а славянские земли колонизации.
Еще в 1925 году Гитлер писал: «Как национально настроенный человек, оценивающий человечество с расовых позиций, я не имею права уже хотя бы ввиду расовой неполноценности этих народов связывать с ними судьбу собственного народа. Современная Россия, лишенная своего немецкого верхнего слоя, не может быть союзником немецкой нации».
Свои планы Гитлер никогда не скрывал. Для Гитлера Россия была врагом. С первых шагов в политике фюрер откровенно призывал уничтожить большевистскую Россию как источник мирового зла. 30 марта 1941 года в Имперской канцелярии в Берлине Гитлер выступил с секретной речью перед высшим командованием вермахта. Он говорил о будущей войне:
– Наши задачи в отношении России: вооруженные силы разгромить, государство ликвидировать… Это борьба двух мировоззрений, потому что коммунизм – это чудовищная опасность для будущего. Нам не следует придерживаться законов солдатского товарищества. Коммунист не был товарищем и не будет. Речь идет о борьбе на уничтожение. Эта война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость – это благо для будущего.
Гитлер с пренебрежением замечал, что русский народ, по-видимому, уже на 70–80 процентов состоит из монголов. Поэтому предстоит уничтожить «биологическую субстанцию восточных народов», чтобы воспользоваться их жизненным пространством. Фюрер сравнивал Россию с бубонной чумой, способной заразить и погубить весь западный мир:
– Что будет с русскими или чехами, меня совершенно не интересует… Если десять тысяч русских баб издохнут от изнеможения, копая противотанковый ров, то это интересует меня только в смысле того, закончен ли этот ров, нужный Германии, или нет?
Через два дня, 2 апреля, Адольф Гитлер пригласил к себе уполномоченного по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП рейхслейтера Альфреда Розенберга и беседовал с ним два часа. Фюрер посвятил его в свои планы уничтожения Советского Союза.
Беседу он закончил словами:
– Розенберг, наступил ваш час!
В свой 52-й день рождения, 20 апреля, Гитлер утвердил Альфреда Розенберга уполномоченным по урегулированию вопросов восточноевропейского пространства. Фюрер выбрал Розенберга как человека, «разбирающегося в русских делах». Розенберг родился в Ревеле (ныне – Таллин).
«О Советской России, – вспоминал Риббентроп, – фюрер всегда говорил с острейшей враждебностью. При таком внутреннем возбуждении глаза его темнели, лицо становилось жестким и неумолимым. Гитлер был преисполнен фанатической решимости ликвидировать коммунизм».
Россия как государство, по немецким планам, должна была исчезнуть с политической карты мира, а русские превращены в дешевую рабочую силу для немецких колонистов. Альфред Розенберг предполагал изгнать из европейской части России примерно 30 миллионов русских. Если выселение из какого-то города затянется, предупредил его Гитлер, «сбросьте парочку бомб на город – и вопрос решен». Оставшиеся славяне будут рабами. Образование им не понадобится.
Восточные земли заселят немецкие колонисты. Во-первых, фольксдойче, то есть немцы, оказавшиеся вне Германии, во-вторых, эсэсовцы, которые после войны в благодарность за боевые заслуги получат земельные наделы на Украине и в России.
Накануне войны, 20 июня 1941 года, рейхслейтер Альфред Розенберг объяснял своим подчиненным политические цели Германии в войне с Советским Союзом:
– Сохранение единой и неделимой России исключено. Замена Сталина новым царем или выдвижение на этой территории какого-либо другого национального вождя только мобилизовало бы русских против нас. Надо выкроить из огромной территории Советского Союза отдельные государственные образования и восстановить их против Москвы…
Но вожди Третьего рейха и командование вермахта столкнулись с сопротивлением, которого никак не ожидали. Даже в первые, самые трудные дни и недели войны Красная армия сражалась так, что все планы командования вермахта рухнули.
В Брестской крепости советских войск было не очень много. Подразделения 17-го Краснознаменного Брестского пограничного отряда. Несколько стрелковых батальонов. Один противотанковый и один зенитный артиллерийские дивизионы. Защитники крепости остались без пищи и воды, располагали небольшим запасом боеприпасов. Постоянные артобстрелы и бомбардировки с воздуха… Но справиться с ними превосходящие силы противника никак не могли.
Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Ефим Моисеевич Фомин организовал оборону центральной части крепости. Он родился в Витебской губернии. Ребенком остался без родителей. В Красной армии служил с 1932 года. В Бресте с марта 1941-го. Он попытался связаться с командованием по радио, но не получилось. Отправил в город разведчиков на броневиках. Они не сумели прорваться. Полковой комиссар Фомин раненым попал в плен. Его расстреляли. Немецкое командование распорядилось: «Все большевистские главари и комиссары должны быть незамедлительно обезврежены».
Командир стрелкового взвода 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии младший лейтенант Николай Александрович Разин со своим взводом 8 суток отбивал яростные атаки, 29 июня он был взят в плен.
Командир пулеметного отделения пулеметного взвода полковой школы 455-го полка 42-й дивизии сержант Алексей Данилович Романов держал оборону в крепости до 1 июля. Отказавшись капитулировать, он с группой бойцов с боем вырвался из крепости…
Восточный форт держался дольше всех. Его обстреливала тяжелая артиллерия, но спасали земляные стены и прочная каменная кладка.
Немецкое командование обратилось за поддержкой в 3-ю истребительную эскадрилью. Первый авианалет утром 29 июня совершили пять бомбардировщиков «Юнкерс» Ju. 88. Они сбросили по две 500-килограммовые бомбы каждый. Никакого эффекта.
Остававшиеся в Восточном форте красноармейцы единодушно решили сражаться насмерть – сдаться было бы изменой. Вечером новый авианалет. Теперь уже семь «Юнкерсов» сбросили на форт в общей сложности двенадцать 500-килограммовых бомб и одну бомбу весом в 1800 килограммов.
Тем не менее в Восточном форте под командованием майора Гаврилова сражались до 30 июня. Когда форт обстреливала немецкая артиллерия, красноармейцы спускались под землю, где сохранился склад боеприпасов и где оборудовали временный госпиталь. Чтобы покончить с последними очагами сопротивления немецкое командование распорядилось затопить подвалы крепости водой из реки Западный Буг.
Защитники Брестской крепости сразу же сорвали планы немецкого командования, и это в конечном итоге предопределило исход Великой Отечественной…
Но пока вермахт наступал. Маршал Ворошилов 10 июля 1941 года был утвержден главнокомандующим войсками Северо-Западного направления; членом Военного совета стал партийный руководитель Ленинграда Андрей Александрович Жданов.
Главком Ворошилов подписал приказ, в котором говорилось: «Над городом Ленина – колыбелью Пролетарской революции – нависла прямая опасность вторжения врага…»
Блокада
Немецкие войска, которые вторглись на территорию Советского Союза, были разделены на три группы армий – «Север», «Центр» и «Юг». На Ленинград нацелилась группа армий «Север». Ее главной ударной силой была 4-я танковая группа генерал-полковника Эриха Гёпнера, почти 700 танков.
Псков танкисты Гёпнера взяли 9 июля 1941 года. Перешли в наступление и финские войска. Под угрозой оказался Ленинград.
В первые же дни войны финского посланника в Берлине принял второй человек в нацистской Германии Герман Геринг. Он предложил Финляндии участвовать в войне против Советского Союза. Посулил выгодные территориальные приобретения: «Финляндия может взять и Петербург, который все-таки, как и Москву, лучше уничтожить…»
В Хельсинки польстились на чужое. Главнокомандующий финскими вооруженными силами маршал Карл Густав Маннергейм подписал приказ: «Призываю на священную войну с врагом нашей нации… Мы с мощными военными силами Германии как братья по оружию с решительностью отправляемся в крестовый поход против врага, чтобы обеспечить Финляндии надежное будущее».
В 3:30 утра 21 июля Адольф Гитлер вылетел в штаб группы армий «Север». Он выслушал доклад командующего генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба и потребовал поскорее покончить с Ленинградом. Гитлер пребывал в уверенности, что падение города приведет к полному краху большевизма… В 10:30 фюрер уже вернулся в свою Ставку «Вольфшанце» в Восточной Пруссии.
В Новгород, Нарву и Кингисепп немецкие войска с боями ворвались 16 августа. Подошли к Гатчине. Город Кингисепп наши войска отбили. И вновь оставили… 20 августа немцы вышли к Октябрьской железной дороге.
Фактически Ленинград был отрезан от страны. 6 сентября немецкие самолеты впервые бомбили Ленинград. 9 сентября начался штурм города.
Финские войска наступали в Карелии, высадились на острове Ханко. И помогли вермахту замкнуть кольцо окружения вокруг Ленинграда. «Когда вермахт захватил станцию Мга – восточнее Ленинграда, – писала финская газета «Ууси Суоми», – а финские войска достигли реки Свирь, судьба города была решена».
Гитлер намеревался сравнять Ленинград с землей, а потом отдать ее финнам. Финское наступление еще и грозило лишить Советский Союз поставок по ленд-лизу военной техники, стратегически важных материалов и продовольствия. Льды перекрыли вход в архангельский порт. Суда союзников с грузами, необходимыми для Красной армии, принимал только незамерзающий мурманский порт.
Главной задачей Карельского фронта было остановить финнов и обеспечить бесперебойные поставки по ленд-лизу.
Хорошо подготовленные к боям в суровых условиях финны были опасным противником. И немцы-то никогда не считались слабыми солдатами, но «гораздо хуже драться с финнами», – сказал на совещании в штабе Карельского фронта командующий генерал-лейтенант Валериан Александрович Фролов.
Тридцатого августа немецкие войска перерезали железнодорожную линию, которая соединяла город со страной. Началась блокада Ленинграда. И немецкая артиллерия получила возможность обстреливать весь город.
Ворошилов то и дело выскакивал из штаба и мчался на передовую, чтобы посмотреть, как идут боевые действия. Его бесстрашие восхищало. Маршал наблюдал за боем, не обращая внимания на прицельный огонь немецкой артиллерии и минометов. Начальник охраны, отвечавший за безопасность главкома и члена Политбюро ЦК, тщетно пытался увести его в укрытие.
Ворошилов раздраженно говорил:
– Если ты боишься, то можешь прятаться. Я не держу тебя.
Подчиненные маршала оправдывались: в их распоряжении недостаточно обученные бойцы.
Ворошилов отвечал:
– А мы в Гражданскую хорошо были обучены? И ничего – били разную белую сволочь.
Встреча в Царицыне
Климент Ефремович Ворошилов был главой Военного ведомства почти 15 лет. Вся страна привыкла к тому, что во главе Красной армии стоит прославленный герой Гражданской войны, создатель непобедимых советских вооруженных сил, лучший друг великого Сталина, воспетый в песнях «первый красный офицер» Клим Ворошилов.
Все, что происходило в Красной армии, было связано с его именем.
Были «ворошиловские стрелки» – этим почетным званием и нагрудным значком награждали тех, кто выполнял установленные нормативы в стрельбе из винтовки. Говорили о «ворошиловском залпе», называя общий вес снарядов, которые могли одновременно выпустить все артиллерийские орудия Красной армии. Даже существовали «ворошиловские завтраки» – установленное по его приказу дополнительное питание для особо почитаемых тогда военных летчиков: кофе с молоком, булочка и шоколад, которыми в полдень угощали пилотов.
На любых торжественных собраниях Климента Ефремовича выбирали в президиум. Ему казалось, что его все любят. И он действительно был одним из самых популярных людей в стране. Он умел располагать к себе.
Не только красноармейцы, но и пионеры и комсомольцы адресовали ему свои рапорты и, маршируя, пели песню из фильма «Трактористы». Его снял известный кинорежиссер Иван Александрович Пырьев, будущий народный артист СССР и лауреат шести Сталинских премий. Пырьев побывал на озере Хасан, где в 1938 году шли бои между Красной армией и японскими войсками, и вдохновился этим героическим сюжетом. Музыку написали известные композиторы Дмитрий Яковлевич и Даниил Яковлевич Покрасс, стихи – поэта и военного корреспондента Бориса Савельевича Ласкина:
- Гремя огнем, сверкая блеском стали
- Пойдут машины в яростный поход,
- Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
- И Первый маршал в бой нас поведет!
Климент Ефремович Ворошилов родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Его отец, сторож на железной дороге, нигде подолгу не удерживался, уходил с работы, поэтому семья нередко голодала. Будущий нарком обороны с сестрой не раз просили подаяния. Клименту Ефремовичу пришлось работать с ранних лет, он пас скот, помогал в рудничных мастерских.
Мать хотела, чтобы Клим обучился грамоте, мог читать Псалтырь и Часослов, пел в церковном хоре. Но он выбрал себе судьбу революционера. Темпераментный, умеющий ладить с людьми, Ворошилов стал заметной фигурой среди подпольщиков.
После революции, в январе 1918 года, Ворошилов возглавил Чрезвычайную комиссию по охране Петрограда. Она разместилась в здании на углу Гороховой улицы и Адмиралтейского проспекта. После Ворошилова здесь обосновался Феликс Эдмундович Дзержинский, возглавивший Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
В столице Ворошилов не задержался. Его командировали на Украину. В марте 1918 года он организовал партизанский отряд. Климент Ефремович намеревался сражаться со сторонниками Центральной рады. Но кайзеровская Германия поддержала Киев и ввела на территорию Украины свои войска и учредила Украинскую державу во главе с гетманом Павлом Петровичем Скоропадским.
Отряды Ворошилова вынуждены были отступить и вышли к Царицыну, куда приехал чрезвычайный уполномоченный ВЦИК по заготовке и вывозу хлеба с Северного Кавказа в промышленные районы Иосиф Виссарионович Сталин.
Ворошилов и другие красные командиры, выдвинувшиеся после революции, не хотели подчиняться бывшим офицерам царской армии, потому что полюбили партизанскую вольность. Они требовали сохранить в армии выборность командиров, предоставить всю полноту власти комиссарам, чтобы они сами руководили боевыми операциями. И они нашли понимание у Сталина, который тоже не доверял бывшим офицерам. Сталин поддержал Ворошилова. И Климент Ефремович на многие десятилетия стал его ближайшим и преданнейшим помощником. Многие годы они были на «ты», называли друг друга по имени. В Царицыне жили рядом – Ворошилов с женой и сыном и Сталин со своей второй женой, Надеждой Сергеевной Аллилуевой.
Сталин покровительствовал людям, которые были рядом с ним в Царицыне. Ворошилов занимал пост наркома обороны дольше кого бы то ни было в советской истории. На этом посту его сменил бывший пулеметчик маршал Семен Константинович Тимошенко, тоже царицынский кадр.
Еще два царицынских спутника вождя – маршал Григорий Иванович Кулик и генерал-полковник Ефим Анатольевич Щаденко – стали накануне Великой Отечественной заместителями наркома обороны. Один отвечал за вооружения, другой ведал кадрами.
Первая конная и роль конницы
В историю отечественных вооруженных сил Климент Ефремович Ворошилов вошел еще и как один из создателей знаменитой Первой конной армии.
После революции офицеры-кавалеристы почти все оказались на стороне Белой армии. Кавалерийские формирования белых – кубанская конница генерала Андрея Григорьевича Шкуро, которого после Второй мировой повесят за сотрудничество с нацистами, донца генерала Константина Константиновича Мамантова, конница генерала Сергея Георгиевича Улагая, конная группа генерала барона Петра Николаевича Врангеля – прорывали линии фронта и губительным смерчем прокатывались по тылам Красной армии.
Большевикам пришлось создавать собственную кавалерию. 17 ноября 1919 года Реввоенсовет Республики одобрил предложение создать Конную армию. 5 декабря в штаб Первой конной прибыл Сталин, который взял армию под свое покровительство. Встречали его командующий армией Семен Михайлович Буденный и член Военного совета армии Ворошилов. Встретились люди, от которых многие годы будет зависеть судьба армии и страны. Они и шли по жизни сплоченной группой, сметая соперников и поддерживая друг друга.
Красные конники оказались на вес золота, потому что Гражданская война в России развивалась по другим законам, чем Первая мировая.
В мировой войне только первые месяцы и последние, когда большое наступление 1918 года сломало немецкую армию, были временем масштабного передвижения войск и стратегических операций. Основные военные годы прошли в изматывающей позиционной борьбе без впечатляющих успехов. Войска засели в траншеях, и выбить их было очень трудно.
В Первую мировую кавалерия не могла прорвать ряды колючей проволоки, и ее безжалостно расстреливали из автоматического оружия. Колючую проволоку придумали для того, чтобы огораживать загоны для скота. А в Первую мировую проволока превратилась в эффективное орудие уничтожения. Люди и лошади, повисшие на проволоке, умирали долго и мучительно.
Маршал Константин Константинович Рокоссовский писал, что уже в Первую мировую конница потеряла прежнее значение. Но Гражданская война воскресила ее. Гражданская война была совсем иной, не окопной: не было сплошной линии фронта, и конница благодаря своей мобильности сыграла особую роль.
Поэтому после войны знаменитые кавалеристы уверенно говорили, что недавно появившиеся танки будут сражаться между собой, но коня не заменят, потому что танки не способны делать то, что может лошадь. Генералы рассуждали о танках как об экспериментальном оружии, еще недостаточно испытанном, которое нуждается в топливе, запасных частях, обслуживании и которое, возможно, будет легко уничтожаться новым противотанковым оружием. И разве танк способен заменить коня при проведении разведывательной операции или скрытом рейде в тыл противника?
Развитие боевой техники в ХХ веке часто сводило на нет все предсказания. И очередная революция в военном деле ставила генералов в трудное положение. Одни искренне верили, что новая система оружия изменит ход войны. Другие, напротив, считали, что новое оружие ничего не стоит.
Выходцы из Первой конной армии четверть века руководили обороной страны: маршал Ворошилов был наркомом обороны с 1925 по 1940 год, маршал Тимошенко – в 1940—1941-м, маршал Андрей Антонович Гречко – с 1967 по 1976 год. В общей сложности из Первой конной вышли 8 маршалов Советского Союза, 9 маршалов родов войск и генералов армии.
Военный министр
После Гражданской войны Ворошилов хотел снять военную форму. 2 ноября 1921 года он по-дружески обратился к Сталину:
«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Я тебе уже говорил о моем намерении переменить свое “амплуа”, а сейчас это решил твердо. Работа в Военном ведомстве мне уже опостылела, да и не в ней теперь центр тяжести. Полагаю, что буду полезней на гражданском поприще. От тебя ожидаю одобрения и дружеской поддержки перед ЦК о моем откомандировании.
Хочется поработать в Донбассе, куда и прошу ЦК меня направить. Работу возьму какую угодно и надеюсь снова встряхнуться, а то я здесь начал хиреть (духовно). Нужно и меня пожалеть.
Крепко обнимаю.
Твой Ворошилов».
Но Сталин не захотел расставаться с одним из своих главных союзников в армии. В 1923 году Ворошилов вновь поставил вопрос об освобождении его от военной работы. На заседании Политбюро постановили: «В просьбе тов. Ворошилова отказать».
Сталин перевел Ворошилова в Москву руководить столичным военным округом. В январе 1925 года сделал заместителем наркома по военным и морским делам. Возможно, Климент Ефремович долго бы оставался замом у талантливого военачальника Фрунзе, но Михаил Васильевич скоропостижно скончался после неудачной операции.
Уже 6 ноября 1925 года Ворошилова утвердили наркомом по военным и морским делам и председателем Реввоенсовета СССР. На ХIV съезде партии он стал членом Политбюро ЦК и вошел в узкий круг вождей, которые принимали все ключевые решения.
Через 3,5 года, 15 июля 1929 года, Политбюро, выслушав доклад Ворошилова, приняло Постановление «О состоянии обороны в СССР». Главная цель: Красная армия должна «по численности – не уступать нашим вероятным противникам на главнейшем театре войны, по технике – быть сильнее противника по двум или трем решающим видам вооружения, а именно – по воздушному флоту, артиллерии и танкам».
Ставилась задача создать в течение двух лет опытные образцы артиллерии, крупнокалиберных пулеметов, всех современных типов танков и бронемашин и добиться их внедрения в армию. Появилась должность начальника вооружений Красной армии. Первым новое управление возглавил Иероним Петрович Уборевич, один из самых талантливых советских военачальников. Через два года его сменила еще более известная фигура – будущий маршал Михаил Николаевич Тухачевский.
Контуры грядущей войны были предметом споров и дискуссий. Смелое воображение некоторых теоретиков в тридцатые годы рисовало им картины поля боя, где решающую роль играет супероружие. Но реальные возможности боевых машин тех лет были настолько ограничены, что разговоры о господстве танков и авиации на поле боя воспринимались как фантазерство.
Главным энтузиастом танкостроения стал Владимир Кириакович Триандофилов, заместитель начальника Штаба Красной армии. Он прошел Первую мировую, в Гражданскую командовал полком и бригадой, получил орден Красного Знамени. Он убежденно говорил о том, что будущая война будет носить совершенно иной характер и ее исход в значительной степени определит широкое использование боевой техники.
Триандофилов предложил сформировать в Московском и Белорусском военном округах первые мотомеханизированные бригады. Он считал, что важнейшая задача Красной армии – отрабатывать взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации. Доказывал, что победу в будущей войне принесет мощный удар танковым кулаком при поддержке артиллерии и штурмовой авиации.
Когда Триандофилов убеждено говорил о будущей войне как о «войне моторов», он выступал против могущественных кавалеристов, занимавших ведущие позиции в армии. Его высокая должность позволяла ему успешно отстаивать свои взгляды. Увы, Триандофилов погиб 12 июля 1931 года в авиационной катастрофе и был похоронен у Кремлевской стены. Но импульс к развитию танкостроения уже был дан.
В 1934 году, 20 июля, Наркомат по военным и морским делам переименовали в Наркомат обороны СССР. В сентябре 1935 года Штаб РККА стал Генеральным штабом. В том же году в Красной армии появились офицерские звания, что еще недавно казалось неприемлемым. Большевики после революции декларировали равенство всех военнослужащих, демонстративно отменили звания и знаки различия. Но в повседневной армейской жизни нужно отличать рядового бойца от командира. 16 января 1919 года Реввоенсовет ввел «знаки различия командного состава РККА по занимаемым должностям». На рукаве гимнастерки и шинели появились геометрические фигуры – треугольники для младшего командного состава, квадраты для старшего и ромбы для высшего комсостава. Квадраты в армейском обиходе стали именовать «кубарями», ромбы – «шпалами». В 1922 году ввели нарукавные клапаны, на которые нашивались знаки различия, а в 1924-м – петлицы. Кадровая армия нуждалась в строгой и понятной воинской иерархии. 23 сентября 1935 года «Правда» опубликовала постановление ЦК и Совета народных комиссаров СССР «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА».
В Красной армии появились лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны, майоры, полковники и маршалы Советского Союза. Первыми это звание получили командующий Особой Дальневосточной армией Василий Константинович Блюхер, инспектор кавалерии РККА Семен Михайлович Буденный, нарком обороны Климент Ефремович Ворошилов, начальник Генерального штаба Александр Ильич Егоров, заместитель наркома обороны Михаил Николаевич Тухачевский. Появились новые знаки отличия – на петлицах и на рукавах. Маршалы носили на петлицах и на рукавах большие звезды. Высший командный состав – «ромбы», старший офицерский состав (от капитана до полковника) – «шпалы», младший – «кубики», младшие командиры (сержанты и старшины) – треугольники. Все эти геометрические фигуры сохранялись до 6 января 1943 года, когда Сталин восстановил погоны.
Вот только вернуться к генеральским званиям тогда не решились. Генералы устойчиво ассоциировались с царской и Белой армиями. Старшие офицеры получили звания, напоминающие занимаемую должность: комбриг, комдив, комкор, командарм 2-го ранга, командарм 1-го ранга… Все это рождало путаницу.
В апреле 1940 года проходило заседание главного военного совета, обсуждались итоги войны с Финляндией. Когда выступал комбриг Степан Ильич Оборин, начальник артиллерии 19-го корпуса, Сталин неожиданно спросил его:
– Надо ли восстановить звание генерала?
Комбриг охотно поддержал эту идею:
– Для поддержания авторитета нашей Красной армии и великой страны считаю, что нужно ввести генеральское звание. Чем мы хуже других?
Новые звания ввели Указом Президиума Верховного совета СССР от 7 мая 1940 года. Сохранялись специальные звания только у высшего политического состава. Политработники получили обычные для армии и флота звания лишь в 1942 году. Бригадные, дивизионные, корпусные и армейские комиссары стали генералами.
Впрочем, вожделенные генеральские погоны достались не всем. Например, заместитель начальника Политуправления Южного фронта бригадный комиссар Леонид Ильич Брежнев, будущий глава нашей страны, при аттестации 15 декабря 1942 года стал всего лишь полковником. Погоны генерал-майора он получил только 2 ноября 1944 года.
«Нас к победе ведет Ворошилов»
Ворошилов вел себя уверенно и непринужденно.
Стоя на трибуне партийного съезда, шутил с залом:
– Я позволю себе, товарищи, назвать вам некоторые цифры, из которых вы мало что поймете (в зале взрыв смеха), но лучше сказать вам хоть что-нибудь, чем ничего.
Он приводил цифры быстрого роста военной промышленности. Зал, как положено, горячо аплодировал.
Ворошилов продолжал шутить:
– Я прошу президиум засчитать мне время, идущее на хлопки: тут будут все время хлопать, а мне сказали, что я имею только полтора часа.
Зал восторженно смеялся.
Ворошилова повсюду встречали с почетом. На съездах, митингах и собраниях, особенно в вооруженных силах, звучали призывы:
– Да здравствует наш славный вождь, первый командир и красноармеец – товарищ Ворошилов!
И зал взрывался аплодисментами, как тогда писали, «переходящими в овацию».
Климент Ефремович не был человеком хитрым и коварным. Скорее, ему было свойственно некоторое простодушие. И его восхищение вождем было искренним. Он от души восторгался умением Сталина руководить страной.
Климент Ефремович охотно принимал на себя и обязанности, связанные с руководством учреждениями культуры и искусства. Ворошилов был председателем комиссии, которая руководила академическими театрами. Клименту Ефремовичу Политбюро поручало просмотреть тот или иной спектакль и решить его судьбу. Он сыграл положительную роль в судьбе Михаила Афанасьевича Булгакова. Уговорил Политбюро разрешить Московскому Художественному театру оставить в репертуаре его пьесу «Дни Турбиных». А вот другая пьеса Булгакова – «Бег» – ему не понравилась, и зрители ее не увидели.
Ворошилову нравился ансамбль Красной армии под управлением Александра Васильевича Александрова. Он приказал искать повсюду талантливых певцов и музыкантов и присылать их в Москву, чтобы пополнить ансамбль. Александров часто приезжал к Ворошилову на дачу в Хлебниково. Они вместе пели.
Климент Ефремович приехал в театр Всеволода Эмильевича Мейерхольда на просмотр пьесы одного из самых известных советских драматургов Всеволода Витальевича Вишневского «Последний решительный». И даже председательствовал на обсуждении пьесы.
Популярный в довоенные годы кинофильм «Если завтра война» описывал победоносную войну над Германией, когда на помощь Красной армии приходил немецкий пролетариат. И красноармейцы гнали врага, уничтожая его на чужой территории малой кровью, могучим ударом. И звучала песня, написанная братьями Покрасс на стихи Василия Ивановича Лебедева-Кумача:
- В целом мире нигде нету силы такой,
- Чтобы нашу страну сокрушила, —
- С нами Сталин родной, и железной рукой
- Нас к победе ведет Ворошилов!
В годы массовых репрессий наркому обороны клали на стол уголовные дела, которые, как потом будет установлено, были выдуманы от первого до последнего слова. Они произвели впечатление на Ворошилова и помогли ему убедить себя в том, что те, кто служил под его началом, кого он продвигал, повышал в звании, представлял к наградам, на самом деле замаскированные враги. Историки отмечали, что поначалу Ворошилов не давал согласия на арест тех, кого знал. Но ему приносили показания командиров, которые во всем признавались, и маршал давал санкцию на арест.
Нарком внутренних дел СССР генеральный комиссар государственной безопасности Николай Иванович Ежов регулярно отправлял Ворошилову списки военных, которых хотели арестовать.
На списках Ворошилов писал:
«Тов. Ежову. Берите всех подлецов».
Аресты командного состава армии привели к печальным последствиям.
Финская война
ТАСС сообщил, что 26 ноября 1939 года в 15:45 финская артиллерия обстреляла советскую пограничную заставу на Карельском перешейке у деревни Майнила, четыре красноармейца убиты, девять ранены… Началась война с Финляндией, которая продолжалась 105 дней. Глубина и надежность финской обороны оказались неожиданностью. Пришлось вести тяжелые, кровопролитные бои. В ночь с 12 на 13 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор с Финляндией. А в конце марта на внеочередном Пленуме ЦК нарком Ворошилов отчитывался за Финскую войну. Постановили обсудить итоги войны с участием широкого круга военных. В апреле в ЦК прошло совещание начальствующего состава армии, посвященное итогам войны. Желающих выступить оказалось предостаточно, и многие высказывались очень откровенно – наболело.
Герой Советского Союза командарм 2-го ранга Григорий Михайлович Штерн, который командовал 8-й армией, действовавшей в Северной Карелии, перечислял промахи в планировании операции:
– Тыл обеспечен не был. Организация дивизий не соответствовала театру военных действий. Войска не были приспособлены и не обучены для действий в лесу, в глубоком снегу, плохо одеты.
Командование Ленинградского округа делало ставку на массированное применение танков, артиллерии и авиации. Но неблагоприятные погодные условия ограничили возможности боевой техники. Мешали незамерзающие болота, леса, снег, отсутствие дорог.
Начальник Генштаба маршал Борис Михайлович Шапошников поднял и другую тему, которая заинтересовала Сталина:
– Наши военные писатели считают, что все, что было в старой царской армии, – нуль. Это не верно. В старой царской армии были хорошие традиции, были первоклассные. Командный состав был образованным, и понимал дело, и, вообще говоря, вел дело неплохо. Надо, чтобы люди учились и воспринимали то хорошее, что было в старой армии. Если мы учимся у всяких наполеонов и мольтке, почему нельзя учиться у Кутузова?
На совещании приняли решение отказаться от устаревших образцов военной техники и начать производство современных. Подготовили постановление «О мероприятиях по боевой подготовке, организации и устройству войск Красной Армии на основе опыта войны в Финляндии и боевого опыта последних лет».
После Финской кампании Сталин сменил и наркома обороны, и начальника Генерального штаба. Сталин не хотел обижать Шапошникова, сказал ему вполне доброжелательно:
– Всем понятно, что нарком и начальник Генштаба трудятся сообща и вместе руководят вооруженными силами. Нас не поймут, если мы при перемещениях ограничимся одним народным комиссаром. Мир должен знать, что уроки конфликта с Финляндией полностью учтены. Это важно для того, чтобы произвести на наших врагов должное впечатление…
Вождь не расстался и со своим старым соратником: назначил Климента Ефремовича заместителем главы правительства.
А в первые дни Великой Отечественной Ворошилов вошел в Государственный комитет обороны СССР, который руководил и вооруженными силами, и экономикой, и вообще всей жизнью страны. Он был главнокомандующим войсками Северо-Западного направления и Ленинградского фронта. В качестве представителя Ставки Верховного главнокомандования занимался формированием новых дивизий и помогал Ленинградскому и Волховскому фронтам прорвать блокаду Ленинграда.
Сталин понимал, как использовать знаменитое в стране имя, и поставил Климента Ефремовича руководить партизанским движением. Постановлением ГКО СССР от 30 мая 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного главнокомандования. Климент Ефремович воодушевился. Он получил заметный и самостоятельный пост, вновь был на виду. Да и партизанское дело считал близким для себя – все же он начинал Гражданскую в роли командира партизанского отряда.
А еще 7 ноября 1941 года маршал Ворошилов принимал парад в Куйбышеве, куда эвакуировали основные наркоматы и иностранные посольства. И на встречу с американским президентом Франклином Рузвельтом и британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем в ноябре 1943 года в Тегеране Сталин взял с собой маршала Ворошилова – для представительности.
Ему же доверил руководить комиссией, которая работала с композиторами и поэтами, писавшими новый вариант гимна Советского Союза.
Глава государства
В 1945–1947 годах Ворошилов был председателем Союзной контрольной комиссии в Венгрии, которая участвовала во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. После капитуляции всей жизнью страны руководила Союзная контрольная комиссия.
Вернувшись в Москву, Климент Ефремович полностью сосредоточился на работе в Совете министров СССР. Свою жизнь он украшал общением с деятелями искусств, которые оказывали Клименту Ефремовичу всяческие знаки внимания, поскольку он отвечал в правительстве за культуру. К нему на дачу приезжали столпы официального искусства – народный художник СССР скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров, будущий президент Академии художеств Александр Михайлович Герасимов, писатель Леонид Сергеевич Соболев.
Климент Ефремович по характеру был человеком неунывающим, но переживал охлаждение к нему вождя. Жена Ворошилова в дневнике ностальгически вспоминала те времена, «когда приходилось запросто бывать на даче под Москвой у тов. Сталина».
Второго марта 1953 года жена Ворошилова записала:
«Сегодня рано утром Клименту Ефремовичу сообщили по телефону, что Иосиф Виссарионович внезапно заболел.
Климент Ефремович в тяжелых моментах преображался. Он становился еще более подтянутым, волевым. Таким я его не один раз наблюдала во время особенно острых ситуаций в годы гражданской войны, в критических периодах борьбы нашей партии с врагами партии и народа и в жуткие годы Великой Отечественной войны. Таким я его увидела в сегодняшнее утро. Он почти ничего мне не сказал. Но по тому, что он в такой ранний час так неожиданно и быстро собрался, точно идет в решительный бой, я поняла, что надвигается несчастье.
В большом страхе сквозь слезы я спросила:
– Что случилось?
Климент Ефремович меня обнял и, торопясь, сказал:
– Успокойся, я тебе позвоню.
И тут же уехал».
После смерти Сталина Ворошилова избрали председателем Президиума Верховного совета СССР – формальным главой государства. Маршал, живая легенда, понадобился новому коллективному руководству страны для солидности. Для большинства советских людей Ворошилов оставался героем войны. Он по-прежнему был очень популярен. Его новая должность этому только способствовала.
Вскоре, 28 марта 1953 года, появился ставший знаменитым указ «Об амнистии». На свободу вышли больше 1 миллиона заключенных, и были прекращены следственные дела на 400 тысяч человек. Амнистию (теперь ее именуют бериевской) в тот момент называли ворошиловской, потому что под указом стояла подпись председателя Президиума Верховного совета Климента Ефремовича Ворошилова.
Заключенные, которым зачитывали указ об амнистии, радостно кричали:
– Ура Ворошилову!
Он 7 лет оставался главой государства. 7 мая 1960 года Ворошилова (ему исполнилось 79 лет!) освободили от обязанностей председателя Президиума Верховного совета по состоянию здоровья. 1-й секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, как говорилось в газетном сообщении, «тепло и сердечно поблагодарил Климента Ефремовича Ворошилова как верного сына коммунистической партии, от имени ЦК КПСС внес предложение присвоить товарищу Ворошилову звание Героя Социалистического Труда». Его пост занял еще молодой Леонид Ильич Брежнев.
В 1961 году заболела жена Ворошилова, которую он любил всю жизнь. Печальный диагноз не оставлял надежды. Екатерину Давидовну оперировал известный хирург Борис Васильевич Петровский, заведующий кафедрой госпитальной хирургии 1-го Московского медицинского института и будущий министр здравоохранения, но смог лишь облегчить ее страдания.
Ворошилов умолял врачей еще раз ее оперировать:
– Она все выдержит!
Через день приходил к ней с букетом цветов. Похоронив жену, маршал по существу остался один. Он скончался 2 декабря 1969 года. Немного не дожил до 89 лет. Маршала со всеми почестями похоронили на Красной площади.
Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников
Борис Михайлович Шапошников, бывший царский офицер, который трижды – в 20, 30 и 40-е годы – руководил Генеральным штабом Красной армии, был чуть ли не единственным человеком, на которого Сталин никогда не повышал голос. Рядом с Шапошниковым вождь ощущал себя комфортно. Ему нравилось видеть рядом с собой рафинированного военного интеллигента.
Главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов присутствовал на одном из докладов начальника Генштаба. Шапошников отметил, что с двух фронтов так и не поступили сведения.
– Вы наказали людей, которые не желают нас информировать о том, что творится у них на фронтах? – сердито спросил Сталин.
Шапошников ответил, что обоим начальникам штабов он объявил выговор.
Сталин хмуро улыбнулся:
– У нас выговор объявляют в каждой ячейке. Для военного человека это не наказание.
Шапошников с достоинством напомнил вождю старую военную традицию:
– Если начальник Генерального штаба объявляет выговор начальнику штаба фронта, тот должен немедленно подать рапорт с просьбой освободить его от занимаемой должности.
Мозг армии
Борис Михайлович Шапошников был выдающимся генштабистом, одним из создателей вооруженных сил страны, и он сыграл важную роль в Великой Отечественной.
Будущий начальник Генерального штаба родился в 1882 году в Златоусте, на Урале. Он окончил Московское военное училище, в 1907 году поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. Первую мировую он встретил в составе 14-й кавалерийской дивизии на Юго-Западном фронте, воевал против Австро-Венгерской империи, союзницы Германии.
Многие не могли тогда понять, почему вообще вспыхнула эта война? Шапошников видел, что ее затеяли в Берлине. В начале ХХ века кайзеровская Германия испытывала страх перед «русским паровым катком». Немецкие генералы предпочитали – раз уж война рано или поздно все равно разразится – нанести удар побыстрее, пока Россия не укрепилась. Но тщательно разработанные в Берлине планы рухнули в первые же месяцы.
В августе 1914 года русские войска перешли границу и начали наступление на Восточную Пруссию. Это заставило немецкое командование изменить все свои планы и бросить против русских войск дополнительные силы.
Одновременно развернулась битва за Галицию. Капитан Шапошников был контужен при взрыве артиллерийского снаряда, но не покинул поле боя. Юго-Западный фронт, в которую входила дивизия Шапошникова, под командованием генерала от артиллерии Николая Иудовича Иванова сломил сопротивление австрийцев, которые, понеся большие потери, отступили, очистив Восточную Галицию. Фактически австро-венгерская армия была обескровлена и начала терять обороноспособность. Немцам пришлось ослабить нажим на Францию и перебросить войска с Западного на Восточный фронт, чтобы поддержать терпевшего неудачи австрийского союзника…
В Красную армию Шапошников вступил весной 1918 года. Он написал письмо: «Как бывший полковник Генерального штаба я живо интересуюсь вопросом о создании новой армии и как специалист желал бы принести посильную помощь в этом серьезном деле».
И Шапошникова зачислили в Оперативное управление Высшего военного совета, который занимался созданием новой революционной армии.
Член Политбюро ЦК, председатель Реввоенсовета Республики и нарком по военным и морским делам Лев Давидович Троцкий осознал, что без офицеров воевать невозможно.
Поначалу Гражданская война носила в основном партизанский характер. Сражались между собой отдельные отряды. Но в 1918 году в дело вступили регулярные армии, образовались фронты военных действий. Воевать надо было профессионально. Офицеры нужны были не только белым, но и большевикам, которые поначалу отвергали «золотопогонников». 23 ноября 1918 года появился приказ Реввоенсовета о призыве на военную службу бывших офицеров и генералов. Тогда в Красную армию добровольно вступили или были призваны 22 тысячи офицеров царской армии. За малым исключением они преданно служили советской власти.
До революции армейское и флотское офицерство не очень интересовалось политикой. В дни Февральской революции многие поддержали свержение царя, считая, что это неизбежно и нельзя идти против народа. Это привело их в Красную армию, где служило даже больше выпускников Николаевской академии Генерального штаба, чем в Белом движении.
Поступить в академию было очень сложно, ее выпускники получали прекрасное образование, считались элитой российской армии и быстро занимали высшие командные посты. По мнению военных историков, офицеры-генштабисты внесли заметный вклад в победу Красной армии.
Положение офицеров на Гражданской войне было трудным и опасным – причем по обе стороны фронта. Командующий Белой армией генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин с ненавистью относился к офицерам, которые оказались на службе Красной армии. В ноябре 1918 года он издал приказ: «Всех, кто не оставит безотлагательно ряды Красной армии, ждет проклятие народное и полевой суд Русской армии – суровый и беспощадный». Попавших в плен к белым бывших офицеров действительно отдавали под суд военного трибунала, а некоторых даже расстреляли.
По подсчетам историков, в Красной армии в Гражданскую войну служило почти 50 тысяч бывших офицеров. Из 20 командующих фронтами 17 были кадровыми офицерами, все начальники штабов – бывшие офицеры. Из 100 командующих армиями – 82 в прошлом офицеры.
Шапошников быстро поднимался по служебной лестнице. 15 августа 1919 года бывший полковник царской армии был назначен начальником Разведывательного отдела, а через два месяца – начальником Оперативного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики, то есть высшего органа управления Вооруженными силами Советской России.
Полевой штаб Реввоенсовета руководил всеми боевыми операциями Красной армии. Отныне будущий маршал Шапошников играл ключевую роль в разработке стратегических планов командования. И ему предстояло сражаться против своего однокашника по Академии Генерального штаба барона Петра Николаевича Врангеля.
Генерал Врангель был прекрасным кавалеристом, решительным и умеющим брать на себя ответственность. Высокого роста с зычным голосом, он нравился солдатам. Участвовал в войне с Японией и в Первой мировой, которую закончил командиром корпуса. В марте 1920 года генерал-лейтенант Врангель – вместо Деникина – принял на себя обязанности главнокомандующего Вооруженными силами Юга России.
В 1920 году под властью белых оставался лишь полуостров Крым. И в апреле Врангель успешно отразил очередной штурм крымских перешейков частями Красной армии. Это подняло боевой дух белых.
Шапошников реально оценивал ситуацию на фронте, и военная разведка точно информировала командование Красной армии: «Врангель резко отличается от своих предшественников и выделяется из окружающей среды. Человек, безусловно, умный и опасный, великолепно учитывающий обстановку, события и настроения масс».
Считалось, что построенные под руководством французских и английских инженеров укрепления превратили Перекоп в неприступную крепость и при штурме Красная армия понесет огромные потери. Земляной вал высотой от шести до десяти метров, перед ним ров глубиной восемь – десять метров, проволочные заграждения в четыре ряда…
Крымская газета «Вечернее слово» самоуверенно писала: «Красные в ближайшие дни попытаются штурмовать перекопские позиции. Пусть себе лезут и разбивают головы о перекопские твердыни. Перекопа им не видать».
Но о том, что ров можно обойти через Сиваш (Гнилое море) – систему мелких заливов, отделяющих Крым от Большой земли, – белые генералы не подумали, хотя именно так поступали русские войска, когда еще в ХVIII веке воевали с Турцией.
Под руководством Шапошникова были разработаны планы по разгрому войск Врангеля и освобождения Крыма.
Мой дедушка, Владимир Михайлович Млечин, – ему в 1920-м было 19 лет – был среди тех, кто брал Крым под руководством командующего Южным фронтом Михаила Васильевича Фрунзе. Он вспоминал, как в ночь на 8 ноября части 15-й стрелковой дивизии 6-й армии обошли перекопский вал. Они вырвали колья проволочных заграждений, и в прорыв ворвались части 52-й дивизии. К концу дня красноармейцы заняли Литовский полуостров и зашли в тыл к белым. Сражение было выиграно. Кто участвовал в этой атаке, не забыл ее до конца жизни. Бойцы бросались в стылую и вязкую грязь Гнилого моря. Белые и предположить не могли, что Красная армия преодолеет это ледяное болото…
В 1921 году Шапошников был награжден орденом Красного Знамени.
Между двумя войнами
Взявший Крым Михаил Васильевич Фрунзе решением правительства 11 марта 1924 года был утвержден заместителем председателя Реввоенсовета СССР и заместителем наркома по военным и морским делам. 1 апреля по совместительству его назначили еще и начальником, и комиссаром штаба Рабоче-крестьянской Красной армии. Помощниками Фрунзе в штабе сделали двух выдающихся военачальников – будущих маршалов Михаила Николаевича Тухачевского и Бориса Михайловича Шапошникова.
Шапошников счастливо сочетал в себе таланты военного теоретика и военного практика. Между двумя войнами он умело командовал войсками Приволжского, Ленинградского и Московского военных округов. Бывший полковник царской армии, он был тогда, пожалуй, самым образованным штабистом в Красной армии. В 1928-м он стал начальником Штаба Красной армии, который тогда еще не назывался Генштабом.
Строевым командирам, выросшим в Гражданскую войну, было свойственно несколько пренебрежительное отношение к штабистам. Борис Михайлович доказывал, что именно Штаб Красной армии должен в мирное время руководить боевой подготовкой войск и ведать мобилизационной работой. Шапошникову пришлось объяснять наркому обороны Клименту Ефремовичу Ворошилову и его помощникам очевидное: «Мнение начальника штаба должно по тому или иному вопросу выслушиваться обязательно»,
Сам Шапошников был уверен: «Штабная работа должна помогать командиру организовывать бой; штаб – первейший орган, с помощью которого командир проводит в жизнь свои решения… В современных условиях без четко сколоченного штаба нельзя думать о хорошем управлении войсками».
Шапошников понимал, как относятся к бывшим офицерам, и всеми силами старался доказать свою лояльность. На ХVI съезде партии летом 1930 года будущий маршал, как юный пионер, вышел на трибуну, чтобы прочитать приветствие от «беспартийных командиров Рабоче-крестьянской Красной армии, с первых дней участвовавших в борьбе и строительстве Красной армии»:
– В момент борьбы партии и рабочего класса за переустройство отсталой страны в страну социалистическую – базу мировой революции, мы, боевые старые кадры РККА, дружно и твердо поддерживаем генеральную линию партии!..
Потом Шапошников стал начальником Военной академии, он всегда успешно сочетал воинскую службу с изучением истории. Он писал: «Академия привила мне любовь к военной истории, научила извлекать из нее выводы на будущее. К истории я вообще всегда тяготел – она была ярким светильником на моем пути. Необходимо было и дальше продолжать изучать этот кладезь мудрости».
Первой вышла его книга «Конница» – об использовании кавалерии в мировую войну и в Гражданскую. Затем появился труд о советско-польской войне 1920 года – «На Висле». И наконец, он завершил трехтомный труд о Генеральном штабе – «Мозг армии», который перевели и на иностранные языки.
Главная газета страны «Правда» так оценила его труд: в нем «сказались все черты Бориса Михайловича как крупнейшего военного специалиста: пытливый ум, чрезвычайная тщательность в обработке и определении формулировок, четкость перспектив, глубина обобщений».
Бывшего царского офицера Шапошникова во время Большого террора Сталин арестовать не разрешил. Борис Михайлович вождю был очень нужен. В мае 1937 года он вновь стал начальником теперь уже Генерального штаба Красной армии.
Накануне Великой Отечественной
Когда в ноябре 1939 года началась Советско-финская война, в штабе Ленинградского военного округа исходили из того, что финны не окажут серьезного сопротивления, а финские рабочие вообще будут приветствовать наступление Красной армии. Установили продолжительность операции – 10–15 дней.
Но начальник Генерального штаба маршал Шапошников, который сам прежде командовал Ленинградским округом, предложил отложить начало военных действий на несколько месяцев, чтобы подготовиться получше и перебросить к границе дополнительные соединения и тяжелое оружие.
Сталин удивился:
– Вы требуете столь значительных сил и средств для разрешения дела с такой страной, как Финляндия? Нет необходимости в таком количестве.
Начальник Генштаба оказался прав. Война была трудной и тяжелой. После окончания Финской кампании Шапошников призвал осмыслить ее уроки. Выяснилось, что в вооруженных силах нет точных данных не только о противнике, но о количестве собственных бойцов и командиров. Армии и дивизии не могли сообщить, сколько у них в строю, сколько убито и ранено, сколько попало в плен…
Начальник Генштаба Шапошников отметил поразительное равнодушие некоторых командиров к судьбам своих солдат:
– Я был во время империалистической войны командиром полка. Бывало в окопах сидишь и сам считаешь: вчера в роте было девяносто человек, сегодня восемьдесят девять. Куда ушел? Или убили, или ранили. Командира роты тянешь к ответственности. А у нас считают – пришлют пополнение, и все будет в порядке.
Борис Михайлович заговорил и о необходимости полноценных военных дискуссий:
– Правильно товарищи говорили, что военная мысль не работает, нет журналов. У нас не бывает встреч, где люди могли бы совершенно свободно, не боясь, что их обвинят, выступить со своей точкой зрения, высказать свои мысли, чтобы военная мысль заработала, а также, чтобы выводы игр стали достоянием широких масс. Выводы военных игр у нас были, но они оставались в узком кругу, а те командиры, которые участвовали в играх, ничего не знают…
Выяснилось, что отсутствует система взаимодействия зенитной артиллерии с истребительной авиацией. Не отлажена схема обмена информацией между штабами: одни части ничего не знают о действиях соседей. Поэтому маршал Шапошников и считал необходимым учить командиров и штабистов управлять крупными соединениями, отрабатывать взаимодействие различных родов войск, проводить масштабные учения, как это происходило в 1935–1936 годах. Однако же новый нарком обороны маршал Семен Константинович Тимошенко с Шапошниковым не согласился. Выступая в Ленинградском военном округе, нарком заметил:
– Очень многие почтенные и важные люди и в этом году отвлекали народного комиссара мыслью, что нам надо и теперь выходить в поле с большим количеством войск. Но мы правильно взяли упор на роту, батальон и полк, чтобы создать именно эти единицы боевыми.
