Принцип Рамзая. Записки военного разведчика
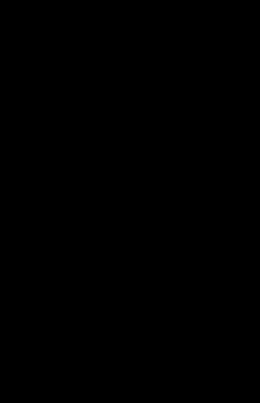
Пролог
На выпускном курсе военного училища началась моя подготовка к работе в военной разведке. Но прежде чем нацепить на себя «парашют и буденовку», я должен был еще многому научиться. Одним из основных направлений в моей учебе была военно-медицинская подготовка, которая в дальнейшем помогала не только справляться со своими болезнями и травмами, но и успешно выполнять поставленные передо мною задачи.
И красной нитью через всю мою учебу, военную службу и жизнь прошли девиз и главный принцип легендарного советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге (агентурный псевдоним – Рамзай).
За моими плечами – двадцать шесть месяцев службы в Афганистане, командировки в разные страны, множество интересных событий и приключений, связанных с моей «лекарской» практикой, о которых и пойдет речь в этой книге. Как и о том, что моя подготовка к работе в военной разведке началась гораздо раньше, чем на четвертом курсе Московского ВОКУ.
Глава 1. Детские годы
Мои первые шаги в жизни были не самыми уверенными. Я родился с пороком сердца – пролапсом митрального клапана.
Мои родители всю жизнь проработали на комбинате «Химволокно», на вредном производстве. В связи с этим у всей нашей семьи всегда были проблемы с легкими.
У моей старшей сестры эти проблемы начались в полтора года, когда меня еще не было даже в проекте. Ей хватило небольшой простуды в яслях, чтобы получить двустороннюю пневмонию. После этого до двенадцати лет дома она практически не появлялась, месяцами пропадая в больницах и санаториях. В то время врачи говорили, что она проживет еще полгода. От силы год.
В двенадцать лет ей сделали первую операцию. Удалили часть одного легкого. Потом выполнили еще две операции на втором. И только тогда у нас появилась надежда, что она выкарабкается.
Я хорошо помню свою сестру в те годы. Мне показывали ее. Говорили: «Видишь вон ту девочку в окне третьего этажа? Это твоя сестра Таня». И я вытягивал шею, чтобы получше ее рассмотреть. В саму больницу меня обычно не пускали.
Татьяна потом долго вспоминала большую кучу конфет, которые я собирал почти целый год к ее приезду домой после очередной операции, – все, что получил на свой день рождения, на Новый год и другие праздники. А чего вспоминать-то? Родители с детства приучали нас думать не только о себе. И всегда делиться конфетами с друзьями и близкими.
Именно тогда я и решил стать врачом. Чтобы маленькие дети никогда не болели. И всегда были дома, а не в больнице.
А еще я мечтал попасть на войну. Потому что оба моих дедушки погибли во время Великой Отечественной войны. Все свое детство я ненавидел их за это. Почему-то тогда я был уверен, что если бы они по-настоящему всех нас любили – своих жен, детей и внуков, – то обязательно вернулись бы с войны живыми. То, что на войне не все зависит от нашей любви, я тогда еще не знал. А потому мечтал стать военным, попасть на войну и обязательно вернуться с нее живым. Чтобы доказать им, чтобы они поняли, как сильно я их люблю. И как сильно мне их не хватает.
Но все это было только мечтами. В реальной жизни в детстве я сторонился подвижных игр со своими сверстниками. Ни о какой игре в футбол, волейбол, хоккей или баскетбол, разумеется, и речи тогда не было. Даже обычная игра в прятки была мне не по силам. Пробежав с десяток метров, я чувствовал, как сильно начинает колотиться сердце. Останавливался и сразу же забывал об игре. Я долго не мог научиться плавать, подтягивался всего два или три раза. Бег на уроках физкультуры казался мне сущим наказанием – я задыхался, быстро уставал и почему-то все время боялся потерять сознание.
В первом классе, катаясь зимой с горки на санках, я сделал маленькое открытие. Оказалось, что уличная водоразборная колонка гораздо крепче, чем моя голова. И в результате этого открытия оказался в больнице с сотрясением мозга.
Как-то вечером, путешествуя по больнице, я забрел в один из кабинетов, в стеклянных шкафчиках которого хранились какие-то неведомые мне хирургические инструменты, огромные шприцы и другие орудия пыток. Это было по-настоящему страшно. В этом кабинете я понял, что врач из меня не получится. Потому что я слишком добрый для этого. А если и буду лечить своих пациентов, то только вкусными микстурами, теплым словом и волшебным пенделем – как говорил мой отец, лучшим лекарством всех времен и народов.
А еще отец часто рассказывал мне об Александре Васильевиче Суворове, который в детстве тоже рос болезненным мальчиком. Но чтобы стать сильным и здоровым, он обливался холодной водой, делал разные упражнения. И со временем стал полководцем и генералиссимусом. Я пробовал принимать холодный душ и делать разные упражнения. Но мне казалось, что толку от них мало. А вода была слишком холодной или слишком мокрой – в общем, с закаливанием у меня тогда тоже ничего не получилось.
Возможно, дело было в том, что к здоровью ведет множество тропинок. Но те тропинки, которые проложили до меня другие люди, мне не совсем подходили. И я должен был проложить свой путь, используя опыт и знания тех, кто жил до меня.
Правда, вместо того чтобы прокладывать его или хотя бы пытаться справиться со своими врожденными и приобретенными проблемами, я в эти годы активно собирал в свою медицинскую карту все новые и новые болячки.
Для меня до сих пор остается загадкой, почему мои родители никогда не делали особой скидки на мои проблемы со здоровьем. Возможно, на фоне проблем моей старшей сестры они не казались им такими уж серьезными? Татьяне регулярно оформляли справки об освобождении от уроков физкультуры. Мне – нет. Но, с другой стороны, и за низкие оценки по физкультуре они меня никогда особенно не ругали. Правда, однажды я случайно подслушал окончание разговора родителей на эту тему. Они что-то говорили о моем здоровье. Я запомнил лишь окончание той беседы. Точнее, всего два слова, сказанные отцом: «Как все».
Отец был уверен, что я не должен получать каких-то послаблений. Потому что они не пойдут мне на пользу. Я должен быть таким, как все. Вернее, стараться стать таким, как все. Чтобы когда-нибудь в далеком будущем стать хотя бы чуточку лучше… себя вчерашнего.
Почему-то вместо того, чтобы учить бегать, отец с раннего детства приучал меня делать упражнения для улучшения зрения. Говорил, для того чтобы жить мне было интересно, нужно видеть дальше и больше остальных.
А еще мы играли с ним в «запоминайку» (запоминание большого количества различных предметов на время с последующим их записыванием в ограниченное время) и шахматы.
Все эти игры и занятия явно не способствовали выработке у меня физической выносливости и силы. Но, по словам отца, когда тебе что-то не по силам, начинать нужно с того, что по силам.
Когда я учился в четвертом классе, почему-то решил, что должен готовиться к войне. Во-первых, если меня ранят в правую руку, я должен уметь стрелять и левой рукой. А потому начал ее разрабатывать. Держать чернильную ручку в левой руке, когда делал уроки. И ложку во время еды. Много лет спустя я узнаю, что эти упражнения очень полезны для развития мозга. Но, что самое забавное, через много лет я действительно попаду на войну. И эти навыки мне очень пригодятся.
А во-вторых, я считал, что мне нужно научиться терпеть боль. Ведь если на войне я попаду в плен к врагам, они начнут меня пытать и сделают мне больно. Но я не умею терпеть боль и поэтому выдам им военную тайну. А ведь пионеры не должны выдавать военную тайну!
Как-то раз я стащил из кухни спички, неподалеку от дома развел небольшой костер. Взял кусок арматуры, которую нашел рядом. Обмотал толстой тряпкой одну сторону, чтобы было за что держаться. А другую сторону арматуры разогрел на костре докрасна. И приложил к левой руке.
Я точно знал, что враги, захватившие меня в плен, обязательно сделают это. Потому что это очень больно. Да, это было очень больно. Но я не заплакал. Подумал, что, если заплачу, враги догадаются, что мне больно. И решат, что я выдам им тайну. Не дождутся!
Тогда я еще не знал, что настоящую военную тайну защищает не героизм пионеров, а целый комплекс мероприятий, предусматривающих по умолчанию, что попавший в плен давно уже не пионер. И все расскажет. Рано или поздно. Все, что знает, и даже то, чего не знает.
Но это будет еще не скоро. А пока я шел домой и надеялся, что родители не заметят огромный волдырь, вскочивший на месте ожога. Отец увидел его сразу.
– Мальчишки? – почему-то спросил он.
– Сам, – ответил я. Но даже если бы это и сделали мальчишки, я бы все равно их не выдал.
– Больно?
– Больно.
– Плакал?
– Нет.
– Это правильно, – сказал отец и пошел искать в аптечке, чем обработать ожог. Хотя к тому времени я уже знал, что на любую царапину или ожог нужно просто пописать, приложить подорожник, а потом забинтовать, если есть чем. А если нечем, то найти чем. И все обязательно заживет! В детстве нам все кажется простым. Это у взрослых все сложно.
Глава 2. Завидовский заповедник
На выходные родители регулярно вывозили меня на дачу. На те самые прославленные шесть соток в ближайшем пригороде, полученные ими от комбината «Химволокно», на котором работали, в год моего рождения. Родители постоянно загружали меня какими-то сельскохозяйственными работами: похоронами картошки на майские праздники или археологическими раскопками ее останков в конце августа, прополкой сорняков на грядках и сбором урожая. Иногда мы с отцом делали скворечники или клетки для кроликов. Но самым увлекательным занятием, разумеется, была очередная реконструкция нашего садового домика (три на пять метров), которую отец проводил с завидной регулярностью. То пристраивая небольшую терраску, то строя мансардную крышу.
Во время строительства отец подробно объяснял мне, почему для дома так важен крепкий фундамент, а для стоек – укосины. Он рассказывал, чем разные породы древесины отличаются друг от друга. И какие доски можно использовать для несущих конструкций, а какие – только для подрешетки. Оказывается, нет ненужных досок, как и людей. Все они могут принести пользу. Ведь даже отходы пиломатериалов можно использовать для того, чтобы развести костер, согреться рядом с ним или приготовить на нем пищу.
А еще помню, как отец показал мне годичные кольца на спиле дерева. Оказывается, на северной стороне у него не только более грубая кора, часто покрытая мхом, но и ширина годичных колец гораздо меньше, чем на южной стороне. И древесина с северной стороны тверже, чем с южной. Поэтому дерево и вырастает таким большим, что умеет совмещать в себе твердость и гибкость. Так и человек должен уметь быть твердым на пути к своей цели. И гибким, если упрется лбом в стену. Потому что не всегда стоит биться лбом в закрытые двери. Иногда бывает лучше посмотреть по сторонам: нет ли рядом открытого окна?
Каждое лето родители отправляли меня в деревню к родственникам. В Завидовский заповедник. И тогда я чувствовал себя настоящим декабристом, без вины виноватым, сосланным в далекую сибирскую ссылку без права на помилование. И без малейшей надежды на условно-досрочное возвращение домой.
Правда, скучно мне в деревне не было. Мы часто ездили с моим старшим двоюродным братом Володей на рыбалку. На ближайший пруд. В молодости Володя был хорошим спортсменом, бегуном на длинные дистанции. В восемнадцать лет он неудачно нырнул с берега в реку и сломал позвоночник. Но не сломался сам. Володя разработал для себя специальные упражнения. Ежедневно изнурял себя тренировками. И уже через несколько месяцев начал ходить на костылях. И даже пробовал ходить без них. Женился. А вскоре жена его бросила. И тогда Володя стал делать вещи, совершено мне непонятные. Резать вены. Экспериментировать с дозами лекарств, пытаясь угадать, сколько нужно выпить за раз таблеток, чтобы не проснуться. Начал придумывать что-то уж совсем экзотическое. И после этого ходить он уже не смог. Даже на костылях. Всю оставшуюся жизнь провел в инвалидном кресле-коляске.
Я укладывал специальные доски на крыльцо и помогал ему спуститься по ним на кресле-коляске. Внизу Володя пересаживался в коляску с велосипедным приводом. Мы забирали удочки и уезжали рыбачить. Это было не очень трудно. Гораздо труднее было возвращаться и поднимать Володю в коляске по наклонным доскам на крыльцо. В десять лет сил для этого мне явно не хватало. Но я как-то справлялся. Ведь если бы я не справлялся, то Володя не ездил бы на рыбалку, а сидел целыми днями дома. Это было бы неправильно.
Главной моей обязанностью в летней ссылке было пасти деревенских коров и овец. Деревня была маленькая, домов на пятнадцать, не более. Жилых домов – семь или восемь. Пастуха в деревне не было, так что коров и овец мы пасли по очереди. И раз в неделю этой чести – быть главным в небольшом рогатом деревенском стаде – удостаивался я. Зачем были нужны овцы на планете Земля, я в то время не понимал. О шкурах и мясе я, конечно же, знал, но все это было как-то совершенно абстрактно. Хотя как стригли овец, видел не раз.
Но зато я прекрасно понимал, для чего нужны коровы. Коровы были нужны для того, чтобы в кладовой ежедневно появлялись новые трехлитровые банки парного молока с толстым, почти на четверть емкости, слоем густых сливок. По соседству стояли такие же банки с простоквашей. Рядом из небольшого марлевого мешка в таз стекала молочная сыворотка. А в мешке был вкуснющий свежий творог.
Коровы были нужны для того, чтобы дарить детям радость! И капельку счастья. Потому что литровая кружка парного молока с краюхой белого хлеба да тарелка свежего творога, присыпанного сахарным песком, – это было настоящее счастье! В десять лет.
Пасти деревенских коров и овец было нетрудно. Нужно было лишь целый день провести на ногах, бегая за бестолковыми овцами, которые постоянно пытались залезть в какие-то кусты. И за коровами, так и норовившими забрести в ближайшее болото. С учетом того, что в Завидовском заповеднике всегда водилось множество волков, наше маленькое, но неугомонное стадо нужно было не только пасти, но и защищать. Для этого поначалу я носил с собой ивовый прутик. Мысленно представляя, как буду делать этим прутиком «а-та-та» волкам, которые попытаются обидеть моих бедных овечек или добрых коровок.
По мере взросления я заменил этот прутик на большой березовый дрын. Понимая, что добрым словом волкам можно попытаться многое объяснить, но с помощью большого березового дрына проще сделать так, чтобы они меня лучше поняли.
Возможно, летом волкам хватало корма и без моего стада. А возможно, грозный вид десятилетнего гнома с березовым дрыном в руках казался волчьей стае настолько смешным, что она хохотала на весь лес. И обходила юного пастуха стороной. Ведь все знают, что когда тебе смешно, то не так голодно.
Как бы то ни было, я успешно веселил волков, пас и охранял коров и овец. А по вечерам коровы дарили мне молочную и творожную радость. Это было правильно.
Иногда меня отправляли ворошить сено. Но больше всего мне нравилось ходить с дядей Валей в питомник, чтобы ухаживать за саженцами молодых сосен, которые он потом высаживал на делянках вместо спиленных деревьев. Дядя Валя был лесником. А на войне был войсковым разведчиком, командиром разведотделения в кавалерийском корпусе Доватора. После тяжелого ранения стал механиком-водителем танка Т-34. Прошел всю войну, с октября 1941 года по май 1945-го.
Тогда мне казалось странным, что дядя Валя разговаривает с каждым деревом, словно с живым человеком. И только многие годы спустя я понял, что все эти деревья он высаживал в память о своих погибших товарищах. А потому каждое дерево было для него живым.
Именно он научил меня не бояться заблудиться в лесу. Находить подножный корм и выживать. Использовать подорожник, лопух и листья мать-и-мачехи при незначительных порезах, а сухой мох – при сильных кровотечениях. Приучил к долгим походам. Научил наблюдать за животными и любить жизнь.
Когда мне исполнилось одиннадцать лет, в деревню на пару дней приехала моя двоюродная сестра с мужем. Ее муж был настоящим офицером, майором, командиром автомобильного батальона в Центральной группе войск. И однажды у меня даже получилось поговорить с ним. Разумеется, на его вопрос, кем я мечтаю стать, я не мог ответить «врачом». Вы бы что ответили на моем месте? Конечно же, военным!
Когда он узнал, как я учусь, как бегаю и сколько раз подтягиваюсь (на всякий случай я немного преувеличил свои физические способности), то сказал, что для поступления в военное училище этого будет маловато. Что мне нужно подтянуть учебу и обязательно научиться бегать.
Легко сказать – подтянуть и научиться! А вот как это сделать, он почему-то не сказал. Видимо, подразумевая, что на некоторые вопросы я должен найти ответы сам.
Вот так проходила моя ежелетняя ссылка в деревню. Там было много приключений – хороших и разных. Но главное, за эти летние месяцы я получал уроки, которые оказались очень важными для меня в дальнейшем. Хотя в то время я о них, конечно же, не задумывался.
Во-первых, что для укрепления здоровья, как и для строительства дома, нужен хороший фундамент – чистый воздух и натуральные продукты, которые в виде подножного корма лучше добывать самому, собирая грибы, ягоды, орехи и т. д. И следует правильно использовать «строительные материалы», учитывая их свойства, в том числе гибкость и твердость.
Во-вторых, нужно много путешествовать, насколько хватит сил, – в лесу, парке, по планете. Или по книжным страницам, когда передвигаться на ногах ты не можешь. Но путешествовать не просто так. А для того, чтобы узнавать что-то новое и интересное.
В-третьих, помогая Володе подниматься на коляске по доскам на крыльцо, я сделал маленькое открытие: когда ты помогаешь другим, то становишься сильнее, чем есть на самом деле.
Четвертый урок оказался для меня немного неожиданным. То, что мой старший двоюродный брат, сильный и мужественный человек, после тяжелейшей травмы смог за очень короткий промежуток времени «встать» на костыли. И сломался буквально в полушаге от того, чтобы начать ходить снова, – уже без костылей. Это как-то не укладывалось у меня в голове.
А в-пятых, я был уверен, что со мной такое никогда не случится. Я никогда не буду нырять в незнакомом месте. Никогда не сломаю позвоночник. И никогда не окажусь в инвалидном кресле.
Кроме этих уроков, остались от того времени мои многокилометровые прогулки по лесу, мои пастушьи бега и березовый дрын, которым я веселил и распугивал все местные волчьи стаи. А если верить нашим ученым, которые говорят, что количество переходит в качество, все это должно было помочь мне в будущем. Но уверенности в этом у меня не было.
Глава 3. Новые уроки
Увы, светлое будущее все никак не наступало. И особых изменений в своих физических возможностях я не замечал.
На летние каникулы после 7-го класса отец моего одноклассника Андрея Пименова устроил нас на работу помощниками слесаря в совхоз «Щекинский». Больше месяца мы помогали готовить сельскохозяйственную технику к уборке урожая. Прикручивали и откручивали какие-то гайки и механизмы на комбайнах и тракторах, что-то смазывали, что-то ремонтировали под руководством взрослых дяденек. Самым трудным в этой работе было пережить обед. Ибо слесарей и механизаторов в то время, похоже, кормили на убой. И даже одна порция на двоих казалась нам с Андреем тогда явно избыточной. Но мы героически справлялись и с этим испытанием. Брали одну порцию на двоих, а на оставшиеся деньги покупали фруктовое мороженое по семь копеек.
Летом после 8-го класса родители по моей просьбе помогли мне устроиться на комбинат «Химволокно» транспортировщиком. В мои обязанности входило перевозить тележки со шпулями из одного цеха в другой. Помнится, мне всегда хотелось хотя бы разик разогнать тележку со шпулями, запрыгнуть на нее и с криком «Ура!» вкатиться в соседний цех под восторженные взгляды перемотчиц и начальника цеха. Хотя нет, начальника цеха в этих моих мечтах не было. Потому что даже в мечтах я понимал, что бы сделал со мной начальник цеха, если бы я перевернул тележку со шпулями. К счастью, тележка была не только очень большой, но и довольно тяжелой. Катать ее по цеху у меня получалось, а вот чтобы разогнать, сил могло не хватить.
После окончания восьмого класса я попытался поступить в Калининское суворовское училище. Но моя попытка не увенчалась успехом. Разумеется, я не прошел медкомиссию.
Эта неудача стала для меня хорошим уроком. Я впервые серьезно задумался о словах мужа моей двоюродной сестры о том, что для поступления в военное училище мне нужно не только подтянуть учебу, но и научиться бегать. Как решить вопрос со своим здоровьем, я уже догадался и сам. Если не получается вылечить какие-то болячки, то можно просто не говорить о них врачам. И как-нибудь «случайно» потерять свою медицинскую карту. Благо, что в то время ни сама медкарта, ни записи, что делались в ней, нигде не дублировались.
С учебой тоже все начинало складываться как надо. Моя нелюбовь к подвижным играм со временем привила мне любовь к малоподвижному образу жизни. И вместо того чтобы пропадать вечерами на улице, я просиживал эти вечера с книгами и учебниками. Постепенно превращаясь из твердого хорошиста в отличника.
А вот с бегом мне просто повезло. Мой одноклассник Сева Лехин уговорил своего тренера из спортивной школы взять меня в секцию легкой атлетики. Для меня до сих пор остается загадкой, почему тренер согласился на эту авантюру. Официально он занимался со спортивным классом. Неофициально – с двумя своими лучшими учениками, неоднократными чемпионами и призерами областных соревнований по легкой атлетике – с Севой и еще одним мальчиком. По возрасту я был уже слишком старым для того, чтобы из меня могло что-то получиться в плане спортивных достижений (ведь уже перешел в 9-й класс). Быстро бегать не умел. А значит, я был совершенно бесперспективным. Но тренер все равно согласился. Возможно, он просто не мог отказать Севе. А может быть, не мог отказать самому себе – сделать доброе дело.
В результате я начал заниматься с «мелюзгой», которая была младше меня года на три, – с его спортивным классом. Но даже с ними бегать мне было не по силам. А потому пришлось работать по индивидуальному плану, составленному тренером.
Неожиданно выяснилось, что бег бегу рознь. Я не укладывался ни в какие нормативы на стометровке, умирал на дистанции в один километр. Но, к моему удивлению, мог без особого труда пробежать два, три, пять или даже восемь километров. При одном маленьком условии: что бежать буду не слишком быстро. Точнее, совсем медленно – тратя по 6–7 минут на километр. А то и больше.
Это была практически скорость пешехода. И бег этот мало чем отличался от моих летних прогулок по заповеднику. Гулять я мог долго. Это было мне по силам. Выяснилось, что и бегать у меня тоже получается долго. Но небыстро.
В конце того года я мог пробежать уже 10–12 километров. Но с той же самой скоростью. К счастью, большего от меня тренер и не требовал. Перед самым Новым годом я пробежал свою первую двадцатку.
После бега тренер загонял нас в тренажерный зал, заставлял подтягиваться, делать подъем переворотом и прыгать в высоту. Поэтому к окончанию девятого класса я уже без особого труда подтягивался пятнадцать раз. И делал более десяти подъемов переворотом.
Вместе с Андреем мы записались в бассейн, но там мои достижения были куда скромнее. Тренера в бассейне у нас не было, но через полгода Андрей проплывал уже почти весь бассейн. У меня же получалось проплыть метров пять. На большее не хватало дыхания.
Еще одним сюрпризом для меня стало то, что при беге на десять километров я начинал дистанцию со скоростью черепахи, а на последних километрах ускорялся до трех с небольшим минут. Это было настоящим чудом – у меня впервые в жизни стало получаться пробежать километр на оценку «отлично». Правда, при условии, что перед этим я пробегу на разминке хотя бы три-четыре километра.
В любом случае это было здорово! Я становился таким, как все. И даже мой пролапс митрального клапана теперь мне в этом не мешал. Все мальчишки уставали при беге. Все задыхались на финише. Многие сходили с дистанции. Но не многие могли, как я, пробежать двадцать километров.
Да, количество постепенно начинало переходить в качество. Этот урок я уже начинал понимать. Но главным уроком в это время для меня стало понимание одной детской поговорки: «Без труда не выловишь рыбку из пруда».
Не только мои летние ссылки в деревню помогли мне стать таким, как все, но еще и мои садово-дачные строительно-огородные занятия. Работа помощником слесаря. И транспортировщиком. Все это, словно элементы пазла, начинало складываться в большую и целостную картину. И ни один из этих элементов не был лишним или бесполезным. А привычка к труду становилась моим самым главным секретным лекарством.
В общем, к окончанию девятого класса я находился в состоянии легкой эйфории. У меня все начинало получаться, болезнь постепенно отступала. А мир казался огромным и безоблачным.
Говорят, что, когда у тебя все начинает получаться, не стоит расслабляться. А я немного расслабился. Летом после девятого класса на тренировке я упал с турника. Буквально в нескольких шагах от дома. Разумеется, никаких матов под перекладиной не было.
Диагноз, который мне поставили, перечеркнул на корню все мои мечты и планы. Трещина лучевой кости. Ах, да, разумеется, еще и перелом позвоночника. В поясничном и шейном отделах. А еще недавно я был так уверен, что со мной это никогда не случится и я никогда не окажусь в инвалидном кресле, как мой двоюродный брат Володя…
– Зато теперь у тебя не будут болеть зубы, – пошутит позднее Володя, когда приедет меня проведать.
Я почему-то обрадуюсь этой новости, ведь, на мой взгляд, зубная боль – это что-то совершенно нестерпимое. И подумаю, что в результате травмы позвоночника у меня, видимо, поврежден какой-то нерв, который «отвечает» за зубную боль. Но все оказалось гораздо прозаичнее.
– Нет. Просто теперь ты будешь постоянно жить с такой болью, что зубная боль уже не будет казаться тебе настолько сильной.
А еще через несколько лет мой друг Андрей Павлюков (литературный псевдоним – Павел Андреев), потерявший на Афганской войне обе ноги, напишет замечательный рассказ «Самый легкий день был вчера».
С тех пор и у меня самый легкий день будет не сегодня и не завтра, а вчера.
Глава 4. Травма позвоночника
В больнице я пролежал недолго. Отец смог договориться с врачами и забрал меня домой. Он сказал, что дома мне будет лучше, чем в больничной палате. Тем более летом. А осенью, если мне станет хуже, пообещал привезти меня обратно. Мне не хотелось обратно. На мой молчаливый вопрос он ответил, почти не задумываясь.
– Обещать и жениться – немного разные вещи.
А потом добавил:
– Если тебе станет хуже, привезу.
– Это попахивает шантажом или обманом, – попытался пошутить я.
– Не шантажом и обманом, а военной хитростью, – попытался отшутиться отец.
Что еще оставалось нам делать, как не пытаться шутить? Тем более что у нас это все равно не получалось.
Первые дни я лежал на кровати и рассматривал потолок. Причем мне было совершено безразлично – что там, на этом потолке. Иногда я вспоминал Володю. А еще думал о том, что со мной это не должно было случиться. Но от этих мыслей мне не было ни жарко ни холодно. На душе была пустота.
В таком состоянии человек легко путает дверь в комнату с дверью на балкон. И с равной вероятностью может сделать как шаг в комнату, так и шаг с балкона. К счастью, я не мог ходить. Поэтому не мог перепутать и двери. Хотя при желании…
Перед моими глазами был пример двоюродного брата. Володя был старше меня, а значит, по умолчанию сильнее и умнее. Но даже у него не получилось подняться на ноги после этой травмы. Значит, и у меня не получится?
Отец часто говорил мне, что не стоит сравнивать себя с другими. Потому что мы не хуже и не лучше других, мы все разные. А сравнивать себя можно только с собой вчерашним. Насколько сегодня ты стал умнее и лучше? Чему научился и что нового узнал?
Я понимал, что, возможно, у Володи более серьезная травма, чем у меня. Поэтому мне не нужно себя с ним сравнивать. Может быть, у меня все-таки есть шанс подняться на ноги? Тем более что, если это не получилось ни у кого до тебя, это же не повод не попробовать. Я должен был попробовать. Вот только не знал, с чего начать.
Через несколько дней после того, как отец привез меня домой, к нам в гости приехала моя бабушка. Мамина мама. У бабушки Ани было шестеро детей, которых она вырастила одна. Потому что ее муж, мой дедушка, погиб на войне. Жила она в Тульской области у своей младшей дочери. И к нам в гости приезжала нечасто, по особым случаям. Похоже, это был тот самый случай.
Почему-то с ее приездом я сразу же успокоился. Нет, в тот момент я не думал о том, что смогу подняться на ноги. Хотя когда-то давным-давно я слышал от мамы, что бабушка хорошо разбирается в лечебных травах. Я не был уверен, что у нее есть какое-нибудь волшебное зелье, которое мне поможет. Но в одном я не сомневался: моя бабушка – самая замечательная бабушка на свете! И то, что она приехала, для меня было очень важно.
Увы, никаких волшебных снадобий, змеиных глазок и мышиных хвостиков в ее арсенале не обнаружилось. Но моя бабушка действительно была супербабушкой: все составляющие целебных снадобий она всегда находила на месте. Буквально под ногами. Как я догадался, именно поэтому у нее и не было необходимости возить их с собой.
Приехав к нам, она внимательно осмотрелась. И сразу же увидела что-то интересное. И очень нужное.
Это были маленькие пластмассовые солдатики, около трех сантиметров в высоту, лежащие в пакете на полке. Я купил их два года назад на свои трудовые и нетрудовые доходы – на гонорар за свою статью в местной газете и на деньги, которые не сдал на школьные обеды. Пришлось мне тогда поголодать одну неделю, но зато я стал владельцем одного рубля и двадцати копеек, которые вместе с гонораром и потратил на покупку своей армии из шестидесяти героических бойцов и одной ракетной установки, стреляющей семисантиметровой пластмассовой ракетой почти на два метра. Правда, к тому времени, когда бабушка их увидела, моя армия уже понесла большие потери. К счастью, не в живой силе, а только в боевой технике. Машина, на которой была закреплена ракетная установка, героически погибла в каком-то неравном бою. Ракета потерялась где-то в бескрайних просторах квартирного космоса. Но ракетная установка стреляла! И очень даже метко. Обломками карандашей и шариковых ручек.
– А почему ты не играешь с ними? – задала бабушка довольно странный в этой ситуации вопрос.
– Болею, – ответил я и сделал удивленное лицо. Как я могу с ними играть, если я не могу даже двигаться? Нет, если бы меня спросил об этом кто-нибудь другой, я бы, наверное, даже обиделся. Но на свою бабушку обижаться я так и не научился.
– А придется, – подвела итог нашей короткой беседы бабушка.
Потом она что-то говорила о том, что, даже если я не могу двигаться, все равно не должен сдаваться. Что движение – это жизнь. Повторяла слова моего друга Горация о том, что нет ничего невозможного для людей. И что чем раньше я начну играть в своих солдатиков, тем раньше они мне помогут встать на ноги.
В результате в тот же день мне пришлось сползти с кровати и начать свою войну. Правда, правила ведения войны с приездом бабушки сильно изменились по сравнению с теми, что были раньше. Как я понял, причиной этих изменений были те самые бабушкины лечебные змеиные глазки и мышиные хвостики, которые она очень грамотно прятала в этих самых правилах.
Раньше я выстраивал армии друг напротив друга – свою и армию неприятеля. Каждый солдат моей армии делал выстрел из пушки по армии противника. После первого залпа от армии противника, как правило, никого не оставалось. После этого жалкие остатки неприятельской армии делали ответный залп по моим бойцам. Мы несли потери, но ход военной кампании уже был предрешен. И победа всегда оставалась за нами.
Бабушка сказала, что это нечестно. Что стрелять нужно по очереди: сначала мой солдатик (первый выстрел уступить противнику я все-таки не смог), затем солдат противника, мой солдат и так далее.
– А почему солдатики стоят на месте? – поинтересовалась бабушка. – Солдаты должны передвигаться на поле боя.
Странно, почему я сам раньше не додумался до этого? На моем паласе были нарисованы десятисантиметровые круги. И они располагались в десяти сантиметрах друг от друга. Теперь после того, как каждый делал свой выстрел, обе армии стали передвигаться на поле боя. Каждый солдат перемещался на один круг в сторону, указанную ему командиром. А мне приходилось ползти следом за ними.
Не скрою, армии оказались такими непослушными! Они наступали и отступали, куда хотели. И их перемещения напоминали мне броуновское движение. Но зато теперь они стали все больше и больше походить на настоящие армии.
Теперь мои солдаты совершали какие-то охваты (это когда ты очень сильный и можешь охватить противника с двух сторон), обходы (во фланг – когда ты сильный, но умный и оставляешь противнику маленькую лазейку для отхода, потому что не стоит загонять противника в Место Смерти, где его дальнейшие действия трудно предугадать) и отходы (когда ты умный, но не очень-то сильный, – ты отходишь довольно медленно и постепенно смещаешься чуть в сторону так, что в какой-то момент быстрый и сильный противник, преследующий твои войска, опережает тебя и подставляет под удар один из своих флангов, а то и свой тыл).
Да, теперь играть в солдатиков стало куда интереснее! Хотя и гораздо труднее.
А еще через несколько дней бабушка произнесла это страшное слово:
– Горы, – и показала рукой на мою кровать.
А что, моим суворовским богатырям и горы были не страшны! Так мои солдаты стали перебираться с пола на кровать. Мне приходилось карабкаться за ними следом. Так шаг за шагом я узнавал все больше нового о своих солдатах. Но главное – я научился не только самостоятельно спускаться на пол с кровати, но и, что было гораздо труднее, подниматься на нее без посторонней помощи!
Потом я узнал об особенностях войны в лесу. Два стула и стол (их двенадцать ножек) рассказали мне много интересного.
Теперь каждое утро я спускался с кровати на пол. Расставлял солдатиков. И играл с ними. Перед завтраком в мою комнату заходила бабушка. Делала массаж. Помогала мне выполнять пассивную зарядку для ног. Последнее время мне приходилось передвигаться только с помощью рук, так что накачал я их основательно. По словам бабушки, это очень распространенная ошибка многих, кто восстанавливается после травмы позвоночника. Они вроде бы все делают правильно – то, что им по силам. А по силам им делать упражнения для рук. И тогда включается «закон отмирания функций за ненадобностью»: мозг воспринимает усиленную нагрузку на руки как сигнал, что ноги этому человеку не нужны, и отключает их питание. После этого восстановить их работоспособность очень сложно. Поэтому так важны пассивные движения для ног. И разные приспособления для этого.
После этого я завтракал. И снова играл. Весь день.
А по вечерам бабушка заставляла меня рисовать и писать всякие-разные глупые стихи. Она говорила, что вечерами нельзя оставаться наедине со своими грустными мыслями о том, что я могу не подняться на ноги. В это время я должен заниматься творчеством. Почему-то она была убеждена, что ничто так не отвлекает от грустных мыслей, как разные глупые дела.
Так совершенно неожиданно моя жизнь наполнилась в эти дни новыми знаниями и новыми открытиями. Удивительно, но бабушка всегда умела найти нужные слова, чтобы поддержать меня. И умела поругать, когда в этом возникала необходимость. Думаю, что моим родителям в этой ситуации найти со мной общий язык было бы намного труднее, чем ей. И заставить меня шевелить мозгами, когда я не мог шевелить ногами.
Не скрою, я ожидал, что для моего лечения бабушка будет использовать какие-то волшебные зелья. Но рецепт ее волшебства оказался совершенно неожиданным для меня. И назывался он «Три Т» – традиции (народные, семейные, в том числе традиционная медицина), труд и творчество. Бабушка была уверена, что в данном случае эти «Три Т» гораздо эффективнее, чем любые лекарства, змеиные глазки и мышиные хвостики.
Она использовала нашу старинную традицию – защищать свою Родину. И использовала ее, чтобы, обучаясь военному делу, я научился двигаться – через боль, через «не могу». Родители с детства прививали мне привычку к труду. Но бабушка заставляла трудиться не только в повседневной жизни, но и во время болезни. А еще она приучала меня к творчеству, которое безгранично и которое по силам не только тем, кто бегает на своих двоих, но и тем, кто лежит на больничной койке. И является лучшим на свете лекарством от хандры и сомнений.
К счастью, ничего из того, что я написал или нарисовал в то время, не сохранилось. Но осталось знание, что решение различных задач и кроссвордов, поэзия, рисование и каллиграфия здорово прокачивают мозги. И когда ты занят любимым делом, тебе не так больно.
Так прошли два летних месяца. Шестого августа у моей сестры родился мальчик. Назвали его, как и меня, Сережей. Раньше я думал, что когда кто-то новый приходит в этот мир, то кто-то обязательно должен этот мир покинуть. Наверное, этим кем-то должен был быть я? Но в те дни это меня не беспокоило. У меня были солдатики. И мне нужно было продолжать свою войну.
К началу августа я уже начал понемногу ходить на костылях по комнате. Правда, сделать мог только несколько шагов.
Отец часто интересовался, не хочу ли я прогуляться на улице. Говорил, что на костылях я, конечно же, особо не погуляю, но он достанет мне коляску. Хотелось мне прогуляться? Нет, на костылях не хотелось. А по поводу коляски я почему-то был уверен, что, если только сяду в нее, уже не смогу подняться. Поэтому лучше буду ползать по полу, чтобы только встать на ноги.
Первого сентября, когда все мои одноклассники пошли в школу, я пошел… в школу. А не в больницу. Пошел без костылей. Нет, иногда все же это очень приятно: быть таким, как все!
Глава 5. Десятый класс
И в первый же день сентября мой друг и одноклассник Андрей Пименов огорошил меня новостью, что он переплыл водохранилище у лодочной станции на реке Сестре. Это не могло быть правдой, потому что не могло быть никогда. Да, Андрей плавал немного лучше меня. У меня же плавать далеко не получалось. Мог проплыть лишь метров пятнадцать-двадцать, не более того.
С другой стороны, Андрей никогда не говорил неправду. Но и переплыть водохранилище шириной в 150 метров он не мог. В общем, мой мозг не справлялся с таким количеством разных вводных.
– А побежали завтра с нами. Сам посмотришь, – пришел мне на помощь боевой товарищ.
Оказалось, что по утрам он бегает вместе со своей мамой – Антониной Артемовной. И вместе с ней плавает. Бегать в это время я еще не мог. Но зато мог изобразить бег трусцой.
Следующим утром мы втроем медленно и лениво добежали до водохранилища. Андрей и его мама быстро разделись и пошли в воду. Антонина Артемовна обернулась и посмотрела на меня.
– А ты чего стоишь? Раздевайся. Поплыли.
Не знаю почему, но я послушался Антонину Артемовну, разделся, залез в воду и поплыл. Прошедшим летом по понятным причинам я не плавал. А до этого в бассейне мог проплыть не более двадцати метров. Возможно, причина была в том, что я не умел разворачиваться у бортика. А еще – нырять с тумбочки. Поэтому свой заплыв обычно начинал метрах в пяти от нее, где было не так глубоко. И доплыв до другого бортика, вынужден был останавливаться. А тут произошло что-то немыслимое: я проплыл с Андреем и его мамой целых 150 метров.
Ноги у меня работали еще не очень хорошо. Но за лето, когда не мог ходить, я здорово подкачал руки (ведь почти все время приходилось передвигаться на них, хотя, по совету бабушки, я старался не забывать загружать и ноги – с помощью пассивных упражнений и различных приспособлений). А еще в водохранилище не было никаких бортиков. И не нужно было разворачиваться.
Мы вышли с Андреем на пляж на другом берегу. Уставшие, но счастливые. И берегом, через мост, вернулись к своей одежде. Антонина Артемовна вернулась вплавь.
На следующий день, после короткого отдыха, мы с Андреем тоже вернулись на свой берег уже плавь. А еще через день – переплыли водохранилище туда-обратно без отдыха. Потом Андрей занялся другими, более интересными, на его взгляд, вещами. И больше в эту осень не плавал. А я, как обычно, застрял в своем новом увлечении. Мне понравилось плавать. И вместо вечерних пробежек, которые были мне пока не по силам, я начал осваивать новую среду обитания – воду.
Для того, кто умеет плавать, водохранилище наше было не очень-то большим. И вскоре я переплывал его уже по несколько раз туда и обратно. И уже планировал проплыть свой первый километр, но в один из дней пошел снег. Так, совершенно незаметно для меня, наступил ноябрь. Было еще не слишком холодно, но, когда я вылез на берег, у меня почему-то закружилась голова. Мне не понравилось это головокружение, и больше в эту осень в реке я не плавал.
Но зато ближе к Новому году я снова начал бегать. Еще медленнее, чем раньше. Порой у меня сильно прихватывало спину, и я делал перерывы в своих пробежках. Иногда на пару дней. Иногда на неделю. А потом снова выходил на дистанцию. Остановить меня в это время было трудно. Я словно сорвался с цепи и после лета, проведенного в постели и на полу с игрушечными солдатиками, теперь все свое свободное время старался ходить или бегать. Чего бы мне это ни стоило.
К выпуску из школы я уже снова бегал по пятнадцать-двадцать километров. Раз в неделю пробегал тридцатку, иногда чуть больше. И мечтал пробежать свой первый марафон. Но каждый раз, когда пробегал чуть больше тридцати километров, у меня начинало сводить ноги. И мне приходилось сходить с дистанции. И ничего не мог поделать с этой проклятой судорогой. В результате марафон в десятом классе я так и не пробежал. А пробежал его лишь многие годы спустя, когда бегать уже не мог и понимал, что если не пробегу его сейчас, то не пробегу уже никогда. А отец всегда учил меня: уж коли ты чего решил, так выпей обязательно!
Быстро бегать и плавать в школьные годы я так и не научился. Но это было неважно. Важно, что я усвоил несколько довольно простых уроков. Когда ты не можешь бежать – иди. Когда не можешь ходить – плавай. Когда не можешь плавать, придумывай различные игры, занимайся статической или дыхательной гимнастикой, подтягивай учебу, читай книги. И двигайся к своей цели. Шаг за шагом. Потому что, как писал мой друг Лао-цзы, путь длиной в тысячу ли начинается у тебя под ногами.
Я стал ходить на все факультативы, которые только были в школе (а вот занятия в театральной студии пришлось забросить). Ездил на подготовительные курсы в Московский автодорожный институт, в который был зачислен еще до выпускных экзаменов в школе (а также был зачислен в МГУ по результатам областной олимпиады по химии). Занимался общественной работой. Все это позволяло немного отвлечься от моей новой и очень неприятной напасти.
Дело в том, что зимой сущим наказанием для меня стали глазные простудные заболевания с красивым названием – «ячмень». Вы можете представить, насколько ужасно ходить в школу в выпускном классе с ячменем на глазу! А то и на двух одновременно. Я понимал, когда ячмень выскакивал зимой. Мама говорила, что это от простуды. Но когда они начинали появляться еще и по весне, то это было как-то совсем непонятно. И очень стыдно. Мне хотелось забиться в какой-то темный угол, чтобы меня никто не видел. Но мне хватило ума сделать все наоборот: закрыть глаза на свой непрезентабельный вид, плюнуть на то, что думают обо мне мои одноклассницы, и сосредоточиться не на своих переживаниях, а на делах.
Мама говорила, что нельзя тереть глаза грязными руками, нельзя переохлаждаться. Что нужно есть больше витаминов. Отец утверждал, что если плюнуть в глаз, то все ячмени сразу пройдут. Или просто плюнуть себе на палец и каждые полчаса смазывать слюной больное веко. Я пробовал, но помогало это не очень. К тому же бабушка всегда говорила мне, что в первую очередь нужно не бороться с последствиями, а устранять причины. Поэтому, не скрою, в волшебном действии слюны и плевков я тогда немного сомневался.
Отец снова сказал, что мне нужно закаляться и принимать холодный душ. Когда-то в детстве я уже это пробовал. Но и теперь стоять под холодным душем было слишком мокро, холодно и противно. Ведь это же не плавать в холодной воде!
Но когда стоит выбор между тем, что противно, и тем, что ужасно, из двух зол мы выбираем меньшее. Или большее – это кому что нравится. В общем, теперь после вечернего кросса я стал принимать душ под все более и более прохладной водой.
К сожалению, это тоже не помогало. Не помогало протирание глаз настоем из ромашки. И даже переливание крови, которое мне сделали в поликлинике.
В то время я почему-то перестал следить за порядком в своей комнате. В секретере у меня был тогда страшный бардак, и мама постоянно ругала меня за это. Я пытался наводить порядок, но через пару дней от него не оставалось и следа.
Еще осенью, в начале учебного года, меня избрали в комитет комсомола школы и назначили ответственным за гражданскую оборону (в девятом классе я отвечал в комитете комсомола за учебный сектор). В мои обязанности входило вместе с инструктором райкома комсомола раз в полгода проверять бомбоубежище, которое было закреплено за нашей школой, исправность вентиляции и противогазов, наличие аптечек и качество питьевой воды. По тревоге (транслируемой через радиоточки, которые были тогда в каждой квартире, и дублируемой сиреной комбината «Химволокно») я должен был организовать прием и размещение местных жителей в бомбоубежище, досуг и культурную программу. А также руководить работой сандружинниц (старшеклассниц из нашей школы) по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Я не знаю, что сработало. Закаливание, мои кроссы, немного усилившие иммунную систему? То, что я стал нормально питаться? Или то, что я наконец-то начал наводить порядок в своей комнате и секретере? Моя общественная работа или мое стремление к отличной учебе? Но с началом лета все эти кошмарные ячмени покинули мои бедные глаза. В последующие два года они выскакивали еще пару-тройку раз – как напоминание о том, что они всегда рядом. Но потом прошли окончательно.
Мне почему-то кажется, что сработало все вместе. И питание, и закаливание, и занятия спортом, и отличная учеба. Но порядок, который я научился тогда наводить вокруг себя, думается, оказался в те дни моим самым главным лекарством. Потому что, когда ты наводишь порядок вокруг себя, тебе легче навести порядок и внутри себя.
К тому же, когда нужные вещи находятся у тебя под рукой, ты экономишь уйму времени, которое раньше тратил на их поиски. И у тебя появляется время для новых дел, новых увлечений и новых открытий. Пройдет несколько лет, прежде чем я применю эти знания для разработки теории коротких траекторий и буду использовать ее для обучения и подготовки своих разведчиков. Но это будет еще не скоро.
Кроме того, оказалось, что, когда ты занят делом, тебе как-то уже не так важны и страшны все эти прыщи, угри и ячмени. И тогда они проходят гораздо быстрее. А когда ты занят не просто делом, а хорошим и нужным делом, то и болеешь реже. Потому хорошие, нужные и добрые дела – одно из лучших в мире лекарств от разных болезней и невзгод.
Глава 6. Спортвзвод
К выпуску из школы я уже решил, что буду поступать в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В прославленную «кремлевку». Бывают ситуации, когда остановить тебя на пути к твоей мечте может только тяжелый авианесущий крейсер «Киев». Да и то если этот крейсер упадет тебе на ногу.
Прошлой зимой я успешно «потерял» свою старую медицинскую карту, в которой хранилось много совершенно лишней информации. В том числе о пролапсе митрального клапана и переломе позвоночника.
Моя новая медицинская карта была девственно чиста. К счастью, никто из членов военно-врачебной комиссии не обратил на это внимания. Возможно, никто из них не подумал о том, что кто-то попытается с такими болячками поступать в высшее военное училище. А слух, зрение и анализы у меня были в порядке.
Думается, что таких ребят, как я, у которых были проблемы со здоровьем, но которые все равно пытались поступить в военные училища, во все времена было немало. Но где-то далеко на юге уже второй год шла Афганская война. Набор в наше училище был увеличен в полтора раза. И, видимо, по этой причине медицинская комиссия была не слишком придирчива. Хотя конкурс в училище все равно был большой – более десяти человек на место.
Вступительные экзамены, включая экзамены по профотбору, я сдал без особого труда (благо что 10-й класс окончил круглым отличником, да еще и год занимался на подготовительных курсах в Московском автодорожном институте). И с небольшими приключениями стал курсантом.
На первом курсе я ничем особенно не отличался от своих товарищей. Учился, ходил в наряды и караулы. Во втором семестре меня избрали комсоргом взвода. А на втором курсе, совершенно неожиданно для себя, оказался зачисленным в спортивный взвод. Это было довольно странно – особых спортивных достижений у меня не было. К тому времени я неплохо бегал кросс на три километра, но стометровку пробегал плохо и плавать быстро не умел (на первой прикидке, своеобразном контрольном занятии, проплыл сто метров за две с лишним минуты – это было слишком много, тем более для спортвзвода). Да и в остальных видах многоборья не блистал особыми рекордами.
Но командир нашей седьмой роты, капитан Григорий Николаевич Белянин, сказал, что я буду комсоргом спортвзвода. И моя главная задача – помочь взводу превратиться в команду. Потому что без этого на предстоящих соревнованиях Московского военного округа по военному многоборью взводов нам не победить.
Как превратить взвод в команду, я тогда не знал. Но ко второму курсу усвоил одну простую истину: командир или комсорг должен быть примером для своих товарищей. И уже на третьей прикидке, еще с двумя ребятами, умудрился набрать неплохую сумму баллов. За что каждый из нас троих был поощрен командиром взвода и одновременно нашим тренером, лейтенантом Владимиром Вячеславовичем Горловым, десятью эклерами! Которые мы всем взводом тут же и уничтожили с превеликим удовольствием.
Весной я выполнил первый разряд на трех километрах, но на этом мои спортивные рекорды закончились. Возможно, потому, что наш командир больше не пытался стимулировать нас на спортивные подвиги эклерами? А за месяц до соревнований у меня в очередной раз прихватило спину. И случилось что-то совершенно для меня непонятное.
В один из дней я вдруг совершенно разучился бегать, подтягиваться, делать подъем переворотом, плавать. Даже ходить у меня получалось с большим трудом. Навалилась какая-то полная апатия.
Командир сказал, что я перетренировался, и почти на целый месяц освободил меня от тренировок. Странная какая-то была эта самая перетренированность! Я ходил, словно зомби – без чувств и эмоций. По ночам долго ворочался, не мог уснуть. Ничего не хотелось: ни есть, ни двигаться, ни жить. Все, за что я брался, валилось у меня из рук. И уставал я еще до того, как пытался хоть что-то сделать.
Приблизительно через две недели я потихоньку начал бегать на утренней физзарядке. Не со всеми вместе, конечно, а по своему отдельному графику. И лишь еще через две недели снова приступил к тренировкам.
Это сейчас мы всё знаем. А что не знаем, в любой момент можем узнать в интернете. О том, что мне нужно было не только снизить уровень нагрузок, но еще и увеличить продолжительность сна (хотя в спортвзводе у нас был послеобеденный тихий час), улучшить качество питания (у нас было дополнительное питание – не очень разнообразное, но было), чередовать различные виды нагрузок и отрабатывать правильную технику выполнения упражнений.
Но главное – тогда я впервые услышал от своего командира, что в той ситуации мне очень помог бы хороший массаж. Но массажиста в команде у нас, к сожалению, не было.
Перед самыми соревнованиями командир впервые познакомил нас с адаптогенами – растительными настойками, укрепляющими иммунную систему. Уже после окончания училища одна из этих настоек не раз меня здорово выручала. Не только как средство для повышения иммунитета, но еще и как очень эффективная питательная смесь в условиях, когда нет возможности брать с собой большой запас продуктов.
Для меня до сих пор остается загадкой, почему командир не отчислил меня тогда из спортвзвода (если бы он это сделал, скорее всего, я вылетел бы и из училища – в обычной курсантской роте никто бы не стал разбираться, что у меня – перетренированность или попытка «прикинуться шлангом»). Ведь уже тогда было ясно, что спортсмен из меня никакой.
На соревнования ордена Ленина Московского военного округа по многоборью взводов в основной состав я, разумеется, не попал. И поехал лишь запасным участником. Правда, на окружных соревнованиях по марш-броску на десять километров с боевой стрельбой выступал уже в составе команды. В то время это была моя любимая дистанция, и на ней я не мог подвести своих товарищей.
Нам немного не повезло: когда мы стартовали, начался небольшой дождь. Бежать под дождем было легко, но вскоре он закончился, и к финишу мы бежали уже в настоящей парилке. Из-за туч выглянуло солнце, асфальт моментально нагрелся. И облако пара повисло над дорогой. Двое наших ребят потеряли от этой парилки сознание. Донести их до финиша мы, конечно же, донесли, а вот стрелять они не могли. Так что заняли мы только второе место из семнадцати.
Командир наш был тогда сильно расстроен этой неудачей. Все повторял: «Вечно вторые» (на соревнованиях по многоборью взводов наш взвод тоже занял лишь второе место).
Поэтому на следующих соревнованиях, по военно-прикладному плаванию, чтобы не огорчать больше нашего командира взвода (чемпиона Вооруженных Сил по плаванию и офицерскому многоборью), мы обязаны были победить.
Глава 7. Военно-прикладное плавание
На этих соревнованиях от меня не требовалось плыть очень быстро, главное было – доплыть. Хотя тоже на время. Но мне это было по силам. Вода для всех одинаково мокрая, поэтому все в равных условиях. Соревнования несложные: военная форма одежды, сапоги под ремнем, за спиной автомат, проплыть 100 метров в реке Наре на время (1 мин 30 с – 3 балла; 1:40 – 2 балла; 2:00 – 1 балл). Правда, во время подготовки к соревнованиям по многоборью взводов мы учились плавать вольным стилем. А в форме, с сапогами и оружием плыть можно было только брассом.
Многие ребята у нас во взводе хорошо плавали не только вольным стилем, но и брассом. Я же в этом стиле плавания был не силен. Хотя на тренировках к этим соревнованиям и проплывал стометровку за минуту пятьдесят. Так что хотя бы один балл мог принести в копилку нашего взвода. Но для победы на соревнованиях этого могло не хватить. К тому же одно дело – плыть в бассейне и совсем другое – в реке. Поэтому я должен был что-то придумать, чтобы не подвести своих товарищей.
Найти решение оказалось несложно. На месте проведения соревнований выяснилось, что Нара не такая уж широкая река. Поэтому нам нужно было проплыть пятьдесят метров до понтона, развернуться у него и проплыть еще пятьдесят метров обратно.
Как известно, большинство людей могут провести под водой не более одной минуты. С учетом того, что игра в салочки под водой была любимой игрой в нашем спортвзводе, можно было предположить, что я смогу провести под водой немного больше времени. Но насколько больше, я точно не знал.
Понятно, что на сто метров одной минуты мне не хватит. А вот на последние пятьдесят метров должно было хватить. Поэтому я решил плыть вольным стилем. На первых пятидесяти метрах постараться сделать хотя бы парочку вдохов. И на развороте сделать глубокий вдох. А дальше не тратить силы и время на попытки глотнуть воздуха и доплыть до финиша на автопилоте. В надежде на то, что мои мышцы будут рефлекторно повторять несложные движения, необходимые для этого. Главное было не переходить на брасс – тогда потеряю время и у меня ничего не получится. Но еще важнее – чтобы мой мозг не запаниковал из-за недостатка кислорода. Или вода не попала в легкие. Тогда весь мой план пойдет на дно. И не только он.
Сразу же после старта все пошло не по плану. В бассейне на тренировках мы ныряли на дальность. Но у меня получилось проплыть под водой не более двадцати метров. В Наре у меня получилось задержать дыхание и проплыть всего метров десять. Затем я смог пару раз сделать вдохи на гребке. И проплыл еще немного. А потом сделать сильные гребки, чтобы немного приподняться из воды и глотнуть воздуха, у меня уже не получалось. Вместо воздуха я глотнул воду. И хотя она не попала в легкие, дальше мне было уже не до результатов, не до стиля плавания – ни до чего, кроме глотка воздуха. Я действительно запаниковал.
Мне пришлось перейти на брасс, чтобы доплыть до понтона. Это было полным провалом. Я прекрасно понимал, что на брассе хорошего времени не покажу. А потому, развернувшись у понтона, я поплыл обратно вольным стилем…
Позднее ребята рассказывали мне, как забавно это выглядело со стороны. Из воды торчал ствол автомата, как перископ подводной лодки. Справа и слева от него делали гребки две руки-лопасти. Голову было почти не видно. В какой-то момент меня начало уводить вправо. Ствол автомата коснулся троса с пенопластовыми поплавками, обозначающими мою дорожку. И начал собирать их в кучу. Когда куча собралась довольно большой, ствол пару раз дернулся, пытаясь сдвинуть ее дальше. Но у него ничего не получилось. Он дернулся еще раз и начал постепенно погружаться под воду.
Судья дал команду спасателям вытаскивать меня из воды. Но в этот момент ствол моего автомата снова появился на поверхности и продолжил путь к финишу. Судья отменил свою команду.
С каждым метром движения моих рук становились все медленнее и медленнее. А ствол автомата все больше погружался под воду. Я не помню, как добрался до финиша. Помню лишь, что выбрался на берег сам, без посторонней помощи. И только после этого у меня началась рвота с водой…
А еще ребята говорили, что один из судей плакал при виде того, как я плыл, – с нарушением всех законов физики, биологии и гравитации. Видимо, он лучше других понимал, что я делаю. И чего мне это стоит. Но я думаю, что ребятам просто показалось. Мужчины ведь не плачут. Тем более офицеры. Так, соринка в глаз попала…
На этих соревнованиях мы стали чемпионами ордена Ленина Московского военного округа по военно-прикладному плаванию. Благодаря своему плану я смог проплыть стометровку в Наре на десять секунд быстрее, чем в бассейне. И принес команде два балла, а не один. Совсем немного, но это было все, что я смог тогда сделать. Думаю, тогда многие из нашей команды смогли, как и я, сделать чуть больше того, что было в их силах.
Из этих соревнований я вынес три урока. Во-первых, мы слишком мало знаем о работе нашего мозга и возможностях своего организма. А потому часто недооцениваем или переоцениваем их возможности. Но каждый из нас способен на большее, чем думает о себе.
Во-вторых, оказалось, что иногда нужно быть готовым умереть, чтобы выжить и победить.
А в-третьих, я понял, что в реальном бою после форсирования водной преграды я не смог бы сразу бежать в атаку. Но зато смог бы прикрывать огнем своих товарищей. Поэтому как будущему командиру мне предстояло научиться распределять задачи между своими подчиненными, чтобы даже самое «слабое звено» в подразделении могло приносить пользу в бою.
Глава 8. Комитет комсомола
На третьем курсе меня избрали в комитет комсомола нашего батальона. И назначили ответственным за учебный сектор.
На втором курсе наш взвод целый год был на спортивных сборах, и последний семестр мы не учились. Поэтому после соревнований спортивные взводы обычно расформировывали, а курсантов разбрасывали по другим взводам. Чтобы за оставшиеся два года они могли наверстать упущенное в учебе.
Я обратился к начальнику политотдела училища с просьбой ходатайствовать перед командованием училища о том, чтобы наш взвод не расформировывали. И пообещал, что в этом семестре мы сможем подтянуть учебу до уровня лучших в батальоне взводов. Это обещание не было пустыми словами. В девятом классе в комитете комсомола школы я тоже отвечал за учебный сектор. И еще тогда обратил внимание на то, что шефство отличников над двоечниками становится более эффективным, если к этим двоим добавить еще и хорошиста. Возможно, потому что между отличником и двоечником для лучшего взаимопонимания обязательно был нужен некий посредник? Да и хорошиста неплохо было подтянуть до уровня отличника. Ведь, как говорится, нет предела совершенству.
К тому же во многих сказках было три богатыря или три сына (один из них – двоечник Иванушка), в книгах – три товарища или три мушкетера. И даже в жизни обычно было принято соображать на троих…
«Боевые» тройки, которые мы использовали в школе, вскоре показали свою эффективность. Успеваемость в нашем классе резко пошла в гору. И после окончания школы почти все мои одноклассники без проблем поступили в институты или военные училища. Этот опыт я решил использовать и сейчас (позднее, уже в Афганистане, я тоже буду учить своих разведчиков работать в боевых тройках, и эти тройки покажут свою высокую эффективность в бою).
Возможно, я был достаточно убедителен, поэтому командование училища решило дать нашему взводу шанс показать отличные результаты не только в спорте, но и в учебе. К тому же расформировать наш взвод можно было в любое время.
В гражданской жизни многие руководители используют для обучения и воспитания своих подчиненных принцип: «Делай, как я сказал». В армии принято использовать другой принцип: «Делай как я». Поэтому параллельно с созданием учебных троек в нашем взводе я и сам серьезно засел за учебники и конспекты лекций.
В результате через полгода наш взвод занял первое место в батальоне по успеваемости. А я стал Фрунзенским стипендиатом. Но главное – вопрос с расформированием был закрыт окончательно.
Еще одной моей инициативой было проведение нашими курсантами уроков начальной военной подготовки в подшефных школах. Дело в том, что не все военруки в школах были выпускниками общевойсковых военных училищ. И не все хорошо разбирались в стрелковом оружии. А выпускников нашего училища в армии не случайно называли ковбоями. Ведь мы стреляли как настоящие ковбои. И бегали лучше, чем ковбойские лошади.
Это была хорошая идея – помочь военрукам проводить уроки на более высоком профессиональном уровне. А нашим курсантам получить дополнительную педагогическую практику.
На четвертом курсе в комитете комсомола меня назначили ответственным за культурно-массовый сектор. Ближе к выпуску многие из наших ребят женились. А меня приглашали свидетелем на свадьбы. Я желал им счастья и благополучия в личной жизни. Но мне хотелось подарить им нечто большее. Моя бабушка часто говорила, что за спиной любого успешного мужчины всегда стоит женщина. Не только потому, что он – ее защитник, но еще и потому, что она – его надежный тыл.
А еще мне почему-то вспомнилась бабушкина теория «Трех Т» (традиции, труд и творчество) как основа человеческой жизни. В школьные годы эта теория помогла мне в кратчайшие сроки восстановиться после серьезной травмы позвоночника. По словам бабушки, традиции – это не только обычаи, порядки и нормы поведения. Но в первую очередь – опыт и знания, накопленные нашими предками.
У нас в училище было много ребят из известных военных династий. И я подумал, что будет не только интересно, но и полезно для наших курсантов-молодоженов и их жен, если перед ними выступят представители этих династий. Поделятся с ними своим опытом не только военной службы, но и семейной жизни. Тем, что помогло им преодолеть различные проблемы и трудности, сохранить крепкие семьи и воспитать замечательных детей. Ведь этому нас никто не учил.
Валентина Ивановна, инструктор по работе женсовета нашего училища и по совместительству мама моего лучшего друга Гены Левкина, предложила включить в этот проект забавные конкурсы по домоводству. И небольшой курс обучения для молодых курсантских, а в недалеком будущем офицерских жен.
Володя Черников, секретарь комитета комсомола нашего батальона и мой друг, который сам недавно женился, предложил приглашать артистов Москонцерта, чтобы заполнять их выступлениями музыкальные паузы. И сказал, что этот вопрос возьмет на себя.
Так с миру по нитке у нас родилась идея вечеров для молодоженов. И после проведения первого такого вечера начальник училища приказал сделать их регулярными.
Проблема заключалась в том, что каждый курс мог провести в гарнизонном офицерском клубе нашего училища не более одного вечера в месяц. И если мы проводили вечер для молодоженов, то неженатые курсанты оставались на целый месяц без танцевального мероприятия. А значит, без дополнительной возможности познакомиться со своими потенциальными будущими женами. Поэтому нам пришлось чередовать: на два-три обычных танцевальных вечера мы проводили один вечер для молодоженов.
Эта идея с вечерами для молодоженов и школой молодых офицерских жен, с выступлениями родителей, бабушек и дедушек наших курсантов с полезными советами, думается, была нужной и важной для каждого из нас.
После окончания парадной подготовки и парада на Красной площади меня направили в издательство «Известия» для работы с архивными документами. На их основе планировалось подготовить статьи о неизвестных страницах Великой Отечественной войны, которые должны были выйти накануне 40-летия Победы. Моя идея использовать в работе не только наши архивные документы, но и немецкие, чтобы дать развернутую картину описываемых событий, показалась руководителю нашей группы, маршалу авиации Сергею Игнатьевичу Руденко, довольно занимательной. Работа наша немного усложнилась, но результаты ее оказались действительно интересными.
Вскоре Сергей Игнатьевич познакомил меня с известным советским писателем и военным разведчиком Александром Александровичем Щелоковым, работавшим в Афганистане еще до ввода наших войск. По рекомендации Сан Саныча за полгода до выпуска из училища меня начали готовить к командировке в Афганистан. Так я попал в военную разведку.
Самым интересным в моей подготовке было изучение фарси, одного из государственных языков Афганистана. Для этого использовался игровой принцип вытеснения: когда ты узнавал новое слово на фарси, то переставал использовать это слово на русском языке. И если тебе было что-то нужно, ты мог это попросить, но только на фарси. Такая методика позволяла довольно быстро наполнить свой словарный запас самыми нужными и востребованными в быту словами. Но кое-что приходилось и зубрить.
Позднее в Афганистане многие из нас будут удивляться тому, что афганские мальчишки свободно говорят на русском языке, хотя даже в школе не учились. На самом деле они не знали даже таких элементарных русских слов, как «синхрофазотрон» и «триангуляция», но зато хорошо владели числительными (до десяти включительно, несколькими двузначными и трехзначными числами), фразами «чего хочешь?», «чего надо?» и парой не совсем литературных словосочетаний, которым их научили наши бойцы. Но для начала и этого было достаточно. А позднее, при общении с нашими бойцами, их лексикон быстро пополнился новыми словами.
На занятиях Сан Саныч рассказывал мне о традициях и обычаях афганцев, особенностях их поведения и менталитета. И не раз повторял девиз легендарного разведчика Рихарда Зорге: «Чтобы узнать больше, нужно знать больше других. Нужно стать интересным для тех, кто тебя интересует».
Агент, с которым мне предстояло работать в Афганистане, был высококлассным врачом. И мое руководство было уверено, что знание хотя бы азов медицины поможет мне быстрее наладить с ним контакт. К тому же не секрет, что в те годы в Афганистане был огромный дефицит гражданских врачей и медицинских работников. Так что эти знания и навыки должны были помочь мне и в организации агентурной работы среди местных жителей. Поэтому главный упор в моем обучении был сделан на военно-медицинскую подготовку.
Самое забавное, что эти занятия и мне самому оказали в дальнейшем неоценимую помощь. Думается, что они были бы полезны для всех. И их обязательно нужно включить в школьную программу. А в военных училищах проводить не только теоретические, но и практические занятия в травмпунктах и различных лечебных заведениях.
На старших курсах у меня еще пару раз серьезно прихватывало спину. Один раз на тактическом поле в Ногинском учебном центре я чуть было не потерял сознание от боли. К счастью, никто не обратил на это внимания. Но для меня это было хорошей новостью – за последние годы спину прихватывало все реже и реже. Секрет был прост: когда ты занят серьезным и важным делом, на болезни у тебя остается меньше времени. А если дело, которым ты занят, – нужное и полезное для других, то еще меньше!
Глава 9. Гепатит
После окончания училища я еще целый год проходил переподготовку в Краснознаменном Туркестанском военном округе. Сначала в пригороде Чирчика Узбекской ССР, в поселке Азадбаш. Затем в 197-м отдельном батальоне резерва офицерского состава в Келяте под Ашхабадом. С нами проводили занятия по горной, огневой и тактической подготовке, вождению боевых машин в горах и минно-взрывному делу.
Периодически нас снимали с занятий и отправляли в различные командировки. Мы участвовали в развертывании 36-го армейского корпуса и проверках воинских частей Краснознаменного Туркестанского военного округа. Мне довелось побывать практически в центре Каракумов и на Кушке.
Ближе к весне многие из офицеров нашего батальона подхватили желтуху (гепатит). Это не стало для нас новостью. Командование нашего батальона состояло из офицеров, уже прошедших Афганистан. С первого дня нашего прибытия в батальон они предупреждали нас об этой напасти. Советовали тщательно мыть руки перед едой и заваривать в чай верблюжью колючку.
Тогда мы еще не знали о том, какие виды гепатита существуют. Что среди них есть безжелтушные. Но, собираясь по утрам на завтрак в офицерской столовой, безошибочно вычисляли тех, чья кожа приобретала желтоватый оттенок. И главным признаком, конечно же, были глаза – с очаровательным желтоватым ореолом вокруг зрачка. В тот же день этих ребят отвозили в ашхабадский инфекционный госпиталь.
Да, мы мыли руки перед едой. По вечерам в ленинской комнате кипятили чай в трехлитровых банках из-под сока. Кипятильники, сделанные из лезвий бритв или подковок, натужно гудели, грозя бедой всем нашим электрическим сетям. Мы заваривали верблюжью колючку, предварительно измельчив и растерев ее до кашицы. И чуть ли не всей нашей офицерской ротой пили чай с печеньем, которое присылала мне по почте моя сестра в пятикилограммовых посылках. Вприкуску с клубничным вареньем, которое я привозил из дома во время своих самовольных отлучек.
Да, я твердо верил в целебные свойства печенья и клубничного варенья. Как когда-то давным-давно верил в чудодейственную силу сгущенного молока. Ведь ничто так не поднимало моего настроения в десятом классе, как большая тарелка сгущенки с теплым ароматным батоном белого хлеба и литровой кружечкой кофе!
Со сгущенкой в Келяте были проблемы. Так что оставалось уповать только на печенье и варенье. Больше надеяться нам было не на что. Других способов защиты и профилактики гепатита мы тогда не знали. А потому каждый день гадали, кто из нас будет следующим «желтоглазиком». Все это было похоже на русскую рулетку.
В батальоне резерва со мной служил мой друг по училищу Володя Иванов. Как завещал старик Дюма, двум мушкетерам, для того чтобы их жизнь была полна приключений и заноз в одном месте, обязательно нужен третий. Третьим в нашей мушкетерской компании стал Игорь Дороганов, выпускник Ленинградского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища имени Сергея Мироновича Кирова.
Если бы в жизни мы играли роли, то Володя непременно был бы Д’Артаньяном. Потому как, трезво рассудив, что… Нет, то, что красные глаза не желтеют, придумал не Володя, а кто-то другой1. И задолго до него. Володя же, будучи настоящим бойцом по натуре, почему-то решил, что тщательным мытьем рук мы создаем стерильные условия и лишаем свой организм возможности бороться.
Игорь в театре нашей жизни непременно играл бы роль Атоса. Его отец был большим начальником в Госплане (в то время дети больших начальников еще не скупали элитную недвижимость, не учились и не жили за границей, а служили в армии и воевали в Афганистане, как и все мы). Воспитывался Игорь в очень интеллигентной семье, был большим сторонником порядка во всех его проявлениях. И очень внимательно относился к своему здоровью. Поэтому он был уверен, что если будет исполнять рекомендации наших командиров, пить настой из верблюжьей колючки и тщательно мыть руки перед едой, то сможет избежать гепатита.
Мне же в этом «романе», похоже, досталась бы роль философа Портоса, который боролся только при крайней необходимости. И едва ли любил слишком тщательно мыть руки перед едой. Но, как настоящий философ, был уверен, что истина лежит где-то посередине.
Сидеть без дела и ждать, когда кто-то из нас заболеет, было не по-нашему. В общем, как-то вечером мы озвучили свои идеи по поводу лучших способов защиты от гепатита и решили провести следственный эксперимент. Опытным путем доказать, чья теория – самая правильная.
Ничего особенно менять в нашей привычной жизни нам не пришлось. Игорь, приходя в столовую, как и раньше, самым тщательным образом мыл руки и свои столовые приборы. И только после этого приступал к приему пищи. Я мыл руки перед едой. Володя лишь делал вид, что моет их.
Едва ли наш эксперимент можно было назвать научным по причине не слишком-то большого количества подвергнутых испытаниям лабораторных мышей – мушкетеров. Но, как бы то ни было, первым из нас гепатитом заболел Игорь, вторым – Володя.
Наверное, моя теория оказалась самой правильной. Потому что гепатитом я так и не заболел. Зато вместо гепатита через полтора месяца после прибытия в Афганистан подхватил тиф. Похоже, что и в моей теории были какие-то недоработки.
Перед отправкой в Афганистан нам делали различные прививки. В том числе вводили гамма-глобулин. Мне и моим друзьям эти прививки помогли как-то не очень. Настойки верблюжьей колючки, клубничное варенье и даже печенье «Песочное» – тоже. Но это не значит, что они не помогли или не помогут другим. Возможно, современные вакцины более эффективны, чем наши старые прививки? Нужно пробовать.
В то время мы хорошо усвоили, что главное в борьбе с инфекционными болезнями – это хорошая общефизическая подготовка, крепкий иммунитет и капелька оптимизма. И такие организационные «мелочи», как рассредоточение личного состава, полноценное питание и здоровый образ жизни. И по возможности не шататься лишний раз там, куда неведомый нам Макар не гонял своих блудных коров…
1 Была такая шутка в армии: «Красные глаза не желтеют» (якобы те, кто пьет водку, не болеют гепатитом – на самом деле водка от гепатита не спасала).
Глава 10. Брюшной тиф и полевая хирургия
В Афганистане мне пришлось работать, как сейчас принято говорить, на две ставки. Одна из моих обязанностей заключалась в командовании сторожевой заставой, мотострелковыми и разведывательными подразделениями. Вторая – подразумевала мое участие в операции Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР по подготовке вывода наших войск из Афганистана. Именно ко второй работе меня и готовили последние полтора года. И трудно сказать, какая из них была основной. Но зарплату мне почему-то платили только за работу командира, а не разведчика.
По своей второй работе мне приходилось регулярно общаться с Шафи (агентурный псевдоним – «Кази» («судья»)), выпускником Оксфордского университета, бывшим преподавателем Кабульского политехнического института и близким другом своего бывшего студента, а в то время – главаря одной из крупнейших группировок моджахедов Ахмада Шаха Масуда.
Оказалось, что Шафи был не совсем обычным афганцем. Его дальние предки когда-то давным-давно жили в Читральской долине на территории нынешнего Пакистана, но в конце XIX века перебрались на северо-восток Афганистана. И были потомками воинов Александра Македонского, которые сумели сохранить до нашего времени знания и традиции Древней Эллады.
Прошло довольно много времени, прежде чем я догадался, что сбор информации о знаниях и традициях этого племени был моей третьей работой. Хотя, возможно, что и не самой главной. Просто наше Главное разведывательное управление было в те годы действительно уникальной организацией, которая собирала по всему миру не только военные секреты, но и все, что считало нужным и полезным для нашей страны и нашего народа. А также умело использовало полученную информацию.
Как гласит одна старинная поговорка, «удача сопутствует смелым». Я убежден, что кроме смелости не лишним бывает и счастливый случай. Для меня таким счастливым случаем стало то, что в середине сентября 1986-го года душманы2 обстреляли нашу батальонную водовозку, привозившую воду к нам на заставу на Тотахан (гора с отметкой 1641 м в окрестностях Баграма). Несколько дней нам пришлось носить и возить воду с речки, протекавшей у подножия горы. Мы старались кипятить эту воду, но сказывалось высокогорье, закипала она плохо. И мы постоянно мучились животами.
Двадцать четвертого сентября 1986 года ночью у меня резко поднялась температура. Меня отвезли в Баграмский инфекционный госпиталь. Диагноз, который там поставили, был довольно распространенным для Афганистана – брюшной тиф.
Неделю я провалялся в реанимации, пережил клиническую смерть. А буквально через пару дней после того, как меня перевели из реанимации в обычную палату, в коридоре я встретил своего ротного. В голубой пижаме, с характерным желтоватым оттенком кожи и желтыми глазами. Оказывается, его привезли в госпиталь почти сразу же после меня.
Ротный настоятельно порекомендовал мне срочно вернуться на заставу. В роте у нас была нехватка офицеров. На моей заставе за старшего остался командир станции радиоперехвата – прапорщик, прикомандированный к нашей роте. Если душманы попытаются напасть на заставу, ей кранты. К тому же в ближайшие дни в нашем районе планируется серьезная войсковая операция. Поэтому кому-то из нас двоих нужно покинуть госпиталь досрочно. Нетрудно было догадаться, на кого пал выбор ротного.
У меня была высокая температура. Слабость валила с ног. По словам врачей, мне нужно было вылежать еще не менее трех недель. Но ничего не поделаешь: раз надо, значит надо. Через пару дней я сбежал из госпиталя. И так получилось, что именно брюшной тиф и стал для меня тем самым счастливым случаем.
Для налаживания контактов с Шафи меня обучали азам медицины. Тому, чем он занимался всю свою жизнь. Дело в том, что в нашей работе очень важны не только официальные, но в первую очередь – личные связи и доверие друг другу. Шафи был близким другом Сан Саныча, но это не было гарантией того, что он согласится работать со мной. Уверенности в этом у моих командиров тоже не было. Как говорится, Восток – дело тонкое. Но помог брюшной тиф.
Когда я вернулся на Тотахан, то выглядел как узник немецкого концлагеря – кожа да кости. За несколько дней в госпитале сбросил более двадцати килограммов и при росте в 180 сантиметров весил чуть больше 40 килограммов. Передвигался с большим трудом и очень быстро уставал.
Именно тогда я сделал еще одно маленькое открытие: в таком виде налаживать контакты с нужными людьми лучше всего. И я не ошибся. Шафи с первых же дней после моего возвращения из госпиталя занялся моим лечением. Вскоре мы были с ним уже настоящими друзьями. А еще через несколько месяцев он стал и моим наставником.
Но до этого было еще далеко. Пока же лечение Шафи заключалось в том, что меня кормили вкусной, здоровой и очень полезной едой. А в промежутках между приемами пищи Шафи рассказывал мне занятные истории о своем необыкновенном племени, традициях и обычаях своих соплеменников, их культе ремесел и творчества. И о многом, многом другом (подробнее об этом можно прочитать в моем романе «Тайны Афганистана»).
Такая методика лечения мне нравилась. Уж что-что, а повеселиться я всегда любил. Особенно поесть. И не случайно говорят: мы – то, что едим. А потому очень важно есть вкусную, полезную и здоровую пищу. Не только для того, чтобы выздоравливать. И не только для того, чтобы жить долго. Но в первую очередь чтобы самим становиться лучше. И жить счастливо.
А еще мне кажется, что мы – это не только то, что мы едим. Но еще и то, что и как мы думаем. Потому что рассказы Шафи были не просто интересными, но они учили мечтать и действовать. А значит, тоже обладали сильным целебным эффектом.
В общем, на ноги Шафи меня поднял довольно быстро. Даже быстрее, чем я того хотел: была бы моя воля, я бы еще чуток поленился. Хотя на самом деле быстрее, чем Шафи, на ноги меня подняла моя служба. Нужно было срочно разрабатывать новую систему управления огнем заставы, чтобы прекратить обстрелы душманами из нашей зоны ответственности штаба дивизии, баграмского аэродрома и наших застав. Бывали дни, когда на одну только мою заставу прилетало до семидесяти реактивных снарядов. А уж о минометных обстрелах и обстрелах из стрелкового оружия и говорить не стоит. Все они приводили к потерям среди нашего личного состава. А я дал себе слово, что не только сам, но и все мои подчиненные вернутся с этой войны живыми. И одного слова было мало, его нужно было подкреплять делами. Как учил меня в детстве отец: мысль – слово – дело!
Для этого нужно было не только совершенствовать инженерное оборудование нашей заставы и систему огня, но и быстро учиться военному делу, думать за себя и за противника. И направлять его усилия в нужное нам русло.
Вскоре я сообразил «привязать» дирекционные углы танка, миномета и боевых машин пехоты к трубе зенитной командирской, стоявшей у нас на заставе на первом посту. Это сразу же повысило эффективность нашего огня, как днем, так и ночью.
Большой проблемой было то, что душманы выбирали места запуска реактивных снарядов по нашим заставам, штабу дивизии и баграмскому аэродрому вблизи от мирных кишлаков. Обстрелы обычно проводили ночью. Когда первые снаряды улетали к цели, душманы уходили в безопасное место. И наш ответный огонь по ним был не слишком эффективен. Но в случае попадания по мирному кишлаку мог доставить кучу проблем.
В военном училище преподаватели тактической подготовки не раз говорили нам, что нельзя «играть» по правилам, придуманным противником. Нужно навязывать ему свои. А преподаватели политэкономии часто повторяли тезис о том, что экономика определяет политику. А война – это продолжение политики другими средствами.
Поэтому, когда я смог собрать нужную мне информацию о главарях местных банд, ответный огонь мы стали открывать не по местам, откуда по нам производились пуски реактивных снарядов (и где никого уже не было), а по различным объектам, находящимся в личной собственности главарей банд. Расход наших боеприпасов при этом сократился, как и количество обстрелов душманами наших застав, баграмского аэродрома и штаба дивизии из зоны нашей ответственности. И что было очень важно лично для меня – не только на моей заставе, но и во всей нашей роте больше не было потерь.
В конце декабря в очередной отпуск уехал командир отдельного разведвзвода, начальник разведки нашего батальона Толя Викторук. И на время отпуска мне пришлось принимать его разведвзвод.
За всеми этими делами и заботами выяснилось, что любая серьезная задача на войне не менее эффективна для скорейшего восстановления после ранений и болезней, чем хорошее питание и интересные рассказы. А все вместе они с необыкновенной легкостью творили настоящие чудеса. Так что, командуя разведвзводом, я довольно быстро восстановился после тифа. Хотя ходить мне еще было тяжело.
В феврале 1987 года мой разведвзвод попал в засаду. Выбираться из нее нам пришлось через минное поле, установленное нашими саперами и вертолетчиками. Одна из духовских пуль попала в мину-лепесток буквально в нескольких сантиметрах от моего лица. Позднее фельдшер нашего батальона, прапорщик Любовь Ивановна Зернова выковыривала осколки этой мины у меня из лица. И говорила, что ехать в медсанбат смысла нет – все равно рентген пластмассовые осколки не обнаружит. А через несколько лет они вылезут и сами. Думаю, что истинная причина была не в этом, а в том, чтобы в медсанбате нам не пришлось объяснять, по чьей вине мы попали в эту засаду.
Понятно, что ни о каком медсанбате речь не шла. На кого бы я оставил своих разведчиков? Тем более что ранение действительно было пустяковым. Правда, оставшиеся осколки потом вылезали довольно долго (осколок из правого глаза врачи извлекли только после моего возвращения из Афганистана, а последний вылез из верхней губы лет через пятнадцать). Но если не обращать на них внимания, то они действительно особых проблем не доставляли. Хотя осколок, сидевший в верхней губе, позднее здорово мешал мне целоваться с красивыми девушками.
Первое время мои самостоятельные занятия медициной в Афганистане ограничивались обычными перевязками, накладыванием жгутов да экспериментами с французскими медикаментами, целый ящик которых мне подарили ребята из баграмского разведбата. Сказали, что эти лекарства пригодятся мне в небольшом лазарете, который я открыл в соседнем кишлаке, неподалеку от своей заставы. Лекарства эти были скрытой формой благодарности за то, что на одной из совместных операций мой разведвзвод здорово выручил их третью разведывательно-десантную роту.
Вскоре мне пришлось вытаскивать осколок гранаты РГД-5 у себя из плеча и сделать парочку более серьезных операций: достать пулю из стопы кочевника-пуштуна, перебинтовать раненого дехканина и вылечить верблюда из соседнего кишлака. Из операционных инструментов у меня были тогда самодельный нож и небольшой пинцет. А из лекарств – таблетки стрептоцида, которые я чудесным образом с помощью рукоятки ножа превращал в волшебный порошок. И обычный йод. Хорошо, что с бинтами проблем не было.
Из обезболивающего – только один тюбик промедола, который мне пришлось разделить между двумя своими пациентами (понимаю, что это неправильно, но другого выхода у меня просто не было). Позднее мне приходилось делать некоторые операции уже без обезболивающего. Перед операцией я заставлял своих пациентов сходить в туалет по-маленькому в пустую консервную банку. После операции промывал рану этой мочой. И обильно засыпал ее стрептоцидом. Дальше были нужны уход за пациентом и регулярная смена бинтов. И надежда на то, что все у нас получится.
Да, хирург из меня был еще тот. Все-таки специальных медицинских знаний мне катастрофически не хватало. Но, как ни странно, мои первые хирургические опыты прошли вполне успешно. Настолько успешно, что, когда я лечил главаря одной из местных банд после осколочного ранения, мне пришлось оставить в его охотничьем патронташе патрон-сюрприз, начиненный порохом из основного заряда 82-миллиметровой мины, дабы вскоре исправить результаты своего слишком успешного лечения.
Самое удивительное, что никто из моих пациентов не умер у меня под ножом. Ни у кого из них не началась гангрена. И все они вскоре поправились. Кроме того самого главаря моджахедов, который позднее погиб от несчастного случая на охоте. Но это был правильный несчастный случай – с первого дня своего пребывания на заставе я обучал местных душманов одному простому правилу: убивать шурави3 нельзя. С теми, кто не усваивал это правило, обычно и происходили несчастные случаи.
Разумеется, я не должен был делать все эти хирургические операции. И мне очень сильно повезло, что они прошли успешно. Но у меня не было выбора. Как не было выбора и у тех, кто обращался ко мне за помощью. Как и предупреждал меня Сан Саныч, с медициной в Афганистане тогда было туго. Далеко не все простые дехкане могли обратиться в больницу за помощью. И уж тем более душманы. А, по моим наблюдениям, душман, вылеченный шурави, после выздоровления оставался душманом не более чем наполовину. А на вторую половину становился мирным дехканином, от которого можно узнать много полезного.
Ближе к замене на одной из операций осколками реактивного снаряда мне перебило обе ноги. Когда меня привезли в медсанбат, хирург сказал, что их придется ампутировать. В Афганистане я почему-то боялся не столько погибнуть, сколько наступить на мину (мины – настоящая беда для войсковых разведчиков, которым часто приходится работать в таких местах, где этого «добра» в избытке). Боялся остаться без ног. Точно так же, как в детстве, боялся получить травму позвоночника. И в результате получил ее. Вот и сейчас… Похоже, наши страхи часто материализуются.
В общем, настроение у меня было тогда совсем никакое. И в этот момент в палату, в которой я лежал, вкатилось «тело» в больничной пижаме, на кресле-коляске, без ног. И начало рассказывать какие-то новости и анекдоты, шутить и подкалывать меня и моих соседей по палате – чтобы мы не кисли и не хандрили.
Если бы не этот неизвестный мне человек в больничной пижаме, скорее всего, я пустил бы все на самотек. И остался бы ждать операции. Но словно какой-то волшебный пендель заставил меня встряхнуться. И начать цепляться не столько за жизнь, сколько за сохранение своих ног.
На следующее утро, еще до подъема, я решил проведать нашего гостя. Чтобы сказать ему спасибо и попрощаться. Оказывается, он лежал в соседней палате. Когда я на костылях зашел туда, то впервые увидел, как могут плакать мужчины. Это не была истерика, но слезы текли отовсюду – из глаз, из носа. Он размазывал их по всему лицу и не мог остановиться. Просто ночью ему приснилось, что он бегал на своих ногах…
Пришлось основательно его встряхнуть и сказать все, что я о нем думаю. А потом обнять и долго-долго сидеть с ним рядом. Разговаривая ни о чем. Мечтая о том, что все лучшее у нас еще впереди. И что оно обязательно будет.
Он был сержантом-разведчиком. Во время одного из рейдов спрыгнул с боевой машины пехоты не в колею, а сбоку от нее, чтобы сходить в туалет по-маленькому, и наступил на мину. Обычно в незнакомых местах мы старались ходить по-маленькому прямо с брони. Но не все – многим мешало наше дурацкое воспитание. А мягких пластиковых контейнеров для этих целей, «встроенных» в комплект полевого обмундирования, которые были бы совсем нелишними для разведчиков, пехотинцев и водителей, похоже, до сих пор не изобрели.
Я так и не узнал, как звали того сержанта. Но до сих пор благодарен ему за то, что он заставил меня бороться.
В то же утро прямо в пижаме я перемахнул через забор медсанбата. Год назад мне точно так же пришлось бежать из инфекционного госпиталя, который находился по соседству с медсанбатом. В тот раз мне повезло больше – на стоянке я заметил бронетранспортер4 из нашего батальона. Сейчас там было пусто. Пришлось ковылять до станции очистки воды, на которой постоянно заправлялась водой наша батальонная водовозка. На этой водовозке я добрался до командного пункта батальона, оставил там свои костыли, переоделся у своих разведчиков в чью-то старую форму, взял у ребят две гранаты Ф-1 и пешком ушел к себе на Тотахан. Вдоль реки Барикав это было немногим более трех километров. В хорошие годы минут на пятнадцать бега трусцой. К сожалению, тогда у меня явно было не самое лучшее время в жизни. А потому на эту дорогу ушло больше часа.
Представляю, в какой панике были все местные душманы. Вид бредущего с черепашьей скоростью одинокого советского офицера явно не укладывался в их привычные стереотипы. Да, для такой хромоножки, как я, пройти эту дистанцию было почти что подвигом. А для офицера – глупостью, граничащей с самоубийством. Хорошо еще, что я не взял с собой костыли, – они были бы как красная тряпка для душманов, которые при виде их явно уделили бы мне гораздо больше своего внимания. Но мне было не до того, чтобы оценивать свои поступки и думать о каких-то душманах. Я поднялся на выносной пост. От него по тропинке – на вершину Тотахана. Часовой смотрел на меня как на пришельца с того света.
Я не знал, что делать дальше. Вся надежда у меня оставалась только на Шафи. На его врачебные навыки и, может быть, на какое-нибудь волшебство. Потому что больше надеяться мне было не на кого и не на что.
2 Душман – в Средней и Южной Азии в XX веке член вооруженной террористической национальной (обычно мусульманской) группировки; противник, враг. Также переводится как «разбойник».
3 Шурави – советские военнослужащие.
4 Бронетранспортер – бронированная транспортно-боевая машина для транспортировки личного состава, его материальных средств и эвакуации раненых и пораженных.
Глава 11. Традиции его племени
Да, Шафи был очень хорошим врачом, но не волшебником. Почти месяц он делал мне перевязки, использовал какие-то свои чудодейственные мази. Но они почему-то не помогали. Раны на ногах продолжали течь и никак не хотели заживать. Мне казалось, что все бесполезно. И все это время я по своей дурости не писал писем домой. Не знал, что писать. За этот месяц моя мама поседела. Никогда не прощу себе этого.
Но зато у меня появилась прекрасная возможность нормально пообщаться с Шафи. Он часто рассказывал мне о своем племени, пришедшем в далекой древности под руководством своего вождя Александра Македонского в Индию, а в конце XIX века перебравшемся в Афганистан. О племени, сохранившем и преумножившем знания и традиции Древней Греции эпохи ее расцвета. Когда люди сами творили свою судьбу. Рассказывал об оздоровительной системе, благодаря которой его соплеменники жили почти вдвое дольше, чем их соседи. И болели крайне редко.
О том, что за последние двадцать четыре века они ни разу ни с кем не воевали, а все сложные конфликтные ситуации разрешали путем переговоров. Когда же договориться не получалось, использовали силу соседних, договорных племен.
Что самой большой ценностью считали жизнь каждого из своих соплеменников. Были помешаны на ремеслах и творчестве. И очень много внимания уделяли обучению и воспитанию детей и подростков.
Основой обучения и воспитания подрастающего поколения у них служили три направления: массаж (в семьях он делался практически ежедневно), воинское искусство (девочек учили наравне с мальчиками) и собственно оздоровительная система.
При этом у оздоровительной системы не было никаких звучных или красивых названий. Скорее это были привычный образ жизни и традиции. Шафи же после окончания Оксфорда много лет проработал в Японии и Китае, собирал оздоровительные методики по всему миру. И если для его соплеменников название их оздоровительной системы было абсолютно неважно, то для своих учеников ему пришлось придумать ей наименование. Он назвал ее Тай-до или Тай-дао.
Традиционным в этой системе Шафи считал понятие «Ни Тэн» (в переводе с японского – «Два Неба»). Но чаще этот термин он не переводил дословно, а использовал как некую философскую идею наличия иного пути. Или как истину, озвученную когда-то легендарным Миямото Мусаши: «Нет одного верного пути». К цели.
Шафи часто повторял, что к выздоровлению ведет не одна тропинка, а множество. И только объединившись, они могут привести тебя к исцелению.
Поэтому путь в оздоровительной системе Тай-до представляется направлением, объединяющим девять главных и бесконечное множество второстепенных тропинок. Каждая из них может как привести к исцелению, так и завести в непроходимые джунгли, в которых легко потерять из виду солнце, направление движения и погибнуть.
А потому на этом пути нужен хороший проводник. Или верная путеводная звезда. Если же их нет, то понадобится хотя бы смелость не только сделать первый шаг, но и дойти до своей цели.
Первая тропа в этой системе называется тропой Обезьяны. Ее главное содержание – движение, гимнастика, утренняя физическая зарядка, физический труд (по мнению Шафи, среди бездельников не бывает долгожителей), небольшая двигательная разминка после каждого часа сидячей работы.
Вторая – тропа среди Скал. Это работа с неподвижными предметами. Статическая гимнастика, направленная на укрепление связок и сухожилий. При этом обязательный контроль дыхания.
Третья – тропа Тростника. Ее основу составляют декомпрессионные движения, направленные на растяжение позвоночника. Различные висы и плавание. Если же у вас нет под рукой перекладины или бассейна, тогда стоит приучить себя сладко потягиваться, просыпаясь утром. И никогда не забывать о том, что утро нужно обязательно начинать с улыбки. Ведь тростник всегда улыбается, когда тянется к солнцу (жизненный оптимизм).
Четвертая – тропа Лианы. Упражнения на гибкость, повороты в разных плоскостях. В том числе одновременно с приседаниями.
Пятая – тропа Путника. Рекомендуется ежедневно проходить пешком не менее двух-трех километров. Но ходить не просто так, а к своим любимым местам или любимым деревьям. К новым знаниям, новым встречам и новым открытиям.
Шестая – тропа Луны. Вы должны танцевать. Хотя бы два раза в неделю. Можно дома, можно в одиночестве. Но есть и более приятные формы танца, и более интересные места, чем дом. К тому же для танцев существуют еще и партнеры.
Седьмая – тропа Солнца. Солнце заглядывает не только в ваши окна, но и в окна ваших друзей. Так и вы должны ходить в гости к своим друзьям. Вы будете употреблять там те же самые продукты, что и дома, но приготовлены они будут немного иначе. Вы будете есть и то, что дома бы не стали. Это позволит значительно расширить диапазон микроэлементов, получаемых вами из пищи. А значит, увеличит ваш запас прочности и поднимет настроение вам и вашим друзьям.
Восьмая – тропа Аиста. Нужно встречаться со своими возлюбленными. Заниматься с ними любовью (кстати, тут могут пригодиться ваши навыки массажа). Рекордов здесь ставить не надо, просто дарите друг другу радость и наслаждение. Занимайтесь этим так часто, как только захочется, когда и где захочется. И будьте счастливы.
Девятая – тропа Дракона. У дракона три головы: свет, вода и воздух. Они должны быть и вашими спутниками. Старайтесь как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Не забывайте, что человеку обязательно нужен солнечный свет. Чаще бывайте рядом с водой. Можно принять ванну или совместный душ, омыть руки или просто созерцать водные струи. Пусть ваша утренняя чашка чая превратится в небольшое озеро. Возможно, вы и не увидите в нем отражения луны и звезд. Но добиться того, чтобы водная гладь в этом озере была спокойна, вы в силах. Нужно лишь успокоиться самому. И освоить правильное дыхание.
Шафи часто говорил мне, что мы должны учиться рисовать (развивать мелкую моторику). И обязательно петь. Рассказывал, что в Японии очень распространена звуковая гимнастика. Утром перед завтраком громко и с выражением шесть-семь раз произносятся гласные О, У, Ы, И. Они довольно трудны в произношении, поэтому требуют напряжения голосовых связок. Работа последних вызывает прилив крови к капиллярам гортани, а антитела в крови уничтожают вредоносных микробов на ее стенках. Как известно, большинство микробов попадает в организм человека именно через гортань. Звуковая гимнастика позволяет установить перед ними достаточно эффективный барьер. Кстати, это одна из причин того, почему японцы так редко болеют острыми респираторными заболеваниями.
А еще Шафи был уверен, что, кроме девяти главных тропинок, есть еще несколько не менее важных.
Есть тропа Знаний. И нужно всегда заставлять свой головной мозг работать. До самого последнего дня своей жизни. Читать книги, разгадывать кроссворды, тренировать память. Это единственный и наиболее эффективный способ укрепления сосудов головного мозга, а значит, и наиболее эффективная защита от инсульта.
Есть тропа Сокола. Это гимнастика для глаз. К примеру, концентрация внимания на разноудаленных предметах: цветке на подоконнике – дереве на улице. «Рисование» глазами различных фигур.
На самом деле тропинок этих бесконечное множество, говорил Шафи. Путь безграничен и бесконечен. И счастлив тот человек, который сможет объединить в своей душе это множество, найти в пути гармонию и равновесие. Тогда и душа его станет бесконечной, как космос. И светлой, как солнце.
От бесед с Шафи веяло чем-то восточным, экзотическим. Он рассказывал мне о вещах, которые все мы прекрасно знаем, хотя кое-что, конечно же, забыли. Он обучал меня семейному массажу. И приучал находить нестандартные приемы лечения, когда стандартные не помогают. Мне нравилась эта идея нестандартных решений. Позднее она будет часто выручать меня в работе военного разведчика и диверсанта.
Тогда я еще не понимал, насколько эффективна и уникальна эта система. И что когда-то в древности такая же система наверняка была и у нас, у славян. Но мы почему-то ее утратили. Или забыли. Или нас заставили ее забыть.
К сожалению, несмотря на все эти знания и врачебный опыт, вылечить мои ноги у Шафи тогда так не получилось. Наверное, так бывает и у самых лучших докторов.
На протяжении еще нескольких лет кожа над берцовыми костями, в тех местах, куда попали осколки, периодически расползалась и несколько дней шла сукровица. Потом все зарастало. До следующего раза. И почти семь лет после Афганистана мне частенько приходилось ходить с тростью.
Глава 12. Контузия
Так уж получилось, что ко времени своей поездки в Афганистан я не мог похвастаться богатырским здоровьем. За двадцать шесть месяцев службы в этой стране, кроме брюшного тифа, список моих болячек пополнился лихорадкой, касательным ранением ног, несколькими осколочными ранениями, новой трещиной лучевой кости. На трапециевидной мышце спины на всю жизнь остался небольшой бугор, размером почти в спичечный коробок, – в память о пуле, попавшей мне в бронежилет. А ночь, проведенная вместе с моими разведчиками в снегу на Панджшере, «подарила» мне двустороннюю пневмонию.
Для городских ребят и диванных аналитиков все эти болячки и царапины могут показаться довольно экзотическими. Для тех же, кто воевал в Афганистане или на Северном Кавказе, все это было делом обычным. У многих список заработанных болячек и царапин куда богаче моего. К сожалению, войны мало прибавляют здоровья тем, кому пришлось воевать не в штабе, а на передовой.
Но самой большой проблемой для меня в Афганистане была контузия, полученная во время операции под Алихейлем в июне 1987 года, когда я командовал отдельным разведвзводом 1-го (рейдового) мотострелкового батальона. Задача у нас была не самая сложная – почти месяц мы должны были просидеть на горках вдоль пакистанской границы. Чтобы афганские пограничники за это время смогли оборудовать за нашими спинами свои укрепрайоны и перекрыть Великий шелковый путь.
Действительно, не самая сложная задача. Сиди себе на горке, окапывайся, да не подпускай душманов к себе слишком близко. На наших соседей, полковую разведроту 345-го парашютно-десантного полка, они периодически ходили в атаку. Средь бела дня. Снизу – вверх. Иногда ходили удачно. И нашей полковой разведроте приходилось помогать десантникам отбивать горку у духов.
А нашу горку душманы просто обстреливали. Но с настоящей маниакально-депрессивной настойчивостью. В первые дни на позиции моего разведвзвода прилетало тринадцать реактивных снарядов за четыре минуты. С 6 часов утра до 6 часов вечера. Без перерывов на завтрак, обед и полдник. Позднее душманы подтянули 82-миллиметровый миномет и 76-миллиметровую горную пушку. Жить стало еще веселее. Но зато реактивными снарядами обстреливать нас стали гораздо реже.
В то время мои разведчики пытались на слух определить, куда прилетит очередной реактивный снаряд. Будет ли недолет, перелет или РС попадет точно по нашим позициям. И в зависимости от этого принимали решение, что делать дальше – пижонить или ныкаться по окопам.
Я их понимал: когда устаешь бояться, остается только пижонить. Но лучше – ныкаться! Сам был таким. Однажды, перебегая через небольшую полянку, слишком поздно услышал звук подлетающего снаряда. В результате добежать до ближайшей воронки я не успел. Пришлось залечь на открытом месте.
Говорят, что снаряд не попадает дважды в одну воронку. Интересно, что за умник придумал эту чушь? Снаряд попадает туда, куда захочет.
В этот раз он попал именно в ту воронку, до которой я не успел добежать. Благодаря этому осколки ушли вверх и меня не задели. Но разрыв снаряда в паре метров от моей головы на всю оставшуюся жизнь подарил мне незабываемые ощущения, превратившиеся в дальнейшем в приступы сильнейшей головной боли.
Говорят, что сейчас есть какие-то волшебные средства от контузии. Достаточно лишь пару раз в год полежать в госпитале, проколоть какие-то лекарства – и будет тебе счастье. К сожалению, я не очень большой любитель лежать в госпиталях. И добровольно нашим очаровательным врачам старался никогда не сдаваться. Просто как-то не везло мне с лечением. И чтобы не залечили меня до смерти или не отрезали что-то лишнее, приходилось регулярно от них сбегать. Так что чаще всего доставался я врачам лишь в качестве почетного трофея – в бессознательном состоянии.
Обезболивающие мне тогда не помогали. К счастью, мне хватило ума не замещать их спиртным. К тому же я не курил. Почему-то думал, что это лишнее, а в Афганистане и вредное – местные жители запах табака чувствовали издалека, и это могло погубить многих из нас.
Помог мне тогда Шафи. Он посоветовал регулярно делать массаж плеч, шеи и головы. А еще показал мне, где находится биологически активная точка Хэ Гу. Условно – в центре треугольника, образованного на кисти руки «продолжением» большого и указательного пальцев. По его словам, эта точка отвечает за общеукрепляющее действие на организм. И ее массаж (после массажа шеи и головы) должен был мне помочь. Но главное – Шафи посоветовал мне больше времени находиться на свежем воздухе. И как можно чаще бывать на природе, вдали от шума больших городов.
Это были хорошие, к тому же легковыполнимые советы. Ведь последние два года я только тем и занимался, что находился на природе, на свежем воздухе и вдали от больших городов. Правда, иногда рядом со мной бывало довольно шумно. Особенно при обстрелах.
Но массаж, который делал мне Шафи, а позднее его дочь Лейла, действительно был чудодейственным. Мне становилось легче. И как-то само собой получилось, что я начал массировать точки Хэ Гу на своих руках.
Шафи частенько говорил: «Посеешь привычку – пожнешь характер. Будешь сеять хорошие привычки – получишь хороший характер». Насчет характера я не уверен. Но разминание рук в области точки Хэ Гу, действительно, вскоре вошло у меня в постоянную привычку.
Головные боли еще долго преследовали меня. Но уже не были такими нестерпимо сильными.
Глава 13. Когда села батарейка
Во время службы в Афганистане я получил указание от своего шефа Сан Саныча подтянуть английский язык. Сделать это было несложно. Благо в училище я занимался на курсах военных переводчиков. А на заставе вместе со мной проходил службу старший лейтенант Олег Артюхов, выпускник школы с углубленным изучением английского языка, который был рад помочь мне в этом.
В дальнейшем планировалось отправить меня в одну из далеких стран, в которой говорили на английском. Перед этим я должен был пройти переподготовку в Краснознаменном Среднеазиатском военном округе. Но в это время началось «горбачевское» сокращение Вооруженных Сил, и моя командировка не состоялась. К тому же все переводы офицеров между военными округами в то время были прекращены. И в результате я на пару месяцев завис в разведуправлении округа.
К счастью, благодаря настойчивости моего друга Володи Черникова вскоре я получил вызов в свое родное училище на должность командира курсантского взвода. Через полгода меня назначили командиром курсантской роты. Служба в училище мне нравилась. Тем более что мне всегда везло на командиров и подчиненных. А ребята в училище были замечательные. Но неожиданно выяснилось, что воевать – это одно, а вот служить в мирное время – совсем другое.
Буквально через две недели после моего приезда на занятиях по командирской подготовке мне пришлось сдавать кросс на три километра. В курсантские годы это была моя любимая дистанция. В спортвзводе я пробегал три километра менее чем за одиннадцать минут. Но это было давным-давно. Еще в прошлой жизни.
В этот раз я пробежал дистанцию минут за двадцать. Думается, это стало абсолютным рекордом нашего училища по бегу на три километра среди черепах. Я понимал, что после перенесенного тифа, с перебитыми ногами едва бы смог показать хорошее время. И очень надеялся, что в ближайшие месяцы смогу вернуть себе былую спортивную форму.
Но оказалось, что наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Бегать на зарядке с курсантами у меня не получалось. Не хватало ни дыхания, ни сил. Снова открылись раны на ногах. Начал напоминать о себе позвоночник. А вскоре и ходить мне стало трудно.
Начальник училища генерал-лейтенант Александр Сергеевич Носков предложил мне перейти с командной должности на должность, связанную с меньшим объемом физических нагрузок. Так я попал на военную кафедру Московского инженерно-физического института. Бегать здесь было не нужно. Но и ходить я уже практически не мог: с позвоночником стало совсем худо.
В эти дни ко мне домой приехал отец – решил помочь с ремонтом. Хотя ни о каком ремонте я тогда и не думал, но вдвоем мы обшили самодельной вагонкой прихожую.
Наверное, я больше мешал ему, чем помогал. Помощник из меня тогда был никудышный. Стоять долго я не мог, да и сидеть долго у меня тоже не получалось. Долго тогда я мог только лежать.
Я попросил отца перенести электрические выключатели пониже, на высоту примерно 70 сантиметров от пола. Отец долго не соглашался, говорил, что так никто не делает. Что над ним будут смеяться, если узнают об этом.
Забавно, вскоре выяснится, что за границей давно уже так делают, но мы тогда этого не знали. А я не знал, как объяснить ему, что большую часть времени передвигаюсь по квартире ползком и выше мне просто не дотянуться. Но отец как-то сам об этом догадался. И сразу же сник. А потом отвернулся к окну, чтобы я не успел заметить, как предательски заблестели его глаза.
