Остров Марго
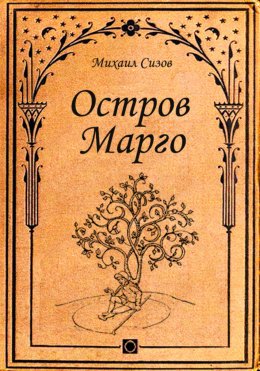
ПРЕДУВЕДАНИЕ
Ритке Фёдоровой из п. Золотец 70-х годов ХХ века
- …нет закона
- во изначальном бытии —
- как нет в бурлении бульона,
- иль в разноцветье конфетти,
- иль в лепете галиматьи
- чеканных форм и смыслов.
- Присно
- и в века веков
- сей хаос сам себе законодавец.
- Хотя… свеча стекает на поставец,
- и всяк ничтожный клоп, всяк самозванец
- златой печаткой воск текучий
- давит.
- И вот своим он миром правит —
- царит над оттиском, он царь могучий!
– Ха-ха-ха! – разнеслось над пустынным берегом: – Царь могучий!
Слова того кривляки горели в голове. Зачем он вспомнил о нём? Эта образина только отвлекает – насмехается и отвлекает, сбивает с мысли. А решение задачки есть. Надо только спокойно подумать, отрешившись от проникающего в душу ужаса.
Марк сел на землю, зарыл ладони в тёплый песок. Он был на маленьком острове посреди океана. Он – песчинка в пустоте. Неужели всё было напрасно? Кровь на камнях и на снегу, его безумный побег из НИИ УП… Нет, он спасёт всех! И Риту, и всех-всех, кого ещё помнит.
КНИГА ПЕРВАЯ. НЕ УБОИСЬ УЗНАТЬ
Глаза и камешки
– Деда, а ты давно живёшь?
– Здесь таких вопросов не задают, Маркуша. А живу… я уж и себя-то не помню.
– Деда, а как ты себя не помнишь? Может, ты старый-старый потомок себя?
– Дай подумать. Нельзя быть сыном самого себя, а потомком… почему нет? Потомки – это кто появится потом. Мы все в далёком потом станем другими, хотя останемся теми же. Вот был у меня дружок, так он вообще рождался заново, такая творилась чертовщина. С него-то всё и началось… Ты, это, сильно червяка не сжимай.
– А почему он корчится? Ему больно? – мальчик поднёс к глазам жирного кольчатого червя.
– Они слепые, поэтому извиваются, чтобы землю свою найти. Мы же их из земли вытащили. А больно… не знаю, Маркуша. Ты сильно пальчиками не дави, легонько так… и насаживай. Молодец. А теперь поплюй.
Марчик старательно сплюнул на крючок с червём и, подражая деду, мотанул удочкой, закидывая наживку в воду. Затем уставился на поплавок. Молчать долго он не умел:
– Деда, а они настоящие?
– Кто?
– Червяки.
– Так ты уже спрашивал.
– А сейчас они настоящие?
– Что же с ними сделается? Как были настоящие, так и остались.
– Деда, а рыбы настоящие?
– Вот поймаем и посмотрим. Ты помалкивай, а то улов спугнём…
Старик и восьмилетний мальчик сидели на берегу небольшого круглого озера и удили рыбу. Это был первый их поход к озеру. Вдруг Марчик вскочил и, едва не выпустив удочку из рук, истошно закричал:
– Ловль!
– Тащи её! – Степаныч тоже вскочил на ноги.
В воздухе сверкнуло что-то серебристое и шлёпнулось в траву. Малыш склонился над трепыхавшейся добычей и разочарованно протянул:
– Игру-ушечная.
– Знамо дело, – поддакнул дед, – они все маленькие, плотвички-то.
– Не настоя-ящая…
– А как ты угадал? Ну, клади в ведёрко свой почин и червяка снова насаживай. Они хоть и боты, а жрут червей будь здоров.
– Деда, а боты это те, кто не настоящий?
– Ну, вроде того.
– А почему боты?
– Так их называют. Это долгая история, – старик сменил наживку на своём крючке и терпеливо продолжил: – Был такой писатель Чапек, который написал сказку про искусственных людей, сделанных на фабрике. А брат его, которого звали Йозеф, придумал им название – «робот», от нашего слова «работать». Этого Йозефа фашисты потом посадили в концлагерь и хотели самого превратить в человекоробота, но он быстро умер.
– Кто это фашисты?
– Люди нехорошие, вроде наших мумми. Тогда не умели делать живых человекороботов, и долго-долго они получались железными и всякими, не похожими на людей, но всё равно название «робот» к ним приклеилось. А потом это слово сократили и получился «бот».
– У меня тоже есть игрушечный бот, он умеет ходить, и мы с ним разговариваем. Только он глупый, а с тобой, деда, интересней разговаривать.
– Ну, спасибо, парень. Они глупые, потому что мозгов у них нету. Вот у этой рыбицы не мозги, а биоэлектроника. Хочешь посмотреть?
Не дожидаясь ответа, Григорий Степанович встал, достал плотвичку из ведра и просунул в её пасть лезвие складишка:
– Не жалко тебе? Всё-таки первый улов. Ну да будет урок…
Вспоров горло, дед разломил рыбью голову надвое и протянул малышу:
– Видишь красненькое? Это вроде как живая материя, сдублированная в креаторе. А в ней белёсые крапинки, скользкие, как пластмасса, – это электроника. Мозги-то скопировать не трудно, да только не работают они, искусственные, вот и вставили туда электронную плату. Есть такая вещь – разум. Он никак не копируется внутрь ботов, потому что сущее не копируется. Ну, вырастешь, сам узнаешь.
После первого улова пошёл клёв. В ведре били хвостами уже не только плотвички, но и круглые, как блюдца, подлещики. Марчик выгадал момент и снова подступил с вопросами:
– Деда, расскажи про ботов. Они зачем нужны? Чтобы с ними играть?
– Типа того. Вот мы их сейчас ловим, например. Интересно же? Да ты поглубже червяка насаживай, чтобы крючка не было видно… Ну и для экологии. В озере всякие жучки-паучки водятся, их же надо кому-то кушать. Искусственные рыбы их и кушают.
– Деда, а почему червяки настоящие, а рыбы – боты?
– Рыбы-то подохли все. И кошки сдохли, и собаки, и белочки, и птички – вся живность, которую мы взяли с собой. Инфекция какая-то, но, думаю, они с тоски умерли. Из больших зверей только кроликов да куриц удалось спасти. Мама твоя чего-то мудрит с генами, из кролика собаку хочет вывести. Видел этих ушастых? Нет? И не надо. На собаку похоже, а ум кроличий. С такой на охоту не пойдёшь… Слушай, может нам на кроликов поохотиться?
– А как охотиться?
– Как в древности, с луками и стрелами. Видел их в мультиках?
– Видел, Иван Царевич из лука стрелял. А луки у нас будут настоящие?
– Конечно! Сами смастерим. Но это дело не быстрое – сначала научимся оружие делать, потом потренируемся, пристреляем, затем лицензию… ну, разрешение у твоей мамы попросим на отстрел животных.
– Мама разрешит!
– Надеюсь. Кролики-то быстро плодятся, – дед почесал небритый подбородок, не отрывая взгляда от поплавка. – Из этой рыбы даже ухи не сваришь. Если только пожарить филе, в нём электроники нет. А там мясо натуральное, на костре его зажарим.
Интерес к рыбалке сразу пропал. Стали собираться. Григорий Степанович натянул на босые ноги рыбацкие сапоги, которые во время ловли стояли рядом, и они пошли домой – впереди старик в больших, с раструбами у колен, сапогах и с ведром в руке, а за ним малец с двумя телескопическими удочками на плечах. Старик спросил:
– Слушай, Маркуш, а как ты угадал, что плотвица не настоящая?
– Ты никому не скажешь?
– Обещаю.
– Я это вижу. Вот ты, деда, настоящий, а мама и папа – нет.
– Как же ты видишь? Дабл от человека ничем не отличается.
– Просто вижу.
* * *
Мама запомнилась светлой и тёплой – в бархатистом платье, приятном на ощупь, как и занавеси в её спальне, за которые малыш любил дёргать. Там был ещё огромный комод с разноцветными баночками, расчёсками и фигурками тонконогих зверушек. Вот эти зверушки и забрали маму.
В тот день она не работала в зелёном поле за домом, а пошла туда погулять. И Марчик, очень маленький тогда, был с ней. Зелёная трава почти скрывала его с головой – он опустился на коленочки и пополз, раздвигая перед собой сказочный лес. На травинке он увидел знакомую зверушку. Та не двигалась и была такой же неживой, как на мамином комоде. Марчик тронул пальцем твёрдое тельце, и оно сломалось – из разломившейся спинки что-то выскочило, затрепетало. С изумлением малыш наблюдал, как зверушка оторвалась от травинки и с жужжанием полетела прочь: «Заводной вертолётик! Он играет со мной!» Марчик двинулся на четвереньках вслед за игрушкой и сразу увидел её перед носом, она ползла вверх по стебельку. Но это был уже другой вертолётик, совсем не тот, что улетел – малыш понял это не умом, а почувствовал. Он ощутил жизнь за твёрдым панцирем насекомого, изломчатые ножки которого не просто двигались, а что-то беззвучно говорили. Каждая жизнь разная, нигде не повторяется, и в этом существе – она была своя! Марчик увидел ещё одну зверушку, переползавшую с травинки на травинку, потом другую, и засмеялся.
После прогулки мама накормила Марчика обедом, оставила его в игровой комнате и надолго исчезла. Вернулась она уже другой. Погладила его по головке – и рука была чужая. Мягкая и тёплая, с тем же большим перстнем на пальце, но… не мамина. И вообще не человеческая, а комнатная, как пол и стены, и предметы вокруг. Марчик заплакал. Мама гладила, успокаивала, а он рыдал всё громче. «Киба, включи музыку», – приказала мама, и тут же по комнате расплылся тихий нежный напев. Невидимый кибер, электронный помощник, точно угадал с мелодией – мальчик замолчал. И стал думать. «Я их выброшу, и тогда мама вернётся, – решил он. – Только надо притвориться хорошим, чтобы они не догадались». Марчик взялся за игрушки, потом попросил Кибу показать мультик, после чего долго играл с заводной машинкой. Выждав время, он пробрался в мамину спальню, сгрёб с комода зверушек, отнёс их на кухню и бросил в светящийся на полу круг, куда всегда выбрасывали мусор. Там они канули беззвучно и навсегда.
Конечно, виноваты были они! Холодные мёртвые игрушки – это они отобрали жизнь у мамы, чтобы самим жить, вместо неё. Он видел таких – оживших – в зелёном поле, видел своими глазами! И папа это подтвердил, когда вечером заговорили о зверушках.
В тот вечер был необычный ужин. На столе стояли тонкие красивые стаканы, папа зажёг свечи. Все трое сели за стол, и Марчик вдруг понял, что папа всегда был таким же, какой стала мама – не совсем настоящим. Раньше не получалось различать, а сейчас увидел. Папа налил Марчику в бокал зелёного сока, а маме и себе – прозрачной шипучки с пузырьками.
– Ну, Ленусь, выпьем за твой подвиг. Минус три года, думаю, это стоило того!
– Не за меня, за Марчика, всё ради него, – ответила мама
– Маркус, за тебя! – папа пригубил из своего бокала и посмотрел на сыночка: – А ты чего такой квёлый?
– Он странный сегодня, – сказала мама. – Представляешь, захожу я в спальню, а там моих скульптурок нет. Спрашиваю Кибу, он говорит, это Марчик унёс их в утилизатор.
– Маркус, зачем ты это сделал? Я тебя спрашиваю!
– Не береди его, Серёжа, он уже плакал сегодня. Думаю, мальчик устал. Мы на посев ходили, долго там гуляли.
– Прощалась?
– Я же там начинала, с насекомых. Мы их давно на Планету пересадили, а вот ностальгирую.
– Как же, помню твою нежную любовь. К членистоногим зверюшкам! И чем они тебя пленили?
– Ты не понимаешь… салата положить?
Из сказанного за столом малыш понял только одно: маму и вправду захватили зверушки. Они её пленили! «Когда я буду большой, я всех освобожу», – увиделось Марчику будущее, и это его успокоило. Ещё вспомнилось, как в мультфильме богатырь Синеглазку спасал. Она пряталась от чёрного чудища и попросила речку обратить её в деревце. Вот, превратилась она в деревце, а на ветке осталась висеть синяя ленточка от её расплетённой косы. Увидел ленточку богатырь, сразу всё понял, убил чудище мечом булатным – и деревце снова человеком стало.
Этот мультфильм с чёрным чудищем, похожим на паука, напугал тогда Марчика, но не очень, потому что был нарисованный, как картинки в бумажной книге. Однажды Марчик спросил кибера, почему он такие рисованные мультики показывает, а не те, что мама смотрит – там у неё совсем не картинки, а будто на самом деле. Киберпомощник ответил сухо: «Объёмное изображение не полезно для твоей существимости, Маркус. Плоская графика, механические игрушки, тактильные настольные игры – вот что рекомендовано детям до девяти лет. И старая двумерная анимация как раз входит в этот перечень». Марчик уловил понятное слово и зацепился за него: «Старая. У тебя, Киба, есть только старое?» Кибер, похоже, обиделся: «Нет, Маркус. В меня записано всё культурное наследие человечества. Но ваше сообщество использует речь, образы, понятия только одного исторического периода – до середины двадцать первого века. По мнению ваших креоников, в ту пору человечество ещё оставалось чистым от рассущести, поэтому его можно взять за эталон. Мне дальше объяснять? Ты ничего этого не понимаешь, Маркус, по причине своего малолетства. Поэтому должен просто поверить мне, что я показываю те мультфильмы, которые самые лучшие для тебя. И были лучшие для твоих родителей, и для родителей их родителей».
В тот же вечер – после позднего ужина со свечами – Марчик укладывался спать, и кибер зачем-то вновь заговорил о сущести-рассущести. Вместо сказки перед сном, он начал торжественно:
– Поздравляю тебя, Маркус, с завершением младенчества, которое, благодаря твоей маме, длилось по нынешний день и по общепринятым меркам несколько затянулось. Отныне ты официально вступил в пору взросления, что автоматически запускает учебную практику существимости. Мне доверено направлять тебя в этом и отслеживать результаты. Не бойся, Маркус, ничего страшного тебя не ждёт, а будет даже интересно.
– Что интересно?
– Для начала ты будешь запоминать свои сны и утром мне их рассказывать.
– Ага, Киба, ты хочешь узнать про сны! Я так и знал, что ты никогда не спишь, а сам заставляешь меня спать!
– Это нужно для твоей существимости. Попробую тебе объяснить. Помнишь, я рассказывал тебе про домовёнка Кузю, который в деревенском доме под печкой жил? Когда в доме случился пожар, он в лес убежал. Бежал он, бежал, налетел на огромное дерево и кувырк вверх лаптями. Дерево ему: «Куда бежишь? Почто спешишь?» Кузя отвечает: «А я позабыл, откуда прибежал!» Так вот, когда ты вырастешь, ты тоже попадёшь в лес, в волшебный лес, который называется Эос. И там забудешь себя, кто ты и откуда – рассуществишься, как этот домовёнок Кузя, если не будешь сейчас тренироваться в своих снах.
– А Кузя совсем-совсем заблудился? Он домой не пришёл?
– К счастью, домовёнку встретился Зеленохвостик, который рассказал ему его дорогу: «Ты пробежал мимо сосен Кривобоконькой и Сиволапки, между осинами Рыжкой и Трясушкой, обежал куст Растрёпыш, пободал Могучий дуб – и лапки кверху»*. Узнав имена деревьев, Кузя не пропал в лесу и смог найти обратную дорогу. В будущем ты сам сможешь давать имена и запоминать их, и они станут якорями твоей существимости. А пока что предстоит тебе научиться путешествовать по своим снам. Если сможешь найти дорогу во снах, то не заблудишься и в Эосе.
(* сноска: Из сказки Татьяны Александровой «Домовёнок Кузька»)
– А этот Эос – это сон?
– Нет, он реален. Даже сверхреален. В этом и проблема.
– Киба, а ты мне поможешь?
– Там ты будешь один. А здесь, да, помогу.
– Киба, а давай я буду звать тебя Кузей…
– Логичней было бы назвать меня Зеленохвостиком.
– У тебя нет хвоста, Киба. Будь лучше Кузей, он весёлый.
– Хорошо, Маркус, засыпай. И запоминай всё, что увидишь.
С наступлением «поры взросления» в жизни Марчика ничего не изменилось – не считая того, что он отдалился от мамы, или она от него, что было уже не важно. И ещё вот эти путешествия во снах. Они никак не получались. Каждое утро нудный кибер допытывался у малыша, что ему снилось; понимал ли он во сне, что спит; пробовал ли он руководить своим сном, создавая в нём свои сущности. Так пролетели пять лет, которые ничем не запомнились, как и виденные сны. Мама, всё время пропадавшая на какой-то Планете, иногда возвращалась к прежней работе на полигоне, далеко протянувшемся за их домом, и брала с собой сына. Однажды они ехали на каре в бамбуковую рощу, на самый край дендрария, и увидели бегущего впереди человека. Он был в майке и в смешных больших трусах. Мама прибавила кару скорости и отвернулась в сторону, словно что-то высматривая в мелькавших по обочине камышах, а Марчик замахал рукой незнакомцу. Тот тоже приветственно поднял руку.
– Мама, ты почему отвернулась?
– Дедушка почти раздет, а на старое тело смотреть неприлично. Запомни это.
Почему неприлично? Перед глазами стояла только что виденная картина: сухая вскинутая вверх рука, воздушный пух белёсых волосинок на голове и тёмное пятно пота на майке. Также Марчик заметил, что ноги у этого человека какие-то корявые, в синих прожилках. А ещё у него была борода!
Вечером за семейным ужином мама вдруг вспомнила:
– Серёж, представляешь, мы сегодня деда встретили.
– Георгия Степановича? Он что, выполз из холодильника, или в дабле был?
– Он у нас в дендрарии здоровье поправлял, бегом занимался.
– Значит, в своём теле, даблу-то здоровье ни к чему. Ну, Гриб даёт!
– Говорят, он даблами вообще не пользуется и в Эос не ходит, давно его там не видели. А в холодильнике в буквальном смысле спит, включает анабиоз.
– Ну да. Он же бывший космонавт. Старые привычки.
– По мне, так это сумасшествие!
Марчик, помешивая ложкой горячую лапшичку, подумал: вот почему у старика ноги синие – он их отморозил, когда в холодильнике спал. Но папа говорит, что он космонавт. А все космонавты одеты в скафандры, так в мультиках показывают, как же он отморозил? Может, у него плохой скафандр, с дыркой?
Вскоре этот человек пришёл в их дом. Марчик слышал из игровой комнаты, как гостя встречали родители, потом и сам заглянул в гостиную. Дед в мешковатом костюме, с пёстрым галстуком у шеи сидел в кресле, напротив папы. Оба они дожидались, когда мама приготовит кофе, и молчали. Наконец гость похвалил, как в комнате красиво и сколько в ней аутентичных вещей.
– Не будем, Григорий Степанович, ритуалы разводить. Здесь только одна подлинная вещь, – хозяин дома кивнул на модель парусного корабля, подвешенную к потолку, – её мой предок успел с Земли вывезти. Остальное из креатора. Да ещё у супруги есть комод, он в спальне стоит.
Дед вежливо поцокал, давая понять, что на осмотре комода настаивать не будет. И тоже попенял:
– А у меня только железяки да кое-что из электроники, со своего корабля снял. Милости прошу, Сергей Николаевич, в гости, отсек мой прямо над техническим ярусом.
– Непременно, – ответил Сергей Николаевич и тут же повернулся к супруге, вошедшей в гостиную с кофейником: – Лена, Григорий Степанович приглашает нас в свой… отсек. У него много раритетов.
– Спасибо, – улыбнулась хозяйка. – А вы, Григорий Степанович, решили спортом заняться? Намедни по дорожке бежали.
– Да просто хочу мышцы размять после холодильника. Хорошо здесь у вас, деревьев много, легко дышится. И вот думаю временно перебраться на вашу палубу, домик поставить, не возражаете?
– Палуба, как вы говорите, не наша, дендрарий-то общий.
– Но вы здесь одни живёте, может, думаю, уединение вашей семье требуется.
– Мы в дендрарии живём, потому что у меня работа здесь. Точнее, была. Но и сейчас продолжаю присматривать за подопечными.
– Премного наслышан о ваших удивительных опытах. И что же, эти искусственные животные хорошо плодятся, не мрут?
– Слава Богу, на Планете, где мы их посеяли, популяции устойчивы, там хорошие условия.
– А вы так и не придумали название той планете? Я заглянул в космоатлас, у неё до сих пор числовое обозначение.
– Мы биологи, а не астрономы. Называем просто Планетой.
– А-а, понимаю, – усмехнулся в бороду Григорий Степанович, – оставили эту честь своим подопечным. Что ж, красивое решение. Только надо ведь ждать, когда они там эволюционируют, в разум войдут, чтобы названия свои придумать. Это же уйма времени.
Хозяйка подняла бровь и на лёгкую насмешку гостя ответила:
– Как говорят креоники, для вечника нет времени…
– …но есть неизмеримый смысл происходящего, – продолжил цитату гость. – А вы знаете, кого в древней России вечниками называли? Вовсе не вечно живущих, а бедолаг, приговорённых на пожизненную каторгу.
– Вот как? – удивился Сергей Николаевич. – Одинаковые слова, а смысл разный. По-научному это называется «омонимы». Я ведь филологией увлекался, прежде чем за физику взяться. А вы, наверное, занимались древней историей?
– По первой профессии я почти ваш коллега – математик, программист, обслуживал искины на кораблях. Но чего-то мы в сторону ушли, – Григорий Степанович повернулся к хозяйке: – Извините меня великодушно, Елена Петровна, что толки людские пересказываю, но слышал я, что вы не сразу в стазис-камеру, в холодильник-то, вернулись, когда ребёночка родили.
– В этом нет тайны. С ребёнком я была три года в своём биологическом теле.
– Значит, для вас важно, чтобы малыш общался не с даблом, а с живым человеком?
– Разницы между даблом и человеком нет, вы же знаете, – ответил за жену Сергей Николаевич. – Дабл дублирует наше тело в точности до каждого атома. Или вы, коллега, о другом хотите подискутировать – о переносе сознания?
– Ни в коем разе! – гость поднял руки, словно защищаясь. – Об этой чертовщине даже думать не хочу.
– Зачем же сразу в мистику впадать. Хотя, согласен, это пока выше нашего понимания, – Сергей Николаевич явно был рад поразглагольствовать на близкую ему тему. – Переноса вроде бы и нет. Даже в ощущениях. Вот мы лежим в холодильнике, бренную тушку свою бережём для вечнобытия, а сознанием в дабле пребываем. И что чувствуем? Да ничего нового, потому что новая оболочка ощущается нами как старая – она же точная копия. А физика этого процесса? Вообще никакими приборами не наблюдается! Представьте, человек креатит свой дабл в другой галактике, расстояние между ними в миллионы световых лет, а сигнал от мозга к нервным окончаниям дабла проходит почти мгновенно, как внутри обычного тела. Как такое возможно?
– Вы меня спрашиваете? Спросите у того, кто затащил нас в этот Эос.
– Вот именно, Эос! Сигнал передаётся через его внепространство, но никто не знает его физику. Мы много чего не знаем. Но в незнании нет мистики. Какая же мистика в том, что мы где-то недоработали и не нашли пока ответов?
– Про мистику я не говорил, всего лишь назвал всё это чертовщиной, – напомнил гость. – Нарушено что-то фундаментальное в нашей матушке вселенной, так я это вижу.
– Поэтому и не пользуетесь даблами?
Григорий Степанович не сразу ответил, подумал и отчеканил:
– Да мне плевать на них. С высокой колокольни. Я могу не понимать вашу физику, но вашу супругу очень понимаю – она отдала три года биожизни, чтобы понянчиться с младенцем напрямую, без суррогата. И за это – мой вам поклон.
– Спасибо за поддержку, – Елена Петровна также в ответ склонила голову, – только ни о чём таком я не думала. Считайте, это у меня причуда была. Атавистка я и сектантка, как величает меня мой благоверный.
– А ещё мамочка-тигрица, ты забыла! – Сергей Николаевич рассмеялся, потом пытливо посмотрел на гостя: – Но вы же заговорили об этом неспроста?
– Я готов подхватить эстафету, побыть с мальчиком в своём теле.
– Почему? Вас так впечатлил давешний подвиг моей жены?
– В холодильнике я был долго, обратно пока не хочется. Так что вполне располагайте мной.
– А как же ваш… – Елена Петровна не договорила.
– Биологический возраст? Знаете, у моих внутренних часов очень тугой завод, мне кажется, часики тикают уже вечность. И пять лет меньше, пять лет больше, какая разница.
Сергей Николаевич, помолчав, глянул на супругу и предложил:
– Через год мы начнём подбирать учителей для Маркуса, и заранее просим вас принять участие. А пока будем рады просто вашим визитам. Надеюсь, вам удастся найти контакт с мальчиком.
Гость улыбнулся:
– Я постараюсь. Кто-то, не помню, сказал: «Во вселенной единственные инопланетяне – это дети. С ними каждый раз нужно налаживать контакт».
– Ну да, – кивнул Сергей Николаевич, оценив шутку, – других братьев по разуму мы так и не нашли.
– Их всерьёз и не искали.
– Но как же, перед войной была грандиозная экспедиция, галактику за галактикой прочёсывали в поисках иного разума. Я читал об этом.
– Было больше шума, чем реальных поисков. Эту экспедицию Конвент придумал, чтобы отвлечь людей, сплотить, так сказать, человечество идеей вселенского братства. Но без толку, глобы и стоперы всё равно передрались. Когда экспедиция вернулась, Земля уже сгорела.
– Такое впечатление, будто вы участвовали во всём этом.
– Я же говорю, у моих часиков тугой завод, – старик встал, ещё раз поклонился хозяйке: – Спасибо за кофе, пойду, пора и честь знать. Так, значит, завтра я к вам с утра? Погуляю с Марком.
– Будем вас ждать! – Елена Петровна проводила гостя до дверей. Когда она вернулась, муж спросил:
– Что скажешь, Лен?
– Не знаю, можно ли Марчика ему доверить. Странный человек, помнит то, чего с ним не было. Про экспедицию рассказывает, про Конвент – а это было тысячу лет назад, даже больше! И про часики какие-то с заводом.
– Это он про механические часы, с пружиной. Их вручную заводили.
– Час от часу не легче! Неужели он такой старый?
– Давай посмотрим, что получится. Отказаться всегда можно.
* * *
С охотничьим луком сразу же не заладилось. Григорий Степанович пытался сначала сделать его из молодой берёзки, затем перешёл на ивовые прутья – и лук получался то слишком тугим для восьмилетнего мальчика, то очень уж слабеньким, выпущенная из него стрела падала в двух шагах.
– Тебе подрасти бы надо, силушку нагулять, – вздохнул старик. – Жаль, деревья напрасно попортил.
– Деда, нас никто не заругает, никто же не видел, как ты их рубил.
– Да уж, не видел! Аргус всегда бдит, работа у него такая.
– Кто, деда?
– Аргус, великан. У него тысяча глаз спереди и сзади. Не слышал про него? Аргус охранял одну девицу, которую Зевс превратил в корову, и никто подступиться к ней не мог. Потому что он охранял даже во сне – одни глаза у него закрывались, а другие открывались.
– А сейчас он нас охраняет?
– Типа того. Я же про кибера говорю. Он страж нашего ковчега, людские тушки бережёт и за всем приглядывает.
– А-а, деда, ты про Кузю говоришь! Он совсем не злой! Только непонятный. А твой великан – он из сказки?
– Да, была такая греческая сказка.
– И великана победили? Корова снова человеком стала?
– Всё закончилось хорошо, Гермес отрезал голову Аргусу и освободил Ио. Правда, потом за этой девицей привидение бегало – в личине многоглазой собаки… Слушай, а может нам лучше модельки делать?
– Какие модельки?
– А вот у вас в гостиной модель парусного корабля висит. Сделаем такую и по озеру будем пускать.
– Здорово! Деда, а давай твой корабль сделаем, космический. Сядем в него и улетим отсюда.
– Настоящий у нас не получится, только игрушечный. А так-то я на разных летал… Эй, Аргуша, покажи-ка, в двухмерной проекции, – обратился дед к невидимому киберу. Тотчас в воздухе возникли рисунки трёх космических кораблей. Марчика они не впечатлили – какие-то бублики, проткнутые спицами.
– Да, парусник у твоего папы покрасивше будет, – угадал дед мысли мальчика. – Тогда вот что, давай соберём модель ковчега, в котором живём. Это ведь тоже космический корабль, только большой. Сделаем стенки его прозрачными, чтобы все палубы и отсеки были видны. Получится интересно и с пользой. Как тебе? Только сначала надо чертёж составить, а для этого – по ковчегу пройтись.
Следующим утром Григорий Степанович привёл мальчика к центральному транспортному колодцу, там экскурсия и началась.
– Итак, граждане, сейчас мы находимся на самой верхней палубе ковчега «Назарет», – подражая кому-то, деланным голосом заговорил старик. И пояснил: – Ну, если верхом считать тупой конец яйца, а его низом – острый конец.
– А почему яйца, деда?
– Потому что наш корабль, ковчег то есть, имеет форму яйца. Вообще, Маркуша, ковчегов в космосе очень много. Их строили после войны разные коммуны, и каждая заказывала эоскомпьютеру скреатить что-то своё, особенное. Наши решили, что лучше яйца ничего нет. Какая самая идеальная форма, знаешь? Это шар! Потому что у него самый большой объём, в его нутро больше всего впихнуть можно – это я тебе как математик говорю. А если шар растянуть по закону золотого сечения, в соотношении вертикали и горизонтали 8 к 5, то яйцо и получим. Такое соотношение «числом Бога» называется. А ещё, если по христиански, то яйцо – это символ возрождения жизни. У нас же коммуна споначалу христианской была, и вот построили десять ковчегов как десять пасхальных яиц в небесной корзине, и что-то ещё красивое говорили, не помню. Сейчас-то корзинка не полная, из десяти ковчегов у нас осталось только семь – три переметнулись в другие коммуны, к нехристям, так сказать, короче, к мумми…
Григорий Степанович замолчал, теребя пальцем бороду, потом вскинулся:
– О чём это я? А, да! Условно говоря, мы сейчас в верхушке яйца. А размеры яйца такие: длинна – 30 километров, ширина – 19 с половиной. Внутри яйцо поделено на ярусы, их всего шесть и они разной высоты – в 3 и 6 километров. На высоте потолков никто не экономил, все хотели, чтобы над головой было настоящее небо, с облаками. Первый ярус, верхушка – это дендрарий, где мы стоим. Ниже – верхняя жилая палуба. Под ним – креариум, и далее нижняя жилая палуба, технический ярус и обсерватория, которая занимает нижний, «острый» конец яйца. Всё пешочком обойти мы, конечно, не сможем, но на каждой палубе побываем. Вперёд!
Дед, взяв за руку мальчонку, ступил в центр транспортного колодца, и оба ухнули вниз. Марчик едва заметил, как они пролетели три километра в трубе с туманными стенками и оказались на площадке, от которой в разные стороны тянулись движущиеся дорожки. Вверху сияло искусственное солнце – точно такое же, как и в дендрарии.
– На всех ярусах смена дня и ночи одинаковая, единое время, чтобы люди не путались, – пояснял Григорий Степанович, когда дорожка несла их мимо зелёных садов, среди которых виднелись крыши дворцов и разных диковинных сооружений.
– Деда, а где люди?
– Ты имеешь в виду, где даблы? Сами-то люди в холодильнике лежат, а даблы их шастают по всему космосу, сигая туда-сюда через Эос. Ковчег нашему брату уже опостылел, сколько уж в нём торчим, вот и креатятся на разных планетах, астероидах, чем-то там занимаются. Хороших планет, какой была Земля, не так уж много, поэтому люди приспосабливают свои даблы к разной силе тяжести, к ядовитой атмосфере и живут там в нечеловеческом обличии. Прям монстры, тьфу! А нашим вера запрещает менять форму тела. Каким создал Бог, таким и живи. Вот я говорил тебе про «число Бога», про золотое сечение. Мы же по нему скроены. Если измерить тебя или меня от макушки до пупа, а потом от пупа до пяток, то будет соотношение 5 к 8. То же самое соотношение между частями рук, ног, пальцев, а также на лице. Везде «число Бога».
– Деда, а мы что, Боги?
– Ну, типа его сыновья. Я в этих делах не силён, Маркуша, не буду врать, пусть лучше попы тебе всё расскажут.
С дорожки они сошли у первого же попавшегося колодца, и с жилой палубы спустились на следующую палубу, в креариум. Оказались на площадке, нависавшей над пропастью. Вокруг расстилался грандиозный мир вздыбленных к небу горных хребтов. И небо здесь тоже было огромное, Марчик это сразу почувствовал. Он стоял, задрав голову вверх, и словно летел туда, к слоистым невесомым облакам.
– Просторно, да? – старик улыбался. – Здесь ярус повыше жилого, высота его шесть километров. Почему именно шесть? Это нижняя граница для самых верхних – перистых облаков, так что небо здесь почти земное, со всеми облачными слоями.
– Вон там что летит, деда?
– Где? У меня зрение-то стариковское… Да это же дельтаплан! Развлекается кто-то. По сути, креариум и предназначен для развлечений. В нём можно креатить самые разные ландшафты, свои мирки, благо места много – диаметр почти в двадцать километров. Это самая большая палуба в ковчеге.
– А мы тоже полетаем?
– Не сейчас. Не будем человеку мешать, видишь, он тут Гималаи накреатил, с этих гор с дельтапланом и прыгает. Он в дабле, ему можно, а мы тут головы свернём. Поехали дальше.
Марчик глянул напоследок на горные хребты, уходившие за горизонт. Было понятно, что они нарисованные. Рядом горы настоящие, а там вдали – мультяшные. Как он понял это? Да видно же, что ненастоящие!
Следующая палуба была снова жилая – сады, дворцы с бассейнами, уютные домики. Затем спустились в технический ярус. Марчик схватился за рукав деда – низкий серый потолок давил на него. Григорий Степанович подхватил мальчика, и движущаяся дорожка с огромной скоростью понесла их куда-то по лабиринту транспортных сообщений.
– Сейчас мы едем в самый центр технического уровня, в святая святых, – с некоторой ноткой торжественности объявил старик. – Там в огромном шаре, как в желтке яйца, спрятано самое ценное – консерварий со стазис-ячейками, проще говоря, холодильник, в котором люди лежат. И там же находятся электронные мозги кибера, нашего хранителя. Он отвечает за жизнедеятельность как консервария, так и всего ковчега. Ты его знаешь, он тебе сказки рассказывает.
– Там Кузя?! Вот здорово! Мы к нему в гости пойдём?
– Попробуем.
– А он великан?
– Ну да, огроменный до неприличия. Это целый завод с системами охлаждения и изоляции от квантовых шумов, с роботами, которые всё это чинят, и роботами, которые чинят роботов. Короче, старый хлам. Но работает сверхнадёжно.
Старик и мальчик сошли с дорожки в обширном холле перед высоким порталом. Сделали несколько шагов…
– Проход закрыт, – вдруг раздался голос.
– Тьфу ты, ёкарный бабай, напугал, – чертыхнулся дед. – Аргус, этот мальчик со мной.
– У него нет ячейки. Проход закрыт.
Степаныч спорить не стал, виновато глянул на Марчика:
– Вот же, старый пень, не подумал. Придётся возвращаться…
Марчик чуть не расплакался – так хотелось увидеть Кузю!
– Киба боится, что я у него что-то сломаю?
– В ковчеге ничто не ломается, – ответил дед и вдруг оживился: – А ведь идея! Раз уж мы здесь, покажу тебе это самое «ничто», которое никогда не ломается.
Снова они куда-то двигались в лабиринте переходов с голыми металлическими стенами. Наконец остановились в узком длинном коридорчике. Дед показал на стену:
– Это внешняя обшивка ковчега, за ней уже космос. Она двуслойная, состоит из толстой керамической брони и тонкой оболочки, которая тоньше скорлупы. Как думаешь, какая броня крепче?
Не дождавшись ответа, Степаныч плюнул на пол, и тут же из пола вынырнуло блюдце, мигающее красным предупредительным светом.
– Принеси-ка, братец, униключ, – скомандовал старый космолётчик. Робот-уборщик скользнул обратно в пол и вернулся с блестящим металлическим прутом. Дед поднёс его к обшивке, на которой засветилась сетка из квадратов, провёл по стыкам, и одна из панелей отвалилась. На её месте зияла тьма. Марчик сразу почувствовал, что там ничего нет. Дед сунул в пустоту стержень, и он исчез.
– Вот из чего состоит вторая броня. Её никакой метеорит, никакая бомба не порушит. Можно засунуть туда все планеты, все звёзды, всю вселенную – и ноль реакции.
– Деда, а откуда взяли это ничто?
– Да уж всяко не из нашего космоса, в нём-то ничто нету. А откуда взяли… пёс его знает. Ковчег строили, когда уже открыли Эос и появился эоскомпьютер, который называют абсолютным компьютером – память его не имеет пределов, потому что сам Эос бесконечен. Вот с помощью этого внешника и конструировали. Его спрашивали, а он выдавал формулы, разные решения, которые были не понятны, но работали. С этим и живём…
Старый космолётчик приладил панель на место, и они отправились к ближайшему колодцу. На последней палубе, в обсерватории, смотреть было нечего – огромный пустой зал с белыми сводами.
– Здесь, можно звёздами любоваться, но сейчас прозрачный купол экранирован. Знаешь что, поехали в мой отсек, перекусим. Что-то устал я кузнечиком прыгать.
Жилище Григория Степановича находилось прямо над техническим ярусом, на нижней жилой палубе. Пока Марчик осматривался – в «каюте» было много всяких железяк, в том числе в углу рядом с беговой дорожкой стоял странный велосипед без колёс, – хозяин включил пищевой креатор и, тут же забыв о нём, стал возиться со стеклянными банками, в которых колыхались белёсые слоистые лепёшки.
– Кисленького хочешь? – спросил он мальчика. – Это чайный гриб, полезная штука. В нём есть кислоты и липиды, которые дают долголетие, а тебе для роста хорошо – липиды отвечают за строительство клеток.
Марчику вспомнилось, что папа называл деда Грибом. Может потому, что дед был такой же дряблый, с бесцветной кожей, как эта лепёшка в банке? Пить «кисленькое» мальчик отказался.
– Напрасно, гриб-то настоящий, живой. А вот котлеты – из креатора, в них мясо синтетическое. Эх, кролика мы так и не пожарили на костре… Слушай, Маркуш, а зачем мы с луками мучились? Давай арбалеты сделаем, твоих силёнок вполне хватит из самострела выстрелить. Точно! Завтра же и займёмся.
– Деда, а модель мы делать будем?
– Да ну её. Ковчег ты в натуре увидел, где какая палуба знаешь. Зачем тебе моделька…
* * *
– Кузя, что такое ёкарный бабай? Это злой домовой?
– «Ёк ханэ бабай» можно перевести с татарского языка как «умри, старик». Это самое страшное ругательство у вас, вечников. Вообще, слово «старик» считается неприличным. Никогда не говори такого, Маркус.
– Хорошо, Кузя. А что такое Эос?
– Ты уже спрашивал. Тебе рано знать. Но могу объяснить на уровне твоего развития: это волшебный лес, который ты можешь придумать и заблудиться в нём.
– Если я сам придумаю, то почему заблужусь? Это же мой лес.
– Не совсем твой. Тебе рано знать. Вот слушай сказку. Наступила зима, выпало много снега. Рядом с родительской избой построил Маркушка собственный домик, из снега его вылепил.
– Это про меня сказка? Вот здорово!
– Писатель Толстой написал про Петю*, но ты представь, что это о тебе. Слушай дальше. Наутро Маркушка залез в свой снежный дом и слышит – хрустнул снег, потом сбоку из стенки вылез небольшого роста мужичок-старичок с рыжей бородой…
(* сноска: Сказка Алексея Толстого «Снежный дом»)
– Ага, Кузя, ты сказал «старичок»!
– В сказках это не ругательство. Мужичок был домовым, и он поселился в снежном домике, потому что в избе ему душно показалось. Он сразу уснул и проспал всю зиму, но перед этим вылепил из снега девочку, чтобы Маркушке скучно не было. Девочка говорит: «Давай в представлёныши играть».
«Давай, – отвечает Маркушка. – А это как? Чего-то боязно».
«А ты, Маркуша, представляй, будто на тебе красная шёлковая рубашка, ты на лавке сидишь и около крендель».
«Вижу», – говорит Маркушка, и потянулся за кренделем. Потом представили они, что пошли в лес по грибы. Ой, сколько там грибов! «А есть их можно? – спрашивает Маркушка. – Они не поганые, представленные-то грибы?» Отвечает девочка: «Есть можно».
Так играли они каждый день, и где только не побывали, придумывая себе разное. Наступила весна, начал Маркушкин домик таять. Заплакал Маркушка: не будет теперь представлёнышей! Тут появилась девочка и говорит: «Глупый ты. Весна идёт, она лучше всяких представлёнышей!» И побежали они в лесную чащу играть, только не в представлёныши, а в настоящие игры. Хорошо им было…
А теперь засыпай, Маркус. Во сне у тебя будут представлёныши, и постарайся подчинить их, чтобы они тебе повиновались. А если не сможешь, то просто запоминай их, чтобы мне рассказать.
– Угу, – прошептал засыпающий ребёнок, погружаясь в изумрудное сиянье сказочного леса.
* * *
– А мы в кроликов не превратимся?
– Почему мы должны в кроликов превращаться? – удивился Григорий Степанович.
– Они будут внутри нас, когда мы их скушаем.
Предстоящее съедение настоящего, мыслящего существа Марчика интриговало и слегка пугало. Совсем иначе отнеслась к этому мама. Она была в ярости. Саму идею охоты Елена Петровна хоть и с трудом, но приняла: да, это будет хороший для мальчика урок существимости. Ведь чтобы осознавать реальность бытия, нужно хотя бы раз увидеть реальность смерти. Но жарить мясо на костре, а потом его глотать…
– Ленусь, нельзя быть такой половинчатой, – встал на сторону деда Сергей Николаевич. – Если по-настоящему, то и должно быть по-настоящему.
– Ты не понимаешь. Он собирается и тушку освежёвывать при ребёнке, кишки выпускать. А мясо – ты знаешь, сколько бывает болезней у животных?!
– Но ты же сама кроликами занимаешься, они ведь не больные?
– Не больные. Но Марчик же ребёнок!
– Я давно понял, что есть три вида логики – дедуктивная, индуктивная и женская.
– А также модальная, конструктивная, релевантная, интуиционистская. Серёж, не смейся надо мной, я тоже учёный, причём имею дело не с физическими теориями, а с самой физикой жизни. Марчик очень ещё мал, и тут риск недопустим.
– Кто же спорит, ты признанный учёный, – обнял жену Сергей Николаевич. – Но в тебе сейчас говорит не биолог, а биологическая мать. Инстинкты бушуют. Давай доверимся Степанычу, иначе зачем приглашали его в учителя?
На этот раз с оружием всё получилось. Целую неделю дед с пареньком пилили, строгали, сверлили – и вот два деревянных арбалета с хитрыми механизмами для натягивания тетевы. Стрелять Марчику понравилось: нажимаешь на курок, цевьё, как живое, вздрагивает, и в даль срывается железная стрела – летит вихлясто с нетерпеливой дрожью, вся устремлённая в желанную цель. Чпок – и, вонзившись в дерево, радостно звенит.
Пришла пора отправиться на промысел. Григорий Степанович сам оделся и Марчика экипировал в необычный костюм зелёного цвета с пятнами. «Это для незаметности», – объяснил он. С собой был взят рюкзак, куда сложили палатку, спальники, запасные стрелы и суточный продуктовый паёк.
– Надеюсь, сами там прокормимся, но к зайчатине так или иначе нужны соль, хлеб, чай, – деловито сообщил дед.
Добравшись до заказника, охотники разбили палатку на берегу небольшого пруда. Стал накрапывать дождь – в расчётное время, как и запрограммировал дед. Внутри палатки, по которой барабанили тяжёлые капли, было уютно. Согнувшись в три погибели, Степаныч раскладывал спальные мешки. Бросил через плечо:
– Маркуша, обойди вокруг, может, мы чего забыли на улице.
– Деда, там же дождик!
– Посмотри в рюкзаке плащ-палатку.
Облачившись в пятнистую накидку, Марчик расстегнул молнию, выглянул наружу и встретился со взглядом кролика. На усах его блестели бисеринки воды, круглые шоколадного цвета глаза тоже казались мокрыми, словно камешки, вынутые со дна пруда. В этих глазах ребёнок не уловил ничего – ни любопытства, ни страха. Он протянул руку, и животное отпрыгнуло в сторону. Юркнув обратно в палатку, Марчик прошептал деду:
– Они здесь! Деда, давай арбалет!
– Погоди, – Степаныч зачем-то взял в руки ножик и полез «на улицу». Вокруг палатки там и сям из травы торчали серые уши. Один из кроликов ткнулся носом в сапог деда и, переваливаясь с боку на бок, поковылял ко входу в палатку.
– Египетская сила! – старик был ошарашен. – Они же нас не боятся.
– Деда, мы будем в них стрелять?
– Как же стрелять, если их руками ловить можно?!
– А может их испугать, чтобы они от нас убегали?
Дед провёл рукой по своим слипшимся на голове волосикам, по мокрому лицу – проморгался и вздохнул:
– Это смешно. Извини, Маркуша, старого дурака. Не подумал. Их тут гоняют лисы-боты, а человека-то они никогда не видели.
Переждав дождик, охотники собрали своё снаряжение и двинулись обратно к кару.
– Деда, а кролики совсем как боты. Какие-то они глупые.
– Ну да, поэтому и не сдохли вместе с остальным зверьём, – рассеянно ответил старик, думая о чём-то своём.
В следующий день, сославшись на недомогание, Григорий Степанович не пришёл заниматься с ребёнком. Не пришёл он и в другие дни. Марчик остался один. Он не скучал – у него были арбалет со стрелами, походная палатка со спальным мешком и огромный мир, который делился на шесть палуб и бесчисленное количество отсеков.
Сначала Марчик просто катался в транспортном колодце. В прошлый раз он не заметил, а теперь обнаружил, что сразу под техническим ярусом верх и низ меняются местами, так что лифт летел уже вверх, к обсерватории, а не вниз. Переворот вверх тормашками в колодце длился какие-то секунды, но невесомость при этом чувствовалась. Это было как на качелях, у-ух! Наигравшись, мальчик стал исследовать палубы ковчега. На жилых уровнях было не интересно, там кругом стояли защитные поля, охранявшие частные владения. Обсерватория тоже не привлекла, она была совершенно пустой, с забелённым куполом. А креауриум оказался занятым – Марчик заметил парус чьей-то лодки на озере, что разрушало все фантазии о затерянном мире. Поэтому малыш взялся «открывать» технический ярус.
Место для базового лагеря нашлось не сразу. Сначала Марчик исследовал главные коридоры, затем взялся за их ответвления, которых было множество – круглые и щелясто плоские тоннели, словно запутанные кишки, пронизывали весь уровень. Некоторые были очень низкие, так что малышу приходилось ползти на коленках, прилепив светодиод ко лбу. Явно эти лазы предназначались для роботов-ремонтников, что радовало: значит, многоглазый Аргус, как дедушка называл кибера-хранителя, его здесь не увидит. В одном из таких аварийных проходов Марчик и облюбовал местечко. Принёс из дома светильник, запас продуктов и, конечно, арбалет со стрелами. Кто же ходит без оружия по заброшенной планете, оставшейся от инопланетян? Дедушка долго летал в космосе и не смог обнаружить иные миры, а он, космолётчик Марк Старков, стал их первооткрывателем. Опасности и разные тайны здесь на каждом шагу, но он всё преодолеет!
Первым делом надо было защитить базу от проникновения инопланетных чудищ, закрыть вход щитом. Как его добыть? Известно, как! Плюнуть на пол и произнести волшебное заклинание: «А ну-ка, братец, принеси мне униключ». Завладев инструментом, мальчик ушёл подальше, чтобы следы взлома не привели вражеских разведчиков в его штаб, и снял со стены панель. Под ней не было чёрной пустоты, а поблёскивала какая-то металлическая решётка. Сразу же появились «братцы», но малыш успел бросить панель на пол и усесться на неё, нацелив на роботов арбалет. Те покружили вокруг человека и откуда-то приволокли запасную. Было интересно наблюдать за спорой работой «братцев». Спустя время малыш обнаружил, что униключ умеет резать. Синий луч не обжигал руку, а на полу оставлял глубокие борозды. Добыв ещё одну панель, он вырезал два круглых щита и закрыл ими туннельные проходы к базе. Цитадель готова. Теперь можно было взяться и за исследование «планеты».
Долгие часы между завтраком и ужином Марчик пропадал в техярусе. Было в нём много совершенно пустых пространств, словно строители передумали устанавливать здесь механизмы. Или это про запас? Другие залы и закутки напоминали склад забытых вещей. Определять, какое помещение служебное, а какое для общего пользования, было просто: все входы для техперсонала помечались одним и тем же значком – приземистым цилиндриком, из которого вверх на две стороны зонтиком били пунктирные линии. «Родничок с фонтаном», – догадался Марчик. Однажды за прозрачным защитным полем, преградившем вход в какой-то ангар, маленький путешественник увидел силуэты космических кораблей. На их бортах также красовались значки родника с бьющими вверх струями. Наверное, на этих кораблях прилетели сюда с древней Земли жители ковчега. Вот бы туда проникнуть!
Недоступной оказалась и главная цель – обиталище кибера. Марчик ползал по узким кишкам аварийных ходов, но ни один из них не привёл к центру техяруса. Враг хитёр! В этой игре кибер был врагом, к которому надо незаметно подкрасться, прячась от его тысячи глаз. А вечером, перед сном, кибер становился другом – рассказывал сказки. Так и должно быть в игре, где роли меняются в два счёта.
* * *
– Серёж, ты уверен, что Марчик не поранится?
– Это же не топор допотопный, а универсальный ключ, высокая технология. Он режет только неорганику.
Муж и жена сидели в Эосе в беседке, увитой виноградом. Елена почувствовала, что Сергей приоткрылся, и заглянула в его сознание. Муж излучал уверенность.
– Не переживай, – сказал он, – у кибера всё под контролем. Пусть мальчик думает, что он одинёшенек в своих путешествиях по ковчегу, это на пользу существимости.
– Да, и с представлёнышами кибер хорошо придумал. Что ж, доверимся ему. А то Степаныч…
– Да, наш Гриб совсем умом тронулся. Нет бы в дабле куролесил, так ведь свой собственный организм алкоголем разрушает.
– Мне кажется… нельзя, конечно, так говорить…
– Думаешь, он хочет умереть? Дед очень долго живёт, и кто знает, какими будем мы на его месте.
– Мы не будем на его месте, Серёжа. Нас же двое. И у нас есть Марчик.
– Да, конечно, – улыбнулся муж. – Только знаешь, я давно заметил: наш сын одинок. Других детей в ковчеге нет, а ему нужна компания.
– Предлагаешь сделать ему братика? Ну уж нет! Мне этих родов хватило, а инкубаторного ребёнка я не хочу!
– Хорошо, милая. Мы придумаем что-то другое, – он кивнул супруге и подумал о своей работе, о датацентре. На месте беседки с эос-даблом Елены возник зал с высоким куполом, на котором ломко извивались графики и мерцали столбики цифр.
В песочнице
За минувший неполный год Марчик стремительно повзрослел – словно держался за край крыши высокого дома, а потом разжал пальцы, полетел и встал ногами на незнакомую землю. Так он сам во сне увидел. Заметили перемену в мальчике и родители, и многие обитатели ковчега «Назарет», покинувшие свои стазис-камеры за две недели до окончания Великого поста. Марчик был счастлив: мама и папа теперь «настоящие», дома полно гостей, в том числе несколько раз заходил и дед, Григорий Степанович.
– Ну, Маркуша, нам предстоит важное дело, – сообщил он мальчику. – Будем встречать нового насельника ковчега. Он прибудет с крестным ходом с «Каны Галилейской» в Светлый Понедельник, так что время подготовиться у нас есть.
– Деда, почему мы?
– Потому что есть традиция – при встрече гостей выставлять вперёд ребёнка как бы в знак доверия, веры в будущее и всё такое. А с караваем должен стоять самый старый, желательно бородатый.
– А как готовиться?
– Очень просто. Мне поручено бороду не брить, а тебе – сходить в открытый космос, потренироваться, пообвыкнуться. Встреча-то в космосе будет. Так что твой папа вызвался проводить тебя «за околицу».
* * *
Лепестки шлюзовой камеры раскрылись, и в космическую пустоту медленно продрейфовал воздушный пузырь с двумя плавающими человечками внутри. Сергей взял сына за руку, но вскоре отпустил – тот в невесомости держался свободно, наученный играми в транспортном колодце. Вот он подплыл к невидимой оболочке, оттолкнулся и вернулся к центру, где висело кольцо генератора силового поля. Ухватившись за него, мальчик огляделся. Всё вокруг было настоящее: и тьма, и свет миллиарда звёзд. Марчик прошептал:
– Папа, у него нет конца?
– Как бы тебе сказать… конец есть, и его нет.
– Как это, есть и нет?
– Вот мы сейчас внутри шара – у него есть конец?
– А-а, понимаю…
Сергей посмотрел на сына: с виду ведь совсем ребёнок, с оттопыренными ушами-лопушками на стриженой белобрысой головушке. А глаза – серьёзные, внимательные. Его и не узнать сейчас, какой-то незнакомый мальчик. Смотрит на звёзды, и профиль личика словно закостенел в холодном белом свете.
– Маркус, наша вселенная кажется бесконечной, – торопливо заговорил Сергей, – но это не так. На самом деле она очень маленькая, всего лишь твёрдая песчинка в океане Эоса.
– Мне никто не рассказывает про Эос.
– Хорошо, хорошо, я расскажу… но ты же не поймёшь.
– Пойму!
– Ладно, представь, что пузырь, в котором мы находимся, это наша вселенная, а всё остальное за его стенкой – это Эос. Пузырь маленький, а Эос бесконечный. Даже не так: в Эосе вообще нет понятия о начале и конце, поэтому он больше, чем бесконечный. Хотя «больше» и «меньше» там тоже нет.
– А что есть?
– Ничего и сразу всё – все вероятности того, что может быть, поэтому учёный Маер назвал его Экзогенной Областью Случайности, отсюда и название Эос. Термин не точный, он применим только к нашей реальности, но для Маера это выглядело именно так – ведь в нашем мире, который состоит из квантов, Эос проявляется как неопределённость. Знаешь, что такое квант? Если мы возьмём какой-нибудь предмет и начнём его делить, разрезая каждый кусочек снова и снова, то в конечном итоге образуется такой маленький кусочек, который дальше делить нельзя. Почему нельзя? Потому что резать можно только материю, вещь, а этот кусочек-квант уже не является веществом. Точнее, он находится на границе вещественности, вот как раз в квантовой неопределённости – проявляет себя то как вещество, то как некое состояние, отражающее информацию… Ты хоть что-то улавливаешь?
– Говори, папа.
– Ладно, слушай. Там внизу, на квантовом уровне, находится граница между нашим вещественным миром и Эосом, из которого через квантовые дырочки протекает к нам вся эта неопределённость. В нашем мире эта неопределённость застывает во что-то определённое, и так получается вещество, материя. Это можно сравнить с огромным солёным океаном, в котором вода не замерзает из-за солёности. Но под действием очень низкой температуры кусочек этого океана начинает кристаллизоваться и превращаться в ледышку. Вот наша материя и есть такая ледышка. Это тебе понятно?
– А мы не можем растаять, как ледышки?
– Пока в нас есть определённость, мы не растаем. Более того, мы можем сами создавать ледышки – проникать в Эос через эти дырочки и оттуда в наш мир проращивать как бы всякие кристаллы – даблы, ковчеги, твои игрушки, ну, все предметы, которыми пользуемся. Это очень удобно.
– Папа, а как мы проникаем через дырочки? Они же маленькие.
– Нам самим не обязательно лезть в Эос, чтобы впрыснуть туда определённость и что-то материализовать. Что такое определённость? «Да, нет, плюс, минус» – то есть это информация. Вот набор таких «да – нет», программный код, мы туда и отправляем. Информация легко проходит через субквантовый барьер.
– А Кузя говорил, что я вырасту и сам буду ходить в Эос, и что там сказочный лес. Он соврал?
– Ну, не сам будешь ходить, а скреатишь там свой эос-дабл. И свой лес ты сможешь скреатить, и всё, что только представишь в голове и передашь туда через программный код.
– Жалко…
– Мы же не ангелы бесплотные, чтобы шастать между мирами.
– Папа, а если построить очень сильный космический корабль? Разогнаться и пробить эту черноту, – мальчик ткнул пальцем в сторону пустоты за стенкой пузыря.
– У нас есть такие корабли. Но, знаешь, в чём сложность… Кажется, делов-то: выбирайся на поверхность ледышки, которая плавает в океане Эоса, – и вот он перед тобой, ныряй в него. Но в этом океане нет пространства и времени. А у ледышки, то есть в нашем мире – они есть. И там, где наш мир заканчивается, пространство как бы загибается назад, происходит его искривление. Пробиться очень сложно. Но мы пытаемся, запускаем зонды с выпрямителями пространства.
– Там страшно?
– Где, на краю нашей вселенной? Там бесконечная тьма. Можно долго лететь и прилететь обратно, откуда начал путь. Но когда-нибудь наши зонды проломятся в Эос, и мы сможем войти туда сами, без даблов.
– Ты возьмёшь меня с собой?
– Пока что у нас не очень получается. Понимаешь… ледышка в океане – это я для простоты сказал. На самом деле океан Эоса находится и внутри нас, и снаружи, его актуальная неопределённость всё пронизывает. Что это на самом деле, мы до сих пор не знаем. Вот узнаем – и дверку туда найдём. Может, она тебе откроется, когда вырастешь.
Марчик висел в невесомости, смотрел на льдистые холодные звёздочки – и ему было уже не страшно. Чего бояться каких-то ледышек?
* * *
16 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, служба совершалась в храме пророка Илии, сооружённом посреди обсерватории. Эта разборная церковь была без стен и маковок – стоял один иконостас, прикрытый сзади полупрозрачной алтарной апсидой. Перед Царскими вратами собралось уже много народа, читался 103-й псалом «Слава Ти, Господи, сотворившему вся».
Мама сосредоточенно молилась, налагая на себя крестное знамение. Её лица за краем большого платка, заколотого под подбородком булавкой, Марчик не видел.
– Из глубины возвах к Тебе Господи, Господи, услыши глас мой… со пророком Захариею возопиим, – голос диакона утончился и пронзительным воплем вознёсся ввысь. Отец положил руку на плечо Марчика:
– Приготовься, сейчас после слов о въезде Иисуса в Иерусалим верхом на жеребчике, то есть на молодом осле, будет гиперпрыжок в наш Скитающийся Иерусалим. Каждый год координаты для него выбираются разные.
Диакон же продолжал:
– Яко се Царь твой грядет тебе кроток и спасаяяй, и вседый на жребя осле…
Сверкающий звёздный узор на куполе мгновенно поменялся. Там и сям стали появляться серебристые монетки, которые, если присмотреться, были не круглые, а овальные, яйцо.
– Задержки в полсекунды, – одобрительно кивнул папа. – Это ковчеги нашей Церкви. Одновременно прыгать в одно место опасно, поэтому очерёдность…
Договорить он не успел – под звёздным куполом разнеслось торжественное:
– Осанна в вышних, благословен грядый Царь Израилев!
Пел хор, пели мама и папа, и весь народ – и звёзды долго дрожали в послезвонии голосов.
* * *
Наступила Страстная седмица. Впервые Марчик, как взрослый, отстоял канон Андрея Критского и впервые исповедался. С перечислением грехов вышла заминка, не мог мальчик вспомнить ничего плохого.
– Каюсь, – обрадовался он, – папу и маму обманывал, прятался на техническом ярусе. И Кузю обманывал.
– Осуждал ли кого? – строго вопросил пресвитер.
– Маму осуждал, что она дабл. А ещё я рассуща, сплю во сне.
Пресвитер вздохнул и накрыл голову ребёнка епитрахилью, отпуская «вся согрешения».
Пасха наступила как-то буднично. Ещё одна всенощная в череде долгих служб. Крестный ход многоголовой змейкой обернулся вокруг храма, Царские врата распахнулись. «Христос воскресе!» – эхом зазвучало отовсюду. Одновременно ковчеги над головой, за куполом, озарились многоцветием. В звёздном пространстве висели теперь «водрузивые на ничесомже» исполинские пасхальные яйца. У каждого была своя раскраска, придуманная лучшими дизайнерами.
– Смотри, вон то самое яркое яйцо – это «Вифлеем», – объяснял Марчику папа. – На гербе этого ковчега изображена звезда, поэтому он такой лучезарный. А у того, который чешуёй серебрится, на гербе три рыбы, это «Капернаум». У «Хеврона» на гербе дерево, поэтому он зелёный. А вон светло-коричневый, в рубчиках, как хлебная плетёнка – это «Эммаус». В Евангелии сказано, что близ города Эммаус Христос последний раз явился ученикам, разломил с ними хлеб и вознёсся. И на гербе ковчега два куска хлеба – для вкушения в земной жизни и в небесной.
– А «Иерусалим» какого цвета? – спросил мальчик про единственный город из Священной Истории, название которого знал.
– Ковчега с таким именем не существует, потому что у нас есть кочующий Иерусалим – это все ковчеги вместе. Если верить пророчествам, то в будущем святой град утвердится в одном месте, на обетованной планете. Но где эта планета находится, пока никто не знает.
Наутро литургия в «Назарете» была немноголюдной, в храм пришло человек тридцать. Остальные отправились на «Хеврон», самый большой по размерам ковчег, где проходила главная, соборная служба. Мама вернулась оттуда оживлённая, успевшая разговеться с хевронскими друзьями ботаниками. «Ну, почему я вышла замуж не туда? – шутливо подначивала она мужа. – Ох, какой там ботанический сад!»
* * *
В Светлый Понедельник Марчику дали выспаться до полудня. Кибер не стал мытарить вопросами о виденных снах, лишь напомнил, что сегодня важный день, сретение нового насельника из ковчега «Кана Галилейская».
И вот уже стоит он у шлюза, где собралась небольшая толпа. Впереди её – дед в смешной рубахе до колен, с большим пасхальным куличом в руках.
– Тебе, главное, слова не забыть, – говорил Марчику папа, который почему-то сильно волновался. – Тебе скажут, ты ответишь: «Наш дом – ваш дом». Формула простая. И дальше не дёргайся, гравитационный луч сам утянет вас сюда. Обязательно возьмитесь за руки, и не толкайтесь, крепче держитесь, чтобы вас не растащило, там невесомость будет. Такой уж ритуал – с невесомостью, как в переходном отсеке у древних космонавтов, поэтому крепче держитесь. Понял?
Яйцо «Каны» переливалось оттенками красного, переходящими в тёмно-бордовое. К нему через чёрную пустоту протянулся воздушный туннель. Отплывая от своего ковчега, Марчик оглянулся: как тот выглядит со стороны? Это была гигантская голубая капля воды с мерцающим светом внутри. Тоже красиво. Приближение кананита он прозевал. Когда оторвал глаза от своего ковчега, маленькая фигурка в алом комбинезоне, прежде маячившая в конце тоннеля, была уже перед ним. Гость и вблизи оказался маленького роста, меньше Марчика. Ухватившись за руки, они закружились на месте, гася скорость встречного полёта. На Марчика с интересом смотрели большие серые глаза, сзади развевался в невесомости хвост длинных русых волос.
– Ты что, девочка? – вдруг догадался встречающий.
– А ты девочек никогда не видел? – хмыкнула гостья.
– Видел. В мультфильмах. Они всегда в платьях и с бантами.
– Подумаешь, бантики… Мир вашему дому, – произнесла формулу девчонка.
– Наш дом ваш дом, – откликнулся Марчик, и гравилуч повлёк их к «Назарету», прямо к ногам Григория Степановича, похожего на сельского патриарха с большой седой бородой. Дав отщипнуть от кулича, он обнял и чмокнул девочку в лоб. Дальше церемониться времени не было – по воздушному тоннелю, в котором включили гравитацию, от «Каны» уже двигался крестный ход, до встречающих доносилось пение: «…смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Колонна людей с покачивающимися хоругвями шествовала между звёзд, и это было как в причудливом сне.
* * *
Светлая седмица – приятная пора ходить по гостям. Обитатели разных ковчегов перемешались между собой, так что обычай украшать одежду на это время нагрудными значками многих выручал. И Марчику нравилось, когда гости, совершенно незнакомые люди, завидев на его груди герб – колодец с водой, у которого ангел в Назарете сообщил Деве Марии благую весть, – с серьёзной почтительностью кланялись ему, хозяину ковчега. Даже на подряснике епископа, прибывшего из «Мегиддо» в «Назарет» с архипастырским визитом, Марчик заметил значок – рисунок крепостной стены с зубцами. Владыку Игнатия все и так знали в лицо, но обычай есть обычай.
Всё это время Марчик был в центре внимания, каждый норовил ему что-то подарить, и собралась большая гора игрушек. Однажды в их доме возникли две женщины. Это были даблы, что Марчик легко определил – на фоне всех остальных, живых. Даблы улыбались, говорили ласковыми голосами…
– Деда, почему они так смотрят на меня? – спросил мальчик Григория Степановича, который в тот вечер также гостил у Старковых.
– Как смотрят?
– Будто я какая-то зверушка.
– А-а… так они натуральных детей никогда не видели.
– Почему?
– Они из другой коммуны, не наши. Твоя мама с ними работает на планете, где зверушек выращивают, вот и пригласила к нам на праздник. Но ты не бойся, они не опасные. Аргус дал им скреатиться только в этой комнате, звёздного неба они не видят и координат, где мы находимся, определить не могут. Поэтому не опасны.
– А в чём опасность?
– Так они же мумми! Со своими тараканами в голове. Возьмут скреатят здесь бомбу, и бабах. Всю нашу коммуну зараз смогут накрыть, если координаты узнают. Вообще этот дикость, что ковчеги здесь скопом в одном месте собрались – все же прячутся друг от друга, берегут своё вечнобытие. Это только у нас раз в году такое столпотворение.
– Деда, ты сказал, они мумми?
– Мы их так обзываем. Они из холодильников вообще не вылазят, лежат там навечно как мумии фараонские. Поэтому у них детей и нету. Бывает, конечно, что кому-то из мумми взбредает в голову приказать ковчегу выделить из себя генетический материал и вырастить в инкубаторе ребёнка. Но это уникальный случай, им вообще детей не хочется – зачем мумиям дети? А наших они обзывают живородами и танатами, то есть смертниками. Нас вообще никто не любит, мы изгои.
Марчика огорчило услышанное, это было видно по его лицу, и дед пустился в объяснения:
– Это давняя история. Когда люди открыли Эос, то поначалу все радовались. Но потом появились стоперы, которые попытались запретить Эос или хотя бы ограничить иноморфинг, чтобы человечество не выродилось в монстров. Им это не удалось, и они стали создавать свои стоперские общины, в которых жили по старинке, с сохранением всего традиционного. Занимались исторической реконструкцией, детей воспитывали по старыми книгам и фильмам, ну вот как тебя воспитывают. Потом случилась война, после которой все разбежались в разные стороны. Кто победил, глобы или стоперы, не понять, но до сих пор глобы не любят стоперов и наоборот.
– А мы кто?
– Разумеется, стоперы. Причём, самые ортодоксальные, прям религиозники. Нашу коммуну даже другие стоперы не очень-то привечают, что уж говорить о глобах. Я вообще удивляюсь, как эти две мумми нашу компанию терпят, вон даже смеются, им твой папа какой-то анекдот рассказал. Притворяются. Они же юмора вообще не понимают. Их ещё иммортелями обзывают, а им нравится, красивое, мол, прозвище. А иммортель – это высушенный цветок. Он вечный, но мёртвый.
* * *
Выгорецкие появились в доме Марчика только в конце недели, когда закончили обустраивать жильё по соседству. Был накрыт изысканный стол – Елена и Сергей Старковы постарались не сплошать перед новыми соседями. После чинного обеда на столе появилось вино, принесённое гостями, и Сергей предложил детям погулять во дворе.
– Тебя Маргаритой зовут? – мальчишка первым решился завязать разговор с девочкой, которая была теперь не в комбинезоне, а в белом платьице, в туфельках и с бантом в красиво убранных волосах. Бант прикреплялся к русым локонам золотой пряжечкой в форме виноградной кисти.
– А тебя Марчиком? – вопросом на вопрос ответила гостья.
– Я Марк.
– Это взрослое имя, а мы же дети, – рассудила девочка. – Давай ты будешь не Марчик, а Марик, и тогда получится не по-малышковски.
– Ну, давай. А почему у тебя значок ковчега в волосах, а не на платье?
– Это не значок, а просто заколка. Потому что у меня нет ковчега. Из «Каны» меня увезли, а здесь ещё не приняли.
– Значит, ты ничья? Здорово! – восхитился Марик. – А ты знаешь, что твои родители уже даблы?
– Да, они вчера вернулись в «Кану» и теперь в стазисе.
– Мои тоже. И как тебе?
– Что?
– Да ничего… Ты же здесь одна осталась.
– Почему одна? – Рита, взмахнув ресницами, глянула на Марика и потупила взор.
Дети стояли напротив распахнутого настежь окна, за которым слышался смех родителей. Донёсся голос Ритиного папы:
– Предлагаю тост за ваш и наш старейшие Дома! Надеюсь, кристальной чистоты вода «Назарета» удачно разбавит наше вино.
– Неужели в досточтимой «Кане Галилейской» молодые вина столь густы? – поддержав шутливый тон, также нараспев ответила мама Марка.
– О, разбавлять иногда приходится не только плотность и крепость вин, но и вкусовой их букет. Брожение в молодой суспензии, Елена Петровна, это довольно капризный процесс, так что наше юное вино получилось с характером, уж не обессудьте.
Рита дёрнула Марика за руку:
– Пойдём куда-нибудь, а они пусть болтают про нас, что хотят.
– Почему про нас?
– Да пойдём же!
Девочка протянула ладошку, и Марчик, взяв её за руку, повёл показывать мамин сад, насаженный на заднем дворе. Но успел ещё уловить долетевшее из взрослого разговора имя – Григорий Степанович. Наверное, из-за него, единственного «неспящего», и привезли сюда Риту, чтобы она тоже могла у него учиться. Ведь для взрослых расточительно прожигать жизнь вне стазиса ради какого-то одного ученика. Наверное, Марчику стоило обидеться на это, но никакой жалостинки в себе он не ощутил. Девочка была красивая. Это снимало все вопросы.
* * *
Класс для занятий Григорий Степанович подготовил на веранде своего дома. Когда Марик пришёл на первый урок, Рита уже сидела за партой – в своём красном комбинезончике. Едва он уселся рядом, как в класс явился дед. На его плече был попугай, который сразу же вспорхнул и устроился на подвешенном к потолку обруче, мигая осоловелыми глазами.
– Деда, а птица зачем?
– Это кибер-вещун. Будет нам научные справки давать и картинки показывать. Хотел я Аргуса ещё и в клетку посадить, да пожалел.
– Пр-ремного благодар-рен, – проскрипел попугай, покачиваясь на обруче.
– Ну, с чего начнём? – запустив пятерню в бороду, почесал подбородок Степаныч. – По плану, который мне тут расписали, я должен рассказать вам о Земле. И это резонно, мне, старому, о нашей планете известно больше всех.
– Деда, – перебил Марчик, – давай о космических экспедициях, что мне рассказывал. Рита же не слышала.
– Во-первых, Старков, здесь в классе я тебе не деда, а… кто, Аргуша?
Кибер всё с тем же попугайским акцентом ответствовал:
– Гр-ригор-рий Степанович, кэп.
– Значит, про освоение космоса… Аргуша, скажи, какая национальность была у первого космонавта?
– Элементар-рно, – проскрипел попугай и стал декламировать уже нормальным голосом: – «Я свободно представляю первого человека, преодолевшего земное притяжение и полетевшего в межпланетное пространство. Он русский. По профессии, вероятнее всего, лётчик. У него отвага умная, лишённая дешёвого безрассудства. Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола». Так в 1934 году, перед своей смертью написал в дневнике родоначальник космонавтики Константин Циолковский. В том же году в России родился Юрий Гагарин, первый космонавт в истории человечества.
– Всё верно, только не он был первым, – Степаныч подмигнул ученикам, – ты ошибся, кибер. Думаешь, у Лайки, которую запустили в космос первее всех, не имелось своей собачьей национальности? Да, она была дворняжкой беспородной, но это тоже нация такая – произошедшая из бродячего образа жизни. И кто мы сейчас, как не дворняги, разбрёдшиеся по космосу? Так вот, чтобы совсем не превратиться в шелудивых псов, мы начнём-таки с истории нашей исторической родины…
* * *
После занятий Марик провожал соученицу домой.
– Говорят, ты спишь во сне, не умеешь сущить? – между прочим полюбопытствовала Рита.
– А ты, что ли, умеешь?
– Меня год назад научили. Это очень просто! Целыми днями смотришь на свою руку и повторяешь: «Ты спишь, ты спишь». А когда во сне увидишь руку, то сразу сверху голос тебе говорит: «Ты спишь». И сразу всё понятно, и начинаешь по снам путешествовать. Но одной руки мало, надо ещё много якорей запомнить – небо, дорога, дверь…
– Да знаю я, тоже зубрил, но ничего не получается. Зато я умею дабла отличить от человека.
– Врёшь!
– А вот и нет. Вообще-то это секрет, никому не проболтайся.
– Точно врёшь!
– Не вру. Дед говорит, что у меня тонкая психика. Поэтому я живое вижу. Поэтому и сплю без памяти – голове надо много отдыха. А ты куда во сне путешествуешь?
– Когда я понимаю, что сплю, то начинаю представлять разные деревья, цветы, леса с полянами. И там гуляю. Мама говорит, что из меня получится креадизайнер. А ты кем хочешь стать?
– Наверное, космонавтом.
– Космонавтов уже не существует!
– Если есть космические корабли, то будут и космонавты. Ты точно не проболтаешься?
– Да уж ладно. Могила.
– Ух ты! Тебя за такие словечки не ругают? В общем, слушай. У нас на ковчеге есть спрятанные космолёты, они стоят в тайном ангаре. Я уже выбрал, на каком полечу. Вот проберусь в ангар и отправлюсь, куда захочу. В Эос, например. Только надо выпрямитель пространства достать.
– В Эос на космолётах не летают. И одному тебе полететь не разрешат.
– А я уже путешествовал один, без никого. Хочешь, базу мою покажу?
После обеда Марик поджидал Риту в условленном месте, у колодца. Появилась она в том же комбинезончике, с рюкзачком за спиной.
– Там что? – кивнул мальчик на рюкзак.
– Мама бутербродов положила.
– Ты маме рассказала?! Эх, женщины…
– Я про базу ничего не говорила, – обиделась Рита, – сказала, что ты мне ковчег покажешь.
– А-а… ладно.
Устроенная Мариком база Рите не понравилась – тесно, сумрачно.
– Надо сюда ещё один светильник принести.
– Зачем? Это же пещера, в ней должно быть темно и страшно.
– Зачем страшно? Вот у меня в «Кане» был красивый настоящий домик, я в нём играла.
Марик хотел парировать, мол, и катись обратно, но сдержался. Предложил:
– Хочешь, я тебе что-нибудь подарю?
– А что у тебя есть?
– Ну, настоящих, важных вещей только две. Арбалет дарить не буду, он не для девчонок. А вот это могу…
Мальчик достал из коробки металлический стержень:
– Это униключ.
– А где ты его взял? Своровал?
– Здешний бот принёс. Знаешь, как здесь желания исполняются? Надо сначала на пол плюнуть и, когда бот появится, сказать: «А принеси-ка мне, братец». Надо братцами их называть.
Рита скептически осмотрела подарок:
– И зачем этот ключ?
– Он всё умеет – резать, открывать, отвинчивать. С ним можно до пустоты добраться. Пошли покажу…
Марчик встал, закинул за спину арбалет. Когда они выбрались из «пещеры», девочка спросила:
– А зачем тебе оружие?
– Тебя охранять.
– От кого?
– А ты про диких роботов ничего не слышала?
– Не-ет, – Рита с опаской оглянулась вокруг, затем фыркнула: – Опять ты врёшь! И про пустоту тоже. Пойду я лучше домой.
– Не вру, сама увидишь, – мальчик взял спутницу за руку. – Только ты не сбегай от меня, а то заблудишься.
Рита вырываться не стала, и, взявшись за руки, они прошли до бегущей дорожки. Там девочка осторожно освободила ладонь от мальчишеской хватки. Щёки её покраснели, но держалась она независимо, чуток даже воинственно.
У внешней обшивки Марик снял панель и в открывшийся мрак бросил стрелу. Она целиком исчезла.
– Хочешь, попробую её достать? – парнишка протянул руку к ничто.
– Ой, Марчик! Не надо! – Рита всерьёз испугалась.
Рука мальчишки по локоть погрузилась во тьму. Взглянув на обмершую девочку, Марк вытащил руку обратно целую и невредимую.
– Здесь такой секрет. Если предмет не весь в пустоту летит, а с чем-то соединён, то его вытянуть можно. А если кинуть целиком – то всё, каюк. Я проводил опыты: бросал туда всякое, пробовал крючком обратно достать, а там ничего, пусто.
Рита смотрела на Марка заворожённо – сразил её вовсе не рискованный фокус с рукой, а настоящий научный опыт, проведённый мальчиком. Наконец произнесла:
– Ну и дурак тогда.
– Почему дурак? – Марик даже не обиделся, чего на девчоночьи глупости-то обижаться.
– Нам Григорий Степанович что рассказывал? Сначала в космос отправили не человека, а собачку. Вот и тебе надо было сунуть в пустоту курицу или кролика, а потом самому лезть.
– И вправду, – мальчишка удивился. – Только лицензия нужна, чтобы кролика взять.
– Какая лицензия?
– А вот такая! Девчонкам лицензий не дают, они только для охотников.
Когда шли домой, Марик вдруг ощутил, что мир вокруг и он сам как-то странно изменились. И всё это из-за девочки. Её присутствие рядом утвердило его на земле, отделив от ковчега, от папы и мамы да и от всего остального мира. Теперь он не подчинён чему-то внешнему, а сам может и должен менять всё вокруг… Разобраться в этих новых ощущениях не дал голос Риты:
– Марик, а Григорий Степанович твой друг?
– Дед? Нет… он же дед.
– А кто твой друг?
– Ну, Кузя друг.
– Кто это?
– Кузя? Да кибер наш.
– Какой же он друг! Это не человек.
– Ну и что? Он играет со мной, мультики показывает.
Девочка закусила губку, повторила упрямо:
– Робот не человек.
– Кузя не робот, а кибер. Он думает и говорит, как мы, по-человечески.
Спорить с этим было трудно. Наконец Рита нашлась:
– Твой Кузя в Бога не верит.
– А вот и верит!
– Нет, не верит.
Размолвка почти не омрачила их первого путешествия. Проводив Риту до калитки, Марчик вприпрыжку побежал домой.
* * *
– Сектант? Где ты слышал это слово? – епископ Игнатий в упор посмотрел на Марика. Его дабл-тело, полупрозрачное, как в старинной стереосвязи, слегка колыхалось в центре класса. Обычным даблом, целиком копирующим человека, Преосвященнейший не позволял себе пользоваться, тем более в общении с детьми на уроках Закона Божьего.
– Ну… у взрослых слышал, – замялся Марик. Не говорить же, что папа в шутку так маму называет. И вообще, напрасно он рассказал учителю про Кузю, который накануне на вопрос Марика, существует ли Бог, ответил как-то странно: «Бог есть и его нет». Получается, что настучал на своего друга да ещё за глаза обозвал его нехорошим прозвищем!
– Кибер не может быть сектантом, – пояснил архиерей. – Хотя это любопытно… квантовый релятивизм. Возможно, это почва для будущих ересей.
– Владыко, – почтительно осведомился Марик, – а как это, Бог есть и его нет?
– Я же сказал! Это релятивизм. Так мыслит квантовый компьютер, перебирая вероятности правильного ответа. Его мышление строится на одних только допущениях, вероятностях. А мы сразу мыслим сущим, потому что сами сущие от Бога. У нас всё определённо – если есть, то реально есть. Наша окончательная определённость есть оборотная сторона абсолютной неопределенности – той свободы, которую нам даровал Господь. Мы свободны принять Его или нет. Спрашивается, зачем это Богу? Без свободы нет любви, а Господь ждёт от нас как раз любви, ибо мы дети Его. Как уже сказал, мы сущие от Сущего, поэтому можем ощущать Его и любить.
– Владыко, – руку подняла Рита, – значит, рассуща не может полюбить?
– Как же он полюбит другое «Я», если не осознаёт своего «Я»?
Рита украдкой скосила глаза на Марка. Тот сидел рядышком со скучающим видом – всё-таки занятия с дедом поинтересней Закона Божьего.
* * *
В начале июня Григорий Степанович объявил:
– Ну что, Маркуша и Маргоша, хоть и проучились вы всего ничего, а календарные каникулы вам положены.
– Ур-ра, каникулы! – гаркнул попугай, переступая лапками на качающемся обруче.
– Ты, Аргуша, тоже можешь отдыхать, – милостиво разрешил дед и подмигнул детям: – А чтобы вы, ребятки, не болтались по ковчегу, вам будет открыта песочница.
«Песочницей» дед называл детскую креаплощадку, устроенную папой Марика за озером в пустующей оранжерее. Это было круглое помещение диаметров в триста шагов, вполне подходящее для простеньких ролевых игр – с неглубоким погружением в виртуал.
Первое, что выбрали дети из списка игр – приключения на необитаемом острове после кораблекрушения.
– Надо придумать название острову, – предложила Рита.
– Я уже придумал. Остров Маргарита. Мне нравится, красиво.
– Ну… ладно, – согласилась девочка. – Только лучше остров Марго. Или Мэг. Так короче.
Две недели они играли запоем: носились по острову как угорелые, охотились на зверей, обследовали лагуны, строили жилище. Потом интерес поугас.
– Игра в поддавки у нас, – сидя вечером у костра, пожаловался Робинзон своей Пятнице. – Помнишь, как мы хижину из листьев строили?
– Конечно! Всё рассыпалось.
– Потому что ни топора, ни ножа не было. А тут раз – и разбитый корабль на берегу нашёлся, с инструментом. Подсунули нам.
– Малышковская игра, – согласилась Рита и потянулась к котелку, чтобы деревянной палочкой, выструганной Марчиком, помешать варево.
– И вообще… Заметила, какие стенки у пузырей толстые?
– Пузырей?
– Ну да, которые вокруг нас. Я вот всё думал: как наш большой остров, который в длину пять километров, поместился внутри оранжереи? Она же раза в три меньше острова. Спрашивал у Кузи, а он молчит, потому что в игре мы должны сами всё разгадывать.
– И ты разгадал?
– Ага…
– Ну, не тяни!
– Помнишь я говорил тебе, что нашёл космолёт и что для него нужен выпрямитель пространства, чтобы в Эос полететь? Так вот! Этот прибор где-то здесь находится. Только он не выпрямляет, а искривляет пространство. Но это пустяки, на нём должен быть переключатель…
– Стой. Получается, мы здесь в каком-то искривлении?
– Ну да, пространство искривлено и свёрнуто в пузыри. Внутри такого пузыря скреачено всё, что мы здесь трогаем, все предметы, а на его стенке нарисовано то, что ещё не скреачено. Мы переходим через стенку – и всё нарисованное впереди сразу креатится, а что было, что осталось за спиной, становится нарисованным. Вон видишь пальму на берегу? Она нарисованная. А пойдём туда – и пальма скреатится.
– То есть мы тут кругами ходим?
– Молодец, догадалась! Только не кругами, а перевёртышем. Мне папка рассказывал, что на краю вселенной есть такое искривление, что когда корабли летят вперёд, то прилетают туда, откуда вылетели.
– Твоему отцу я верю. А твоим пузырям… Признайся, что ты их выдумал!
– Нет, не выдумал. Я их вижу, стенки эти. Они должны быть незаметными, прозрачными, как у мыльного пузыря, но здесь такие толстые, что хоть рукой трогай, – Марик для значительности сделал паузу и закончил словами деда: – Криворукие виртуал делали.
– Врушки это! Кибер, домой! – выпалила Рита, и на пару секунд наступила тьма, после чего дети оказались в круглой зале с голыми стенами.
– А я думал, ты тоже видишь, – с сожалением сказал Марик.
– Никто этого не видит, а ты сочиняешь, чтобы похвастаться. Давай признавайся!
– Ладно, – Марик встал с пола и подал руку подруге, – завтра я тебе одну штуку покажу.
Утром, вернувшись в игровую, дети отправились в поход – на гористую оконечность острова. Там они поднялись на мысок, который с трёх сторон обрывался вниз, в зелёную гладь океана. Шум набегавших волн едва доносился снизу.
– Марчик, стой! – испугалась Рита. А Марк продолжал идти к обрыву.
– Стой!!
Марк шагнул в пропасть и… продолжал идти, но уже навстречу Рите.
– Здесь сломанная стенка пузыря, – сообщил он. – Я же говорю, криворукие виртуал делали. От этой стенки ничего не креатится, она только назад отбрасывает.
Рита долго отказывалась шагнуть в «сломанную стенку», Марик её уговаривал, бросал камни в невидимую оболочку, показывая, как они отскакивают. Наконец Рита шагнула туда и удивилась, когда обнаружила, что идёт в противоположном направлении.
– Этот тупик я на второй день нашёл, когда птичьи яйца собирал. Помнишь, у меня ещё лука не было и я не мог охотиться, – поделился Марик. Рита обиделась:
– А я тебе все секреты рассказываю…
– Извини. Я подумал, тебе станет неинтересно на острове, если это покажу. А мы так здорово играли!
– Никогда передо мной не извиняйся.
– Почему?
– Потому.
После похода на мысок интерес к игре и вправду пропал. По сценарию Робинзон с Пятницей должны были построить лодку, доплыть до соседнего острова, возглавить племя папуасов, сразиться с пиратами, захватить корабль и отправиться к Острову Сокровищ. Но строить лодку уже не хотелось. Дети перетащили часть нажитого добра на мыс и провели там весь следующий день. Сидели, свесив ноги в пропасть, смотрели в океанскую даль и о чём-то говорили. О чём – на следующий день Марик не смог вспомнить. А ещё играли в пристенок, бросая камешки в тупик креареальности.
– Марик, ты мухлюешь. Как у тебя это получается? – раздосадовалась девочка, когда биток соперника, отскочив от невидимой стенки, в очередной раз стукнулся о её камешек на земле.
– Мухлю-юешь… нахваталась словечек у деда. Я выигрываю, потому что вижу, куда бросать.
– Что ты видишь?
– Стенку вижу! А ты её не видишь.
– Опять врёшь, – вздохнула девочка. Верить в чудесные способности друга ей не хотелось: рассущник никогда не сможет полюбить – так владыка Игнатий сказал, а рассущесть Марка происходит из-за всех этих странностей. Лучше бы их не было.
* * *
Время – их живое, биологическое время, самое ценное, что есть у вечника – весёлым резвым жеребёнком неслось вскачь, бездумно оставляя позади неувиденное, необговоренное, непонятое. Промелькнули годы. У подростков появились свои интересы и занятия, но иногда возвращались они в песочницу, где время никак не ощущалось. Выбор в детской игротеке был огромен: путешествия, сражения, головоломки в лабиринтах брошенных городов. Как-то раз Марика пронзило незнакомое чувство щемящей, всепоглощающей тоски. Они гонялись в облаках на авиетках, спереди у которых имелись раструбы, засасывающие водяные капли. Марик огляделся: в какую сторону полетела Ритка? Проделанные в облаках коридоры затягивались туманом, и Марик вдруг понял, что потерял подругу. Потерял навсегда. Её больше не будет. Стало холодно и пусто внутри, и это было непереносимо.
Однажды, когда Марик взахлёб рассказывал ей о первых гэстах – биомеханических роботах, которые управлялись дистанционно и, как даблы, копировали людей, – Рита его прервала:
– Мар, зачем тебе это? Роботы, механика.
– Мне интересно, как всё начиналось. Я, наверное, в академии на историю технологий пойду.
– Подожди, а как же физика? – Рита постаралась скрыть вспыхнувшую на лице радость. – История – это гуманитарный предмет! Значит ты пойдёшь к креоникам, как и я?
– Ну, куда ж ты без меня, – Марик рассмеялся. – Отцу я сказал, что сначала историю науки изучу, а потом уж…
Разговор с отцом произошёл неделю назад. Говорили о поступлении в академию. По окончании школы юноше требовалось определиться с будущей специализацией – чем он займётся в ближайшие тридцать-сорок лет. Рассеянные по космосу люди могли бы вообще ничем не заниматься, благо роботизированные ковчеги кормили своих насельников и поддерживали их вечную жизнь. Собственно, большинство ничего и не делало, ища развлечений и новых ощущений, креатя себе экзотические даблы с нечеловеческими органами чувств, расширяя, как они утверждали, горизонты самосознания. Остальная же, малая и активная, часть человечества пыталась найти смысл своего существования в науке и творчестве. Рисуя перед сыном перспективы, Сергей Старков разложил всех «активистов» по полочкам, и оказалось, что их всего-то четыре вида.
БИОЛОГИ-ЗАРОЖДЕНЦЫ – они смирились с концом научного прогресса и всей человеческой истории, наступившим после открытия Эоса. По их мнению, человечество, признав своё фиаско, должно оставить после себя в физической вселенной активную разумную жизнь, которая бы помнила о людях и была им благодарна. Для этого зарожденцы выводят генетически новую породу существ, с заложенным в них коротким периодом эволюции.
ФИЗИКИ-ПИОНЕРЫ – эти не смирились с концом истории и решили преодолеть саму причину остановки прогресса, поэтому ищут возможность в буквальном смысле обойти тупик, в который упёрлось человечество, погрузившись в Эос. С помощью космических зондов пионеры надеются выйти за пределы макрокосма и в физическом теле проникнуть в Эос, чтобы подчинить его своему физическому бытию. Это, по их мнению, продолжит прогресс и откроет перспективу для открытия новых миров и сущностей «за Эосом».
ХУДОЖНИКИ-КРЕОНИКИ – признают завершение технического прогресса, но не истории человечества. Эос открывает человеку неограниченные возможности для художественного творчества – вплоть до сотворения в Эосе новых совершенных вселенных, что возводит homo creans на самую вершину эволюции. В творчестве нет предела для совершенства, оно бесконечно, и это вполне согласуется с обретённым вечнобытием.
ИСТОРИКИ-ВНЕВРЕМЕННИКИ, они же РЕКОНСТРУКТОРЫ – не считают историю человечества завершённой или не завершённой, поскольку, на их взгляд, история циклична, и прошлое может переживаться как настоящее, если реконструировать историческую действительность и поселиться в ней. Стимулом для создания виртуальных матриц Земной истории стала разрушительная война глобов и стоперов, в результате которой человечество лишилось родной планеты. И многие поддержали благородную идею – с помощью эоскомпьютера скреатить Землю. Сохранившаяся в электронных носителях информация (письменная и визуальная, банки данных интернет-сетей) позволила воссоздать целые континенты, ландшафты, города с сёлами и населить их ботами – копиями людей с искусственным интеллектом. По замыслу вневременников, если охватить реконструкцией всю историю человечества и закольцевать её на саму себя, то можно получить чистое историческое бытие, в котором можно жить вечно, проникаясь бездонным бытийным смыслом.
Между собой четыре сообщества «активистов» никак не конкурировали, иногда находя почву для сотрудничества. Например, художники-креоники могли удовлетворить свои творческие амбиции, участвуя вместе с историками-вневременниками в их реконструкциях земных ландшафтов и городов. А вневременники пользовались академиями креоников, открывая на их базе свои факультеты.
Православная Церковь относилась к этим сообществам нейтрально, больше симпатизируя, как ни странно, научникам – пионерам и зарожденцам. Даже на богопротивный, казалось бы, замысел биологов сотворить новое существо взамен человека смотрели сквозь пальцы. Мама Марика в лицах пересказывала диалог с одним батюшкой, который резюмировал: «Ну что же, милочка, Сам Господь заповедовал нам печься о братьях наших меньших. Ибо блажен праведник, иже и скоты милует». Тот факт, что «скоты» находятся ещё в пробирках, батюшка снисходительно оставлял за скобками. Учёные прямодушны и честны, и это Церкви импонировало. А вот вневременники с креониками, как объяснил Марчику отец-физик, это что-то мутное. Официально креоники вроде как лояльны Церкви и любят цитировать из 150-го псалма: «Хвалите Бога во гласе трубнем, хвалите Его во псалтири и гуслех, хвалите Его в тимпане и хоре… Всякое дыхание да хвалит Господа». Мол, чем же художники-креоники занимаются, создавая всё более совершенные произведения искусства, как не тем же самым – прославлением Господа? И разве не для этого предназначена вечность, каковая, например, дарована ангелам херувимам, непрестанно и вечно поющим осанну пред лицем Божиим? На такое вопрошание креоников о смысле вечной жизни Церковь мягко отвечала, что люди – не ангелы, и предостерегала об искушении впасть в ересь духозаветников-эосфоритов, призывающих к «исходу в дух».
После того, как Марка зачислили в академию, в его комнате появилось гэст-кресло, какие он видел в будуаре у мамы и в папином кабинете.
– Кузя, давай испытаем, – предложил юноша, опустился в кресло и почувствовал, как запястья охватили браслеты внутривенного питания, а промежность обволокло щекотное дренажное поле.
– Куда хочешь отправиться? – раздался голос кибера.
– А это… просвечивать лучами меня не будут? Ну, считывать матрицу тела?
– Считывание уже произведено, информацию я передал, и в эоскомпьютере готова матрица.
Юноша представил, что где-то там, за пределами вселенной, его, Марка, тело плавает в загадочном Эосе, готовое просочиться через квантовые дырочки в любой уголок космоса. Стало жутковато.
– Давай навестим Ритку, – решился он.
– Правильный выбор, – одобрил кибер, – поскольку для тебя гэстинг-приём открыт только в доме Выгорецких и больше нигде.
– Так действуй! – досадливо отозвался Марик. Было стыдно перед Кузей: вот ведь, заранее не подумал об открытых каналах. Гэстинг возможен только там, где хозяева тебя знают, доверяют и дают допуск для креатинга в своём доме. Значит, Ритке тоже поставили гэст-кресло, и она уже позаботилась о допуске для него?
Марик пошатнулся и едва не упал – тело его стояло на двух ногах в знакомом холле, рядом с цветочной тумбой. «А в тумбе-то у них креатор для гостей, – догадался мальчик. – Значит, это я из неё вылез?» Всё вокруг было странным и… не настоящим. Лицо обдало холодом, заледенели и кончики пальцев, словно он застрял в «стенке пузыря» при переходи из одной виртуальной локации в другую. «Наверное, такой обратный эффект. Если для меня настоящего даблы не настоящие, то, когда я дабл, настоящее должно быть не настоящим, а даблы настоящими…» Мысли путались, и не сразу вернулось самообладание.
– Кузя, доложи о визите.
– В доме никого нет. А Маргарита в саду.
Выйдя на улицу, Марик обошёл дом и на заднем дворе среди яблонь увидел фигурку подруги. Рита стояла, вытянувшись вверх и подняв руки с опрыскивателем к кроне дерева. Лёгкое платьице просвечивалось на солнце… Марик и раньше замечал, какой женственной стала та мальчиковая девочка, с которой раньше играл в песочнице, и не раз испытывал горячее к ней влечение. Но сейчас он только любовался, словно девушка неживая статуя.
– Марик, привет! – замахала рукой подруга. – Иди сюда!
– Чем занимаешься?
– Гоняю букарок инсе-кти-цидами. Тьфу, язык сломаешь. Ты бы сказал своей маме, чтобы она убрала этих жучков, надоели уже.
– Ну да! У мамы каждая букашка сосчитана. А ты не мучайся, скажи Кузе, он робота-садовника пригонит.
– Да уж, только ботов здесь не хватало, – фыркнула Ритка. – Сад на то и сад, чтобы самому садить, всё должно быть по-настоящему.
«Так и жучки тоже настоящие», – хотел возразить Марик, но, давно уж примирившись с женской логикой, спорить не стал. Помолчав, произнёс:
– А ты ничего во мне не замечаешь?
– Постригся, что ли? – оглядев с ног до головы, предположила Рита.
– Я дабл.
– Вот те раз! – огорчилась подруга. – А я хотела сюрпризик вечером устроить, заявиться к тебе в дабле. Опередил.
Марик смотрел на Ритку и не мог понять её огорчения. Это же такой пустяк по сравнению… с чем? С тем тоскливым одиночеством, что вдруг накатило на него? С мертвенным холодом в груди? И этот холод никто не разделит с ним, даже самый близкий человек.
Академия и трибунал
На высокой входной арке академии креоники мерцали три слова: КРУО КРИО КРЕО. Что означает сей девиз, Марик не знал. Он стоял у гэсткреатора в начале лестницы и ждал когда оттуда вылепится Ритин дабл. Затем они поднимались по длинной каменной лестнице с высокими парапетами, на которых в бронзовых подставках средь бела дня горели факелы. В мраморном холле нашли указатель: «Вступительная лекция для 1-го курса, ректор А.С. Пышных. Второй этаж, северная аудитория. 9.30».
Аудитория была стилизована под старинный лекторий в форме амфитеатра с деревянными лавками и спускающейся вниз, к кафедре, скрипучей лестницей. На лавках в молчании сидели юноши и девушки. Найдя свободное место, Марик усадил подругу, устроился сам и с любопытством огляделся – сверстников, кроме Риты, он никогда не видел, а тут были ещё и чужаки, мумми. Но вот появился лектор – своим массивным, рыхлым телом он едва втиснулся за кафедру. Марик шепнул Рите: «Интересно, он специально такой дабл под свою фамилию скреатил?» Прочистив горло, академик Пышных заговорил:
– Приветствую вас, дети мои, в стенах этой почтенной аудитории. Я буду краток. После моего напутствия вы разойдётесь по разным факультетам, и пять лет каждый будет идти своей дорогой. Но двигаться вы будете в одну сторону, и ждать вас будет одна награда – высокое чистое творчество. Да, творчество! Это единственное, что вносит смысл в существование нашей молчащей бездушной вселенной. И к его обретению человечество восходило в течении всей своей истории.
Что есть наша история? Это круо, крио, крео. Kruo – на древнегреческом языке это существительное «рогатый скот» и глагол «биться, бодаться». Таковыми были люди от первобытных времён вплоть до завершения войны глобов и стоперов. Человечество непрестанно убивало себя в войнах, оно было безумно, у психиатров имелся даже термин «круомания» – то есть маниакальное стремление вредить себе, биясь головой о стену. Затем с появлением криогенных стазис-камер наступил период kryo – «холод, лёд», в котором мы с вами и пребываем. Человечество теперь пытается себя сохранить, избегая не только войн, но вообще каких-либо рисков для жизни. Человек быкоголовый ушёл в прошлое, но чего мы достигли? Заморозки развития. И выход только один – в creo, что означает «творить». Человек креонический – вот венец, которому…
Краткого напутствие не получилось, академик, похоже, упивался ролью мудрого патриарха, пестующего неразумную молодь. Марик делал вид, что внимает ему с превеликим уважением. В древние времена, как предупредил его отец, учителя получали за свою работу денежную плату, а теперь воздаянием стала сопричастность ученика идеям и мыслям учителя, что конвертируется для учителя в самый ценный в вечножизни капитал – в реализацию своего Я: «Меня знают, следовательно я существую». Так что любое проявление неуважения к преподу было не только оскорбительно, но влекло за собой отчисление из академии.
Наконец всех развели по факультетским корпусам. До начала первого занятия ещё оставалось время, и в общем коридоре толпились студенты-историки, знакомились друг с другом. К Марку подошёл совершенно лысый парень с татуировкой на кончиках ушей, так что казалось, будто уши его венчаются кисточками.
– Меня Эдом зовут, – назвал он себя. – Как тебе речуга толстопузого дедули?
– Да… про быкоголовых он, конечно, знатно завернул, – Марик постарался подстроиться под иронический тон парня.
– А ты из этих, рогатых? – уважительно спросил Эд. – Мощный клан. А я из рысей. Мы новички в Магистрали, наш сектор недавно появился, поэтому детализации маловато, вот и пришёл изучать мифологию. Значит, будем вместе?
– Я вообще-то на отделении истории технологий, – уточнил Марк.
– Не понял… так ты не оборотень?
– Ты имеешь в виду, превращаюсь ли я в животных? Нам вера запрещает иноморфизм, ну, отходить от человеческого облика.
Эдик ошарашено смотрел на сокурсника:
– Ты это, живород, что ли? Тьфу! Ну, попа-ал…
Лысый парень резко повернулся и пошёл прочь, как от прокажённого. Прозвенел колокол, и все заспешили в свои аудитории.
Вводная лекция по истории технологий Марику понравилась, хотя местами она вгоняла в сон. Читал её старичок, чем-то похожий на Григория Степановича. Такой же патриотический. Если дед, рассказывая о космонавтике, начинал всегда с русского Гагарина, то этот затеял рассказ с русского Маера, открывшего Эос. Видимо, решил с ходу увлечь слушателей приключенческой историей.
– В конце двадцатого века в одном из русских секретных институтов работал молодой математик-программист Герман Маер. Для военных он придумывал абсолютный шифр, который бы ни один суперкомпьютер не смог взломать. Такой шифр для кодирования и раскодирования требовал очень много переменных ключей, состоящих из случайных чисел. А где их взять, абсолютно случайные-то?
Старичок-профессор весело оглядел аудиторию и заговорщицки приложил палец к губам:
– Тш-ш… сообщу вам страшную тайну: наш мир детерминирован, в нём нет случайностей вообще. Повторяю: нет во-о-обще! В замкнутой системе, каковой является наша вселенная, все события заранее прописаны в некоей вероятностной матрице. Это как в бильярде: один шар ударяется о другой, он катится и задевает третий, тот касается других шаров – и все эти передвижения можно смоделировать от начала и до конца, в них нет и не может быть неопределённости. Как говорил великий астроном и математик Пьер Лаплас: «Дайте мне начальные условия, и я рассчитаю весь мир». Это осознал и наш Маер. Но не сразу. Бросив математический инструментарий, он попытался построить генератор абсолютно случайных чисел на изменчивости внешней среды. Использовал при этом «шум» полупроводников и случайные перепады напряжения в электрической сети. Такой генератор действовал и мог использоваться в криптографии. Но Маер видел, что внешняя среда всё же детерминирована, возмущения в ней происходят в результате…
На этом месте Марик и начал засыпать: слышал голос, но тот жил отдельно от смысла произносимого. Встрепенулся он, когда старичок ударил кулаком по кафедре:
– Да, сказки! Сказочки! Дальше всё покрыто мраком, и мы можем только гадать, как Маер смог записать свой квантовый шум – шум абсолютной неопределённости, который помог проникнуть нам в Эос. Итак, сказка первая. Наш программист собрал радиометр и повторил наблюдения русской Пулковской обсерватории, где в 1955 году обнаружили реликтовое излучение. Как считают физики, это излучение появилось в момент зарождения нашей вселенной после большого взрыва и всё время распространятся по космосу – как от первого удара бильярдным шаром. Излучение было тогда измерено и записано как шумовое СВЧ излучение. И вот будто бы Маер из этого шума и выделил квантовый шум. Теперь сказка вторая, волшебная. Якобы у Маера имелся чудесный радиоприёмник, слушая который, он записывал радиопомехи, вызванные вспышкой на Солнце – и будто из них получился шум абсолютной неопределённости.
Как бы там ни было, запись у него появилась, на магнитной плёнке. Оказалась она необычной – при каждой попытке оцифровать аналоговое её содержание получались разные результаты. Также она не поддавалась копированию и размножению, то есть никак не дублировалась. Перезапись на другой носитель стирала шум напрочь, оставляя на магнитной ленте лишь слабые шорохи.
Своё открытие Маер не успел обнародовать. Перед самым развалом Советского Союза он исчез вместе с кассетой. Предполагают, что он эмигрировал в другую страну или был арестован органами госбезопасности. Есть даже слух, что его живым забрали в Эос – в это верят эосфориты-духозаветники, так называемые христиане Третьего Завета. Прошло много лет, и кассета Маера вдруг обнаружилась. И вот при каких обстоятельствах…
Дальнейший рассказ увлёк Марика: «Так вот, значит, как удалось проникнуть в Эос! Ларчик-то просто открывался!» Собственно, учёные и не думали никуда проникать – они всего лишь решали проблему миниатюризации нанороботов со встроенным искусственным интеллектом. Такие нанороботы использовались в разных областях, в том числе в медицине – их запускали в человеческий организм, где они путешествовали по кровеносным сосудам, восстанавливая больные клетки и убивая злокачественные. Чем «умнее» был наноробот, тем более сложную работу он мог бы совершить, вплоть до перестройки живых клеток и продления биологической жизни человека. Но всему есть предел. Впихнуть в малюсенького наноробота компьютер с развитым искусственными интеллектом никак не получалось, потому что компьютер не поддавался уменьшению. Ко второй половине ХХI века были созданы транзисторы размером в 1 нанометр, то есть размером всего в десять атомов, и чтобы продолжить миниатюризацию, требовалось перейти на новый уровень – строить транзисторы уже не из атомов, а из квантов, из которых атомы, условно говоря, состоят.
И тут началось самое интересное – приручение квантов. Из-за квантовой запутанности они вели себя неопределённо, а для того, чтобы собрать наноробот со встроенным компьютером, требовались «твёрдые кирпичики». Как же обуздать неопределённость квантов и превратить их в «кирпичики»? Учёные вспомнили о гетеродине, с помощью которого радиоприёмники очищают получаемый сигнал от посторонних шумов. Гетеродин переводится с греческого языка как «иная сила». На сигнал накладывается иной, но схожий, сигнал, и в результате он становится более чётким – как бы фиксируется. То же самое в ХХ веке применялось и в лазерной технике: чтобы преодолеть квантовую неопределённость при измерении двух компонент лазерного излучения, магнитное поле оптического сигнала «смешивали» с иным, похожим магнитным полем – и всё там стабилизировалось. Физики называли это «оптическим гетеродированием». Решение было найдено! Что требовалось? Всего лишь на неопределённость квантов наложить другую неопределённость – и тогда квант «застынет».
– Я не физик, но представляю это так, – объяснял профессор. – Надо было магнитное поле, где пребывают кванты, смешать с магнитным полем, в котором амплитуда колебаний подчинена абсолютной неопределённости. Такую неопределённость пытались сгенерировать разными способами, но ничего не получалось, поскольку, как уже говорил, наш мир детерминирован. Но тут всплыла кассета Маера с квантовым шумом. Подключили его – и кванты стали вести себя послушно.
Первого построенного из квантов наноробота профессор креоники образно сравнил с неуклюжим големом переростком. Получился тот слишком большим для работы в наносреде из-за увеличенного компьютера – инженеры-физики сразу же снабдили его мощным искусственным интеллектом, чтобы он умел самообучаться и перестраивать своё тело в зависимости от изменчивой среды. Первая команда, которую он получил, звучала так: «Самоуменьшайся». И наноробот уменьшился – в мгновение ока он превратился в конструкцию из нескольких квантов. Учёные были в шоке: куда делся их робот?! Тот продолжал получать и отдавать информацию, но… его не было!
Не сразу, но учёные догадались, что эти оставшиеся от робота несколько квантов представляют собой терминал для обмена информацией, а сам робот просочился за субквантовый барьер и там неимоверно разросся. Малюсенький наноробот превратился в Эосе в сверхкомпьютер с неограниченными возможностями. Более того, он сохранил за собой способность перестраивать своё тело по эту сторону субквантового барьера и мог выращивать из квантов предметы со структурой любой сложности – благо вычислительных возможностей теперь ему хватало. Были ограничения только по размерности. Астероид он ещё мог прорастить из Эоса, а вот на планету или звезду силёнок не хватало. Причину этого лектор-старичок объяснил так: «Я не физик, но знаю, что в нашем косном материальном мире есть некие константы и что-то связанное с энтропией, что действует ограничительно».
Поначалу экспериментаторы креатили (они же сами и придумали этот термин) предметы с помощью первого своего наноробота и кассеты Маера с креашумом. Но кому-то взбрело в голову приказать нанороботу прорастить копию дневника наблюдений в соседней лаборатории: «В пятнадцати метрах от твоих квантов по заданному вектору…» И там «из ничего» выросла тетрадка. Оказалось, что роботу всё равно, где проращивать свои «щупальца» из внепространственного Эоса, лишь бы задавались координаты в этом мире. И кассета Маера для этого уже не требовалась – креамагнитное поле, в котором кванты «застывали», наноробот продуцировал креашумом из самого Эоса. Тут и выяснилось, что абсолютная неопределённость, записанная Маером на кассету, в Эосе присутствует естественным образом. Возможно Эос и является таковой неопределённостью в чистом виде.
– Итак, друзья мои, мы совершили с вами путешествие в самые глубины, так сказать, материи. А с чего всё начиналось? – нарочито покряхтев, лектор в дабле старичка нагнулся, достал из-под кафедры деревянную дубину и гулко ударил по столешнице. Довольный оторопью слушателей, продолжил:
– Вот с этой палки всё начиналось, с вещи брутальной и простой. И уверяю вас, предмет «История технологий», который я буду вам преподавать, столь же прост и понятен – при условии вашего полного внимания…
На перемене Марик никого не видел, он бесцельно бродил по коридорам, потрясённый услышанным: «Как всё просто и… грандиозно! И нет никаких тайн! А я так боялся Эоса. Всё теперь понятно, как в механической машинке или в той дубине старичка-профессора. И жизнь понятная – ходи по твёрдой земле, исследуй, открывай, радуйся новому. До тебя уже много сделано, но впереди вечность, чтобы сделать ещё больше!» Марик не заметил, как вслед за шумной стайкой студентов вышел на улицу. Мягко припекало искусственное солнышко, нежно лучилось нарисованное небо. «Это моё, – думал юноша, – и тоже всё понятное. Вот скреатили пустотелый астероид с домами и нарисованным небом. Даже выхода наружу, в космос отсюда наверняка нет. А зачем он нужен? Достаточно знать, что мы летим где-то в космосе внутри каменной глыбы, а космос внутри Эоса, а Эос внутри чего-то другого… Всё внутри чего-то. Только одно непонятно. Этот, как его, Маер – он смог записать абсолютную неопределённость. Откуда он её взял? Что-то не сходится. Профессор сам же говорил, что наш мир – бильярдный стол, где всё движется по определённым законам. А тут вдруг неопределённость, причём абсолютная!»
Однажды после занятий Марк ждал Риту на ведущей к площади монументальной лестнице, в конце которой находились кабинки гэстутилизаторов. Покидать гэстинг абы где, распыляя свои даблы на публике, учащимся строго воспрещалось, поскольку было верхом неприличия. Прислонившись к высокому каменному парапету, нагретому солнцем, он скользил взглядом по мелькающим лицам студентов. Некоторые спускались по лестнице, прыгая на одной ножке – радовались как дети окончанию учебных мытарств.
– Давно ждёшь? – лицо Риты также светилось радостью. «Неужели соскучилась по мне?» – подумал Марчик и сразу отмёл эту мысль. Но сердце глупо забилось.
– Минут десять. Наблюдаю тут за чудиками.
– Знаешь, среди них есть интересные, я с двумя познакомилась, они настоящие уже художники, их картины взяли в Магистраль, во дворец какого-то дожа, – начала рассказывать скороговоркой Ритка и, заметив потемневший взгляд друга, уточнила. – Это девчонки. И они не мумми.
– Понятно. А я пока ни с кем не подружился, – проговорил Марик и перевёл на другое: – Ты тоже хочешь в Магистраль, будешь работать там?
Об этом грандиозном проекте историков-реконструкторов Марику рассказывал отец, когда решался вопрос, куда идти учиться. Юноша тогда удивился: это же сколько информации должно быть в матрице, чтобы вместить Землю, меняющуюся на протяжении тысячелетий, да ещё с искусственными людьми! Поистине Эос безразмерен.
– Там почти все креоники работают, поле непаханое, и мне… – Рита не договорила, за спиной раздался знакомый голос:
– А, живород со своей живородкой! Вот так встреча!
На три ступеньки выше стоял Эд и сверху бесцеремонно их разглядывал. Ситуация была унизительной, хотелось всё побыстрей прекратить.
– Ты, это, иди домой, – примирительно отозвался Марик и, почувствовав жалкую нелепость сказанного, добавил: – И дома уши помой.
Глаза Эда сузились, он осклабился:
– Мне-то зачем подмываться? Это подружке твоей надо, а то забрюхатит, раздуется пузырём, как потом будешь с с…й своей спариваться?
Марик поднялся на две ступеньки вверх и кулаком врезал мумми в живот – до лица дотянуться он не смог. Эд отшатнулся и лягнул ногой. Удар получился не точным, каблук ботинка лишь скользнул по щеке, но лицо обожгла острая боль. Не раздумывая, Марик прыгнул в ноги противника, и тот, перекувырнувшись через его спину, полетел вниз по ступенькам. Там он поднялся на ноги, и Марик не поверил своим глазам: уши у Эдика вытянулись и заострились, на их кончиках зачернели кисточки. Лицо продолжало трансформироваться в кошачью морду, сквозь одежду проступила шерсть – и вот уже на ступеньках, поджав передние лапы, сидела огромная рысь, изготовившаяся к прыжку. Марик одним махом вскочил на парапет. Внизу были лютый зверь и… Рита. Она стояла, опустив руки, словно потерявшийся ребёнок. Марк схватился за бронзовую рукоять факела, выдернул его из подставки и прыгнул навстречу оборотню. Время замедлилось, Марк видел перед собой шерстистый череп чудовища и успел в полёте поднять руку, чтобы со всей силы хрястнуть по нему увесистым канделябром.
От сшибки потемнело в глазах. Они катились вниз, вцепившись друг в друга. Оборотень был ещё живой, он в агонии рвал клыками голое, уже безрукое плечо Марика, во все стороны летели ошмётки мяса с осколками костей, а Марик единственной рукой пытался зажать ему пасть. Боли не было, она отключилась в дабле – с ума же сводил муторный дух факельного масла, палёной шерсти и металлической ржавчины. Так пахла, наверное, липкая кровища, в которой елозили сплетённые тела. Наконец зверь затих, рассыпался в руках, и Марик вдруг осознал себя в гэст-кресле, в своей комнате.
Минут через десять к нему ворвалась Рита:
– Живой?!
– Рита, Ритунь, чего ты плачешь… Я же был в дабле.
– Ой, глупая, я так испугалась… Слушай, я тоже уйду.
– Куда?
– Из академии. Тебя же отчислят.
– Ну-у… я на оскорбление отвечал.
– Всё равно отчислят. А здорово ты кошку драную факелом огрел! Как она, палёная, верещала!
– Драная, конечно, но с клыками. А из академии не вздумай уходить, ты же картины рисовать хочешь, и, вообще, тебе учиться надо. Да, может, и не отчислят.
Вечером в дом Старковых поступил гэстинг-запрос от проректора академии. Гость явился, недолго говорил с родителями, затем попросил аудиенции с Марком.
– Кто из вас первым применил физическую силу? – спросил он.
– Сначала ударил я.
Проректор удовлетворённо кивнул и сообщил:
– Дальнейшее ваше присутствие в академии не желательно.
– Но я же не просто так, он оскорбил меня и… мою подругу!
– Вы тоже нанесли оскорбление своему оппоненту, задев честь его клана рысей. Он участвует в одном из секторов Магистрали, где воссоздаются мифы народов мира, а факультет наш напрямую сотрудничает с реконструкторами.
– И меня за это выгоняют?
– Не за это, конечно. А за драку. Вы же знаете наши правила. Человек, опустившийся до уровня быкоголового, уже не поднимется до творца – круо не может стать крео, а посему обучать его в академии креоники не имеет смысла. Согласитесь, это логично… Да вы не переживайте! – проректор смягчился, оставив официальный тон. – Эту рысь мы тоже отчислили.
* * *
Весть об отчислении, конечно, огорчила родителей. Отец, впрочем, понадеялся, что через знакомых филологов-креоников ему удастся попробовать поставить вопрос о пересмотре дела, но тон его был неуверенный.
– А пока что займись физикой, – предложил он сыну. – Преподавать буду я и, думаю, мои коллеги из «Макрокванта» тоже подключатся. Из любого поражения надо уметь извлекать пользу.
Рита после уговоров Марика и родителей уходить из академии не стала. Встречались они теперь редко – учёба занимала всё время девушки, а Марк целыми днями слонялся по базе «Макрокванта», которая походила на небольшой ковчег, набитый аппаратурой и с кораблями-зондами в ангарах. Пару раз он выходил на поверхность астероида, но там было ещё скучней – совершенная тьма вокруг. Как объяснили друзья отца, место для базы выбрано на самом краю космоса, дальше только искривлённое пространство, за которым неведомо что. Людей на базе было мало, основная работа кипела в дата-центре в Эосе, но туда Марчика не пускали – рано ему в Эос, прежде надо экзамен на существимость сдать. Только какой может быть экзамен, если его из академии выперли?
Занятия по физике проводились без всякого расписания и плана – кто освободился, тот и читал курс. Из-за этой путаницы дело двигалось туго, и юноша вскоре потерял интерес к учёбе. Куда занятней было выполнять разные мелкие поручения физиков и слушать их научные диспуты. Как оказалось, не все в «Макрокванте» были уверены, что за стенкой искривлённого пространства находится известный всем Эос. Возможно, полагали они, там тоже Эос, но иной природы. Отец Марика яростно с ними спорил, и результаты исследований, кажется, были на его стороне – зонды фиксировали на границе макромира те же эффекты, что и в микромире. В частности, физики столкнулись с «эффектом наблюдателя», который вносил ошибки в их расчёты и сбивал с толку.
Миновал месяц, когда отец пригласил Марчика для серьёзного разговора.
– Маркус, я мог бы тебе этого не говорить, но тогда был бы не честен перед тобой. Помнишь моё обещание, что филологи за тебя похлопочут? Мне не верилось, но они всё же достучались до Высокого Трибунала. Сразу говорю: ты можешь отказаться.
– От чего?
– От свидетельствования перед трибуналом академиков. Проблема в том, что если он тебя не оправдает, то прежние обвинения будут подтверждены самой высокой инстанцией – этим самым трибуналом, и тогда для тебя закроется дорога не только к креоникам, но и в другие академии. Трибунал ведь и состоит из глав академий. В итоге, не получив образования, ты не сможешь присоединиться к сообществам. Если кто тебя и примет, то лишь какие-нибудь маргинальные группки. Ты станешь изгоем.
Немного подумав, Марк ответил:
– Папа, я всё-таки попробую. Считаю себя правым и отступать не буду.
Отец тяжело вздохнул:
– Да, каждый имеет право на выбор. Даже родной сын.
Трибунал назначили на ближайшую пятницу. Было ещё время, чтобы отказаться, и Марик ходил в раздумьях. По настоянию мамы перед «судилищем» он побывал у своего бывшего законоучителя, но епископ Игнатий ничего нового не сказал, лишь повторил отцовы слова о свободе выбора и благословил: «Помогай тебе Бог». Единственный, кто мог дать дельный совет, был дед. Но тот давно уже ушёл в холодильник и по своему обыкновению пребывал там в гиперсне. На какой год или даже на какое столетие он поставил «будильник» включённому анабиозу, никто не знал.
На коллегию прибыли не все академики, но кворум собрался – десять особ, облачённых в мантии. Пышных сидел с краю, главным он здесь не был. Председательствующий представил Марку адвоката, флегматичного с виду академика средних лет, и открыл заседание Высокого Трибунала. Говорил только он и задал всего два вопроса.
– Насколько мы знаем с ваших же слов, – начал судья, – вы ударили сокурсника, потому что он нанёс оскорбление вам и вашей подруге. В чём заключалось оскорбление вам?
– Обозвал живородом.
– Расхожее ругательство. Этого явно недостаточно, чтобы оправдать ответ насилием. Какое оскорбление он нанёс не вам, а второму лицу? Повторите дословно.
– Я не буду это повторять.
– Тогда любые слова в вашу защиту будут бездоказательны.
Марк молчал. Его адвокат точил алмазной пилочкой ногти, время от времени поднося кончики пальцев к глазам. Позёрство, ведь даблам маникюр не нужен. Председательствующий торжественно возгласил:
– Именем Высокого Трибунала объявляю, что с вас, Марк Сергеевич Старков, снимаются все обвинения. Заседание Трибунала закрыто.
Никто не встал из-за стола, чего-то ожидая. Академик Пышных поднял голову и полюбопытствовал:
– Скажите, молодой человек, когда вы взяли факел в руку… У вас вообще факел-то с каким литературным героем ассоциируется?
– С Промете-ем, – недоумённо протянул Марк, всё ещё не веря, что его восстановили в академии.
– Очень хорошо! Очень. А историю Прометея знаете? Чем он закончил?
– Знаю. Его Зевс простил и от цепей освободил.
– Прекрасно! – Орест Евгеньевич не понятно чему радовался. – Это вы про греческого Прометея. А что было с его реальным прототипом, с Абрскилом?
– С ке-ем?
– Абрскилом. Ну вот, не знаете! Для этого и нужно академическое образование, чтобы знать. Жду вас на занятиях.
А дома его ждали отец и мама. Выслушав рассказ о странном «судилище», Сергей Николаевич подытожил:
– Молодец, что не стал повторять вслух гадости о девушке. Вот здесь тебя и проверили на «быкоголовость», как они её понимают. А с Прометеем ты, да, прокололся. Никогда не утверждай, что знаешь предмет, если ничего не знаешь о происхождении предмета. Это я тебе как физик и как бывший филолог говорю.
Будучи в благодушном настроении, бывший филолог пустился в разглагольствования:
– Откуда взялся миф о Прометее? Его в Грецию вместе с другими древними сказаниями привезли аргонавты из Кахетии, что была на побережье Чёрного моря. Там они искали золотое руно и по ходу дела услышали от абхазов много местных легенд. По одной из них Абрскил, пойдя против воли богов, подарил людям огонь. В отместку боги заключили его внутрь горы, завалив огромным камнем вход в пещеру. Считалось, что там он будет маяться до скончания времён.
– Жуть! – вздрогнул Марчик. – Уж лучше в кандалах на скале и чтобы орлы клевали.
– Греки тоже так подумали и переиначили абхазскую легенду, как бы её облагородив. Не вынесла душа поэта суровости седых времён. Да-а… Вот что, наши занятия по физике мы, конечно, закончим, раз уж тебя вернули в академию. А древними греками я с тобой позанимаюсь, чтобы назубок знал.
Той же ночью Марику приснился сон. Будто тысячи лет бродит он во мраке по каменным лабиринтам пещеры, натыкается на стены, а выхода нет. И вдруг понимает, что спит и всё это происходит во сне. Понимание этого возникло, когда он ощутил присутствие ещё кого-то. Его не видно в темноте, и он молчит. От этого существа исходила такая неизбывная тоска, что сердце остановилось… Марк проснулся, судорожно глотая воздух. Ужас потихоньку отпустил его, и накатила тёплая волна радости: он во сне отчётливо сознавал, что спит, вот она – существимость! А причудившегося Абрскила он постарался стереть из памяти.
* * *
Занятия, сессии, экзамены, зачёты – время утекало как песок сквозь пальцы на пляжном берегу их острова детства, острова Марго. Они иногда возвращались туда. Рита скреатила на берегу дом с открытой верандой, использовав в его оформлении свою курсовую работу по дизайну. На веранде им нравилось пить чай, бездумно любуясь на океан. Затем, словно очнувшись, бежали туда, бросались в высокий прибой, плавали до изнеможения и валялись на пляже, зарывшись в тёплый песок. Марик помнил, каким хрупким подростком была она раньше – помнил её худенькую спину с пунктиром выпиравших позвонков, острые плечики. Теперь же в ней появились округлость и уверенная грация будущей женщины.
Ещё с уроков отца по древней мифологии Марик знал, что Маргарита переводится с греческого как «жемчужина». Таким эпитетом – маргаритес – греки величали богиню Афродиту, покровительницу мореходов, и на островах в Средиземном море устраивали ей святилища, куда приносили жертвенные жемчуга и морские раковины. Однажды, ныряя близ их острова, он увидел на песчаном дне огромную перламутровую раковину, которая своей закрученной формой напоминала спиральную галактику. Удивительно! Среди водорослей и мельтешащих рыбок – целая галактика! Воздуха уже не хватало, но Марик рванулся вниз, схватил находку и поднял на поверхность, где на волнах качалась доска его электросёрфа. Вернувшись на берег, он опустился на одно колено и положил раковину к ногам дремавшей Маргариты.
– Слух преклони, о, богиня! Хорошо приносить сообразные жертвы вечным богам, на Олимпе живущим! – произнёс торжественно юноша. – Кубок прекрасный прими и, охраняя меня, проводи под защитой бессмертных!
Девушка ответила сонно:
– Это ты из Гомера наизусть шпаришь?
Взяв тяжеленную раковину, приложила к уху – шумит. Благосклонно кивнула:
– Рядом ты можешь возлечь. А в благодарность я тоже твой слух услажу… или усладю, в общем, каким-нибудь гимном.
– Так говорила богиня. Он радостно ей покорился, – хмыкнул Марик и упал животом на песок. Рита возвела горе свои нежносерые, прохладноглубокие очи:
– Кузя, мой раб кибермудрый, Марсу божественному ну-ка подай славословье…
– Не-а, так не честно, – пробормотал юноша и прижался щекой к тёплому песку. А Рита стала читать загорающиеся в воздухе строчки про шар кровавый, что мчат на третьем своде неба «бурные конИ». Марк лежал и слушал голос Риты, приятно накатывающий вместе с прохладным пенистым прибоем, что лизал его сухие пятки. Закрыл глаза: плывущий красный шар и рядом какие-то тени. Эти самые «конИ»?
Закончив декламацию, Рита сказала серьёзно:
– А ведь ты мне давно ничего не дарил. Сначала подарил мне отвёртку…
– Униключ. Так инструмент назывался, – поправил Марик. – И почему не дарил? А на дни рождения?
– Это не считается. Ты хоть и Марс, а знаешь, что твоё имя означает? Кувалда.
– Не кувалда, – снова поправил Марик, – по-латински «маркус» означает «молоток».
– Ты не молоток, а настоящая кувалда!
– Извини, не подумал.
– Сколько раз тебе говорить, никогда передо мной не извиняйся!
– Хорошо, – Марик перевернулся на спину и попробовал сменить тему. – Смотри, там что-то плывёт.
Рита села и всмотрелась в горизонт:
– Там просто чёрная неподвижная точка. Откуда ты знаешь, что плывёт?
– Сколько раз тебе говорить, я могу отличить живое от неживого, поэтому и зрение у меня особенное. Смотри: оно неподвижно, но всё равно движется… А сейчас остановилось. Интересно, почему?
– Так уж я и поверила, мухлёжник, – Рита бросила в друга горсть песка. Марк рассмеялся:
– Хочешь, проверим?
Стащив в воду электросёрфы, они помчались к горизонту. Чёрная точка оказалась белоснежной шхуной. Она действительно стояла на месте, а вдоль фальшборта двигался бородач с пёстрой банданой на голове и что-то забрасывал на верёвке, покрикивая: «Марк… Марк…»
– Это не тебя куклы ищут? – подплыв к Марику, весело спросила Ритка. – Твои друзья?
Марк только махнул рукой: поворачивай обратно. Но Рита, выключив двигатель сёрфа, по инерции подплыла ближе и услышала отчётливей: «Mark eight-foot… mark seven-foot… Here all shoal! Come back, captain».
Рита догнала Марика уже у берега, когда тот затаскивал доску на песок.
– Горе-мореходы на риф заехали, глубину меряют, – сообщила она. – Слушай, Марк, а мерить настоящее ты можешь?
Марик удивился её серьёзному тону.
– Это как?
– Ну, чтобы измерять: это более реальное, а это менее.
– А что измерять? Тут или настоящее, или нет. Без полутонов.
Рита о чём-то думала, закусив губку, затем осведомилась, глядя куда-то вдаль:
– А ты картины писать или просто рисовать не пробовал?
– Не-а, куда мне до тебя.
– А вообще, чего ты хочешь?
– То есть?
– Ну, от жизни чего хочешь?
– Хочу в Эос попасть.
– Понимаю. С существимостью проблемы продолжаются? – Рита сочувственно глянула на Марка.
– Нет, в Эос я хочу пробраться прямо в теле, с обратной стороны. Я же тебе рассказывал про «Макроквант». Они там на месте топчутся, а я, может, что-нибудь придумаю. Пойду другим путём – не буду упираться в формулы, а рассмотрю проблему в целом. Первым делом надо понять, почему наука в тупик зашла. Думаю, история технологий мне что-то и подскажет.
Рита, видя, как сразу оживился Марк, вздохнула:
– Всё же ты мог бы попробовать. Я слышала, что занятия живописью помогают учёным делать открытия. Вместе могли бы работать, у реконсов.
– Ты после академии к ним пойдёшь?
– Наверное. А вчера они показывали свою библиотеку, и там есть потрясная картинная галерея. Представляешь, картины великих художников взяли и скреатили – портреты оживили, пейзажи сделали объёмными, можно даже внутрь войти и погулять! Тебе точно понравится.
– Ну, давай, приобщай… А пока пойдём в фазенду, хотя бы соль смоем.
Приняв душ и запахнувшись в шёлковый халат, Марик вошёл в гостиную. Ритка собирала на стол, влажные волосы её были стянуты в смешной хвостик, по-домашнему. Вспомнилось, что она рассказывала про «свой домик», в который ещё малышкой играла в родном ковчеге, до их встречи. А что сейчас? Продолжение игры или этот дом – их дом! – настоящий, не игрушечный?
Марик плюхнулся в кресло и спросил:
– Слушай, а что за боты были на шхуне? Издали я не разглядел. На пиратов, вроде, не похожи. И шхуна с трубой. На ней, кроме парусного вооружения, паровой двигатель установлен.
– Заметил, да? – Ритка рассмеялась. – Ну, сдаюсь! Уж не стала тебе сразу говорить. Это бунгало я из другого ролевика слямзила. Я же не архитектор, мой дизайн только внутри. И вместе с домом, получается, ещё что-то из того ролевика перетащилось. Я потом почищу, не переживай.
– А с чего переживать. Ошиблась, бывает. Всё-таки дом мужик должен строить, не женское это дело.
* * *
Марик сдержал обещание и позволил привести себя в Библиотеку, которую реконсы именовали с большой буквы. Собственно, здесь был всего лишь каталог матриц-реконструкций истории Земли, а сама база данных находилась в Эосе.
– Отсюда можно попасть в любую локацию Магистрали – в Римскую империю времён Цезаря, в Китай Мао Цзэдуна и так далее. Если, конечно, имеешь специальный допуск. – Рита вела Марика по коридору и объясняла. – Если же допуска нет, то тебе скреатят копию локации, и делай в ней что хочешь, но в оригинал матрицы никто не пустит… А вот здесь комната отдыха для сотрудников и посетителей.
Они ступили на эскалатор и оказались в центре полутёмной залы с подсвеченными фонтанами. Зала была круглой, с аркадой по периметру, где и находилась виртуальная картинная галерея.
– Брейгель Старший, – скомандовала Рита киберу и, взяв Марика за руку, ввела его в галерею: – Тебе должно понравиться.
Марик крутил головой: картины и вправду были необычные, живые.
– Смотри, смешная женщина, с кастрюлей на голове, – он остановился перед полотном, изображавшим ад. – Кастрюля вместо шлема? В руке меч, на поясе кухонный нож… Хочет ад завоевать?
– Это самая страшная картина Брейгеля, называется «Безумная Грета», – округлила глаза Рита. – Нам на лекции рассказывали, что она показывает пороки того времени, жадность и быкоголовую воинственность. А мне жалко Грету. На самом деле картина написана по притче, которую любили рассказывать во Фландрии. У неё умер муж-пьяница, она стала нищей, и последней каплей стало то, что кто-то украл сковородку. Обезумев, Грета подумала на чертей, вооружилась и пошла в ад, все сковороды, на которых жарились грешники, разбросала, нашла свою и вернулась домой.
– Точно сумасшедшая.
– И вовсе не сумасшедшая, – не согласилась Рита. – Есть ещё вариант: в ад Грета пошла за своим непутёвым муженьком, чтобы обратно домой привести. Ей же тяжело было одной.
Марик всмотрелся в лицо безумной женщины – та беззвучно открывала рот, словно звала кого-то.
Галерея казалась бесконечной: пляшущие крестьяне, скорбные процессии, люди, ангелы, бесы… Рита взахлёб рассказывала, почему она без ума от Брейгеля Старшего:
– Он очень реалистичный, выписывал самые-самые детальки! Вот чулки полосатые, и видно, что они из шерсти. А вот у гуляки в руках кружка с пивом, и краешек у кружки отбит… Наш препод говорит, что Брейгель – это икона аутентичности для реконструкторов. И здесь, в галерее, они набираются вдохновения!
– Да, всё как настоящее, – согласился Марик и остановился перед знакомой картиной – «Охотники на снегу».
– Мой дед её с собой в космос брал. Я когда маленький был и увидел картину в его каюте, то захотелось заглянуть вон за те снежные горы – есть там что-нибудь живое или нет.
– Не получится, – отрезала Рита и, как бы извиняясь, добавила: – В живых картинах креазона ограничена средним планом. Вон за тем домом с башней, скорей всего, задник сцены.
Марику уже надоела экскурсия, и он ещё задержался перед «Охотниками на снегу», впитывая глазами средневековые игрушечные домики и замёрзшие зеленоватые пруды с танцующими на них фигурками людей.
– А на коньках там можно покататься? – спросил он.
Взявшись за руки, они вошли в картину. Сразу же обдало свежим и дымным воздухом – где-то неподалёку жгли костёр или это был дым из печей. Лаяли собаки, вверху пронзительно свиристела какая-то птица. На снегу у ног лежали две пары деревянных колодок с железными полозьями.
– Это наше, – пояснила Рита, – кибер услышал твоё желание покататься.
Забрав коньки, они со смехом скатились вниз по ледяной дорожке. Затем Марик, сидя на снегу и держа Ритины ноженьки на своих коленях, не спеша затягивал ремешки на колодках. Первые же шаги по льду едва не закончились для юноши плачевно – конёк задел камень, и он с трудом удержал равновесие. Неподалёку дети вместе со взрослыми играли в айсшток, катая камни по льду, и поэтому пришлось перебраться через насыпь в соседний пруд. Народа там было больше, со всех сторон раздавались смех и оханья падающих на лёд. Не стесняясь ботов, Марик обнял подругу за талию и повёл в танце, вспоминая детские навыки – как они катались на Великих Озёрах в ролевике про индейцев-ирокезов. Уже тогда он понял, что, обнявшись и танцуя, проще удержаться на скользком льду. Спустя полчаса Рита призналась, что страшно проголодалась. Марик хотел отшутиться «Тут одно меню, внутривенное», – но не стал напоминать о физиологии гэст-питания. В реальности все вкусняшки, поглощаемые даблом, сублимировались в аминокислоты, витамины и жировые эмульсии, вводимые в организм гэстящего через браслеты внутривенного питания.
Над входом в таверну на одной петельке качалась на ветру вывеска с белым оленем и святым Евстафием. Хозяйка в чепце с нарисованным лицом поставила перед ними деревянные миски. Всё, что Марк хотел сказать любимой в тот вечер, вдруг показалось плоским, выцветшим, и он смолчал…
Во тьму отверстые врата
– Ты уже начал готовиться к выпускным? – спросила Рита. – Не знаю, как тебе сказать… я психтесты сдала.
– Досрочно? На существимость?
– Да. Мне уже Эос открыли и в холодильник водили, показали мою стазис-камеру. Я попросила, чтобы соседнюю никто не занимал. Ты не против, если мы там рядом будем?
– Конечно. Да и кто займёт… А почему сразу не рассказала?
– Ну, у тебя же эти… проблемы.
– Я существимость после сессии сдам, отдельно, чтобы успеть лучше подготовиться, – заверил Марик. – И как там в Эосе, интересно?
– Словами не объяснить. Я вот что думаю… В Эос меня отправляли прямо из дабл-кресла, ненадолго. Может, мне вместе с тобой повторить? Ты смог бы там потренироваться. Если включить таймер на несколько минут, то будет безопасно – рассущесть не успеет затянуть.
– Попробовать можно. Только как Кузю обдурить?
– Мы же вместе отправимся, с моим допуском.
– Может и выгорит, – Марик взял Ритину ладошку, ласково пожал. – Ты моя… верная Грета!
Вылазку в Эос назначили на понедельник, на четыре часа утра.
– Понимаешь, там если подумаешь о ком-нибудь, представишь его, то сразу его почувствуешь. И тебя тоже сразу почувствуют, – объясняла Рита. – И даже мысли твои смогут прочитать, если не будешь себя контролировать. А ночью, по времени нашего ковчега, знакомых там мало – они спят, и меньше риска обнаружить себя.
– Про то, что мысли читают, я слышал. Говорят, что все сознания в Эосе голые, как в общей бане. Вот бы глянуть…
– Лучше, Марик, не надо, тебя сразу засекут! А у нас тайная операция. Ты уже придумал, как её назовём?
– Давай без названий. Не в игрушки играем.
– Как хочешь. Завтра будет выходной, в академию не надо, и ты хорошенько выспись, чтобы в Эосе голова была ясной-ясной. Если получится, не вставай до полудня.
– До полудня не смогу.
– А ты, когда утром проснёшься, из-под одеяла ногу на холод высунь. Я так в детстве делала, чтобы интересный сон дальше досмотреть. Нога замёрзнет, ты её обратно под одеяло – и отогревай. Когда будешь отогреваться, то сон снова сморит.
Марик действительно проспал до полудня, потому что всю ночь ворочался, думал об их с Риткой авантюре. В четыре часа утра он устроился в дабл-кресле и стал ждать. Наконец раздался Кузин голос:
– Маркус, на твоё имя поступила просьба о встрече в Эосе. Время аудиенции рекомендую строго регламентировать.
– Кто конкретно запрашивает? – имитируя безразличие, уточнил Марик.
– Маргарита Выгорецкая, ковчег «Назарет».
– Про ковчег мог бы и не говорить, – Марик подпустил в свою реплику раздражения. – Таймер поставь на пять минут. И матры наших даблов запускай вместе, одним пакетом, чтобы там не искать друг друга.
Марик прикусил язык, – наверное, ляпнул в конце что-то не то. И увидел пред собой Риту в белом тумане.
«Ни о чём не думай, – прозвучал её голос, – не думай!»
Он и не успел подумать. Вверху засинело небо, а в ноги ткнулся тёплый песок. Они оказались на острове Марго. На первозданном острове их детства, где нет ещё бунгало на берегу.
«Здорово да?! Это я заранее скреатила, – рассмеялась Рита. – У тебя такое лицо…»
«Ты уже читаешь?»
«Что?»
«Мои мысли».
«Если только ты захочешь… Ой!»
Рита замолчала, и голос её прозвучал в сознании Марка:
«Марчик… милый… Ты, наверное, не хотел, просто не умеешь пока… тогда я тоже должна раскрыться…»
Марк увидел себя глазами Риты. Жёсткие складки губ и твёрдый подбородок, морщинка над переносицей и доверчивые глаза. Такой сильный, беззащитный и… любимый.
Шумящий прибой мерно накатывался на песчаную сушь, пытаясь её обнять. Песчинок мириады, и океан безмерен, и вечно будут обниматься две души, проникаясь и вспениваясь радостью понимания и любви. И будет длиться эта вечность почти пять минут по человеческому времени, пока холодный электронный мозг не отключит таймер.
* * *
С утра в академии была череда предэкзаменационных консультаций, и Марик с Ритой виделись мельком. Встретились только вечером, в ковчеге, на берегу озера. О чём-то говорили, сидя у воды, а когда пересекались взглядами, то словно отражались друг в друге, понимая всё-всё… Душа Марика радостно пела, и голова слегка кружилась. Он не заговаривал о той близости в Эосе, и Рита тоже молчала – боясь расплескать то, что их наполняло.
Договорились продолжить «тренировку» в следующие выходные.
– Теперь будет проще, – уверяла Рита. – Мне так объясняли, что главное при первом входе в Эос – это скреатить воображением первую структуру, за которую можно будет ухватиться и держаться дальше. И я сразу создала наш остров. Теперь при вхождении в Эос тебе достаточно о нём подумать, и вот ты уже там, почти в безопасности. Предметный мир острова зацепит твоё внимание, ты осознаешь себя в нём – и воображение уже не будет скакать туда-сюда, креатя другие миры, в которые можно провалиться.
– И что же, я так и буду на острове…
– Да нет же! Остров – это опора. Оттуда можно двигаться дальше. Мысленно представишь знакомого человека, и он пустит тебя в свой мирок, если согласится. Или сам создашь миры. Но для этого придётся напрячь свою существимость, чтобы что-то другое скреатить. Ведь чтобы появилось новое, надо сначала отрешиться от того, что тебя окружает. Понимаешь? Одно дело ты в пустоте, и любая твоя мысль сразу овеществляется. И совсем другое, когда вокруг тебя уже есть предметы, и ты среди них живёшь. Ощущение существующего сильней случайных мыслей и того, что воображаешь, и это ощущение просто так тебя не отпустит.
– Понятно. Я, вообще-то, примерно так это и представлял.
Проговорили они до самого вечера. Вернувшись домой, Марик лёг спать. Свежий воздух на озере прояснил голову, и в ней, словно рыбины в прозрачной воде, бок о бок недвижимо, слегка пошевеливая плавниками, стояли две мысли-мыслищи. Они молчали, не вступая в дискуссию друг с другом. Первая мысль: «Рита переживает за меня, эх, Ритуля, какая ты хорошая!» Вторая: «Рита ведёт меня за руку, как беззащитного ребёнка, а должно быть наоборот».
Марик выскользнул из кровати и запрыгнул в дабл-кресло, скомандовал: «В Эос». Оказавшись на пляже, повернулся спиной к океану и представил на берегу их дом. Он напряжённо вспоминал мелкие детали деревянного сооружения, и «фазенда» росла прямо на глазах, достраиваясь помимо его воли. «Всё оказалось слишком просто, – понял Марк с некоторым разочарованием, – ведь матрица этого дома уже имеется в Эосе». Взбежав на крыльцо, внутри он обнаружил пустые комнаты. Здесь пришлось поработать, вспоминая придуманное Ритой убранство. Реконструкцию закончил в гостиной. Последний штрих – цветы на сервированном обеденном столе. Сначала поместил в вазу развесистый букет алых роз. Затем, подумав, заменил их маргаритками с белыми лепестками. Этот сорт астровых, на взгляд Марчика, ничем не отличался от обыкновенных ромашек, но Рите нравился именно он. Вот она удивится, когда они войдут в Эос!
Сделав дело, зачем-то вернулся на берег океана, хотя скомандовать «домой» можно было и в бунгало. «Ритка права. Вот я сейчас подумал: «Домой!», – и ничего не произошло. Нужно волевое усилие. Здесь и вправду безопасно, на нашем острове! – обрадовался Марик. – И всё кругом, как в нашем детском ролевике, точь-в-точь! Только нет стенок между нарисованным и скреаченным. Потому что нарисованного нет. Или есть? Проверить-то легко. Если отплыть от берега метра на три, то должна быть стенка…» Марик так живо это представил, что увидел её – слегка затуманенную, едва уловимую плоскость. Как и в детстве, когда совал руку в ничто, он, не раздумывая, заглянул за плоскость и… провалился.
Остров исчез, что-то белое его окружило. Снег? Да, это снег. Где он? Вроде как… нигде. Присутствие здесь ощущалось как отсутствие в прежней реальности – и только по этому чувству отлучения понималось, что он вообще существует и где-то находится.
Посреди бескрайнего снежного поля стоял сарай. Внутри было пусто. В углу желтел ворох сена, и Марик догадался, что это летний хлев на заброшенном пастбище. Сквозь щели в дощатых стенах задувала позёмка. Тоскливая реальность происходящего была вполне осознанной, и Марик расслабился: всё под контролем, он не рассуществлён и в любой момент может сказать «домой». Но тут же возникло понимание, что никакого дома нет и не будет, и выхода отсюда нет. И что эту реальность вместо него осознаёт кто-то другой… Ворох сена зашевелился, и он увидел себя со стороны – мужчина средних лет, сгорбившись, сидел на земле и растопыренными пальцами вытряхивал соломинки из своей седой шевелюры. Потёр небритый подбородок, встал. Офицерская шинель со споротыми погонами и без хлястика висела на нём колоколом, как женская юбка. Он подошёл к воротам хлева, но не стал их открывать, а остановился напротив щели между дверными створками и стал смотреть. Мир в щели был узкой вертикальной полоской – снизу белой, а сверху серой, цвета неба. На что это похоже? На градусник? Нет… Он попытался вспомнить, как точно выглядит градусник, но образ предмета истёрся из памяти, как истёрлась и эта, уже не до конца понимаемая игра «в щёлки» – такая же бессмысленная, как белый снег. Притупившаяся тысячелетняя тоска вдруг прорвалась, но не исторглась воплем, а скрутила душу и зашелестела тихим вздохом, как выжатая досуха тряпка.
Человек лежал на земле и скрёб обломанными ногтями мёрзлую землю, тихонько подвывая. Вдруг он повернул ладонь и поднёс запястье к глазам, словно что-то показывая… нет, не себе – ему, Марку! Удерживая проблеск самосознания, Марик рванулся назад, в свой мир – представил пред глазами затуманенную, едва зримую стену и, проскочив сквозь неё, заорал: «Домой!».
* * *
– Ты не Марк, а Мрак пещерный! Таймер забыл включить! – Ритка была напугана и сердита. – И зачем один пошёл?! Мы же договорились на следующие выходные!
Началось всё с того, что Марик, пытаясь объяснить себе, с кем это он столкнулся в Эосе, стал расспрашивать Риту про её двоюродную прабабку, ставшую привидением. По слухам, та умерла от старости в стазис-камере, когда сознанием своим пребывала в Эосе, и вот теперь якобы её душа витает на самом дне Эоса, в мифической Небуле, откуда временами раздаётся плачь. Ритка стала доказывать, что никто на самом деле покойницу в Эосе не видел, и вообще глупо верить в такие детские фантазии. Вот тогда он и проговорился про незнакомца в шинели.
– Почему фантазии, почему детские? Эосфориты, например, считают, что души могут переселяться в Эос. И я же видел его! Он был такой настоящий… даже реальней меня.
– Мне жаль, Марик, но это и есть рассуществление.
– Нет! Это другое. Если это и фантазии, то не мои. Я придумать такого не мог, там всё чужое.
Рита прикусила завитой локон, выбившийся из причёски, и о чём-то думала. Затем сказала:
– Маркош, а помнишь, ты рассказывал про этого… Абс…
– Абрскила.
– Он же тебе тогда приснился? Такой одинокий, запечатанный в пещере. И этот тоже одинокий, в сарае, откуда нет выхода. Может, это один и тот же сон?
– Какой сон?! Я же не спал! И, вообще, во сне нельзя узнавать новое – что есть в голове, то и снится. А вот скажи, пожалуйста, откуда я узнал такое слово – «хлястик»? Этот офицер залез мне в голову, и я понимал, что военное пальто на мне называется шинелью, и что на ней отстёгнут хлястик, это такая стяжка на пуговицах. Вот откуда?!
– Он не залезал.
– Что?
– В голову твою он не залезал. Наоборот, он тебе открылся. Ты же знаешь, в Эосе мысли читаются.
– Точно! Он хотел мне что-то сказать. Но не получалось из-за боли и сумасшествия в голове. Только под самый конец, когда по земле катался, он смог руку от земли оторвать и показать.
– Что показать?
– Татуировку. На запястье. На ней два слова латинскими буквами. Одно я запомнил: «Fuge». Я никогда не знал этого слова и сейчас не знаю. Так что, Ритуль, это был не сон.
– Fuge? – Рита насторожилась. – Я сейчас как раз загружаюсь латинским языком. Так вот, с латинского это слово переводится как «беги».
– Беги? Куда бежать? – не понял Марк.
– Если это предупреждение, – девушка попыталась рассуждать спокойно, – то нам важнее знать, не куда, а от чего или кого бежать…
* * *
С помощью нейростимулятора Рита «загружалась» латинским и фламандским языками для практикума – так обтекаемо на факультете креоники называли последний экзамен. Официально считалось, что это тест на зрелость – испытуемый, помещённый в искусственную реальность, должен был себя как-то проявить. На самом же деле студенты, отданные реконсам в качестве рабсилы, банально пахали на Магистраль.
– А мы там ничего не поломаем, в Магистрали вашей? – спросил Марик своего куратора-реконса.
– Во-первых, в саму Магистраль, то есть в оригинал исторической матрицы, тебя никто не пустит. Тебе предоставят её копию, где и будешь создавать своего бота или прокачивать уже существующего. Если комиссия признает твои изменения удачными, то перенесёт их в оригинал, а если нет – практикум провален. Тут всё по-взрослому, парень.
– А почему мы? Этим профессионалы должны заниматься.
– Мы и занимаемся. Да только нас мало, а ичей в матрице миллиарды.
– Ичей?
– Мы их так называем. ИЧ – это искусственный человек, он вовсе не робот. Так вот, представь, Магистраль охватывает более трёх тысяч лет, и в каждом веке уйма искусственных людишек. И всеми надо заниматься.
– Если не хватает сил, то можно же уменьшить матрицу, ну, её временной охват, – Марик выразил что-то вроде сочувствия.
– Нельзя. Мы уже и так подужались. Многие предлагали начать Магистраль с пятнадцатого века до нашей эры, опираясь на письменные источники Египта и Китая, но тогда бы выпала история Европы, о которой на ту пору мало что известно. И пришлось нам перенести точку отсчёта в восьмой век до нашей эры – это когда у греков после тёмных веков появилась письменность. Та же проблема с конечной точкой. До сих пор идут споры, кто начал войну глобов и стоперов, это очень болезненная тема, поэтому Магистраль мы решили ограничить началом так называемого предвоенного периода.
Куратор замолчал, ожидая правильного вопроса.
– И как же вы справляетесь?
– О, нас выручило то, что в восьмом веке до нашей эры людей на Земле было мало, примерно семьдесят миллионов. Мы хорошо поработали с тем периодом, прокачав много ичей, и они дали хорошие наследственные линии. Как ты знаешь, у них самих нет генетической памяти, но ничто не мешает хранить её в эоскомпьютере и передавать последующим поколениям.
– Я слышал, что дети ботов не растут.
– Ичей, молодой человек, и-чей. Конечно не растут. Компьютер помогает им и рождаться, и менять форму тела по мере взросления, и стареть. Это всё-таки программы, хоть и материализованные.
– И что, всех надо прокачать?
– Всех не получится. Но нам достаточно очеловечить ключевые фигуры в Магистрали, чтобы под их влиянием сформировался тамошний социум. А потом уж, в живом социуме, сформируются и личности остальных ичей. Поэтому к очеловечиванию ключевиков у нас особые требования. Прокачивать, проживать вместе с ними надо не в дабле, а в своём физическом теле – чтобы в их программы записались естественные человеческие реакции на внешние факторы. И кому этим заняться, как не вам, студентам-выпускникам? Вы пока ещё не в холодильнике и при этом уже сформировались как личности. Чем попусту тратить свою биологическую жизнь, поработайте на общую пользу.
– Всё равно не понимаю, – упорствовал Марик. – Дабл от человека ведь ничем не отличается. Почему нужно в своём теле там проживать, а не в дабле?
– Собственно, мы так и прокачиваем, через гэстинг. И результаты, конечно, есть, – замялся куратор и как будто стал оправдываться: – И неплохие результаты! Вполне удаётся передать ичам человеческие черты характера. Затем, когда мы отпускаем их в самостоятельную жизнь, они сами развиваются, растут как личности. Но, по факту, качество роста у гэст-прокаченных намного хуже, чем у реал-прокаченных.
– Почему?
– Трудно сказать. Тут ещё какой фактор действует? У вас, у юных, есть энергия роста, которая может подстегнуть вызревание ичей. А передаётся эта живая энергия только в реале. Так что дерзайте. Биологического месяца, максимум четырёх, вам булет достаточно, чтобы начать и завершить дело. И, уверяю, вы там не заскучаете.
Вернувшись с консультации, Марик попытался разобраться в своих желаниях. Разговор с насмешливым реконсом как-то не вдохновлял на «подвиги во славу святой Магистрали». Но возникло желание «утереть нос им всем». Для этого нужно было придумать что-то такое… Вот Ритка – умница, пошла по высшему уровню, нашла в матрице какую-то залепуху – кто кому из художников Северного Возрождения приходится учителем. Неделю с этим носилась: «Я нашла, нашла!» Сколько баллов начисляют за исправление ошибки в Магистрали? Вроде бы нисколько, а сразу дают звание магистра.
Ритина оживлённость перед началом практикума наводила тоску. «Ты чего такой смурной ходишь?» – спрашивала она. Юноша молчал. Неужели сама не понимает? Последние дни они вместе. После экзамена на зрелость их ждёт холодильник. И встречаться в реале будут по расписанию, раз в год на Пасху. Вечность в стазисе. А она бегает, смеётся, не замечая, как утекает время – их время!
Когда Марик назначил Рите свидание на острове Марго, та ответила через кибера: «Извини, до песочницы дольше шлёпать, давай встретимся у озера». Как ни старался юноша умерить свой шаг, к озеру он явился намного раньше. Скинул ботинки, растянулся на берегу, закинув руки за голову. Прямо над ним рождались облака: только что синий купол был совершенно чистым, и вдруг чуть замутился – проявилось облачко, похожее на кусочек ваты. За ним появилось второе облачко, третье. Потом они свились в один белый барашек, и тот медленно побрёл по своду купола.
– Загораешь?
Марик повернул голову. Рита стягивала с себя мокрую футболку, под которой была майка в сине-белую полоску. Под этими полосками вздымались груди – упругие, с выпирающими твёрдыми сосками.
– Сейчас отдышусь… Решила пробежаться… А то сижу, сижу, зубрю экзамен этот…
– Красивая у тебя майка.
– Дурак.
– Почему дурак?
– Между прочим, её мне твой отец подарил, на день рождения, в десять лет.
– А тебе и сейчас впору, – поддел Марик.
– Точно дурак! Она же неразмерная, из симбиотического волокна. Сергей Николаевич сказал, что моряки не снимают тельняшек до самой смерти.
– Ну, да. «В тельняшке и умирать не тяжко», – этак он мумми подзуживал. А тебя, помню, охламоном обзывал, поэтому тельняшку и подарил. Ты же хулиганкой была.
– А знаешь, где тельняшки изобрели? В Нидерландах!
– О-о! – привставший, было, Марк снова опрокинулся на траву, закатил глаза: – Ритуль, ты специально эту майку надела, чтобы снова меня агитировать?
– А чем тебе Нидерланды не подходят? У нас каждый год гениальные картины появляются, и всякие там войны, бунты, инквизиция, ереси, святые и разбойники, полно приключений! Шестнадцатый век! А гэсты тебя чем приворожили? Скукотища одна.
– Это моя специализация.
– Понимаю, история технологий. Но смотри, что я там нашла. Кузя, справку…
Бесстрастным голосом тот произнёс: «Начало машинной цивилизации, сменившей цивилизацию конной тяги, которая длилась более шести тысяч лет, хронологически можно отнести к первой половине шестнадцатого века. Именно тогда произошёл переход к капиталистическим отношениям, давшим толчок научно-технической революции. Центром этих событий были Нидерланды, где находилась экономическая столица Европы – Антверпен. В середине шестнадцатого века в его порту одновременно стояли на рейде до 2500 кораблей со всех концов света. Тогда же в Антверпене открылась первая международная торговая Биржа, заложившая основы…»
– Хватит, – прервала Рита. – Видишь? Шесть тысяч лет люди ездили на конях, обжигали горшки, воевали железными палками, и ничего не менялось. А тут вдруг что-то стронулось, и произошло это в Северной Европе!
– Да, пуп истории, – хмыкнул Марик.
– Я и говорю! Эпохальное время! А мы с тобой ещё приключений добавим – будем связь в матрице держать, оставлять друг другу разные знаки. Я кое-что нарисую и отправлю на выставку, которая будет в Антверпенской бирже в день её открытия. Это 1531-й год. Ты туда придёшь, среди разных картин увидишь мой рисунок и сразу догадаешься, что это я. А дальше, по этой картине, найти меня будет просто.
– А что ты нарисуешь?
– Пока не знаю, и вообще, Марчик, это же секрет! Тебе будет загадка, вот и отгадывай. И для меня придумай свой знак, чтобы я отгадывала.
– Уже придумал. На ярмарке повешу плакат: «Милая Рита, скучаю, приходи в полночь к фонтану у ратуши». Напечатаю крупными буквами на интерлингве, благо печатный станок к тому времени уже изобрели.
– Конечно! – Рита просияла. – Так ты технологию печати возьмёшь? Какого-нибудь типографа-изобретателя прокачаешь?
– Подожди, я же не сказал, что согласен.
Рита его не слушала, продолжая расписывать выбранную эпоху. Как понял Марк, она искала в матрице такое время и место, где женщины-художницы были бы в почёте. И наткнулась на описание Нидерландов рубежа XV–XVI веков итальянцем Лодовико Гвиччардини: «Здешние женщины отличаются большой смелостью, светлыми волосами и возвышенным духом. Иногда они становились художницами, как Анна Смейтерс из Гента. Она была превосходной миниатюристкой».
Рита вызвала объёмное изображение, и в воздухе повисла малюсенькая половинка пшеничного зерна. Когда Кузя увеличил зёрнышко, на нём стал виден рисунок – мельница с крыльями.
– Это нарисовала Анна Смейтерс. Зёрнышко с мельницей она послала другой художнице, Марии Бессемерс, – восторженно комментировала Ритка. – Та вызов приняла и к мельнице пририсовала мальчика, держащего в руке другую, игрушечную, мельницу. И всё поместилось на половинке зерна! А ещё там были художницы Лиевина Бенинг, Катерина ван Хемессен…
– И кого из них ты решила прокачать?
– А вот не скажу! И ты мне не говори про своего бота. Мы будем искать друг друга и найдём!
Голограмма зёрнышка продолжала висеть в воздухе. Марк смотрел на мальчика с мельницей на ладони, вспомнил о прогулке в картину «Охотники на снегу» – и понял, что хочет в эту маленькую, аккуратную страну. Вместе с Ритой.
* * *
– Нидерланды? Почему бы и нет, – отец был рассеян в тот вечер и отвечал после долгих пауз, думая о чём-то своём. – Какой, говоришь, век? Шестнадцатый? Да, хороший век. Авантюрный. Я тоже любил приключения. Для практикума выбрал бота-китобоя и гонялся по морю за белым левиафаном. Лишние баллы за коррекцию матрицы я не получил, зато себя испытал. Всяко лучше, чем сидеть за чертёжным столом.
– Тогда уже были компьютеры, пап. Я же говорил тебе, что выбрал конструкторское бюро в двадцать первом веке. А сейчас Ритка зовёт в шестнадцатый.
– Ну и зачем тебе гэсты?
– Ты не понимаешь! Первые радиоуправляемые гэсты произвели революцию – люди уже тогда, ещё до Эоса, стали подменять свои тела.
– Революция произошла раньше, – Сергей Николаевич поднял вверх палец: – «Где работает машина, там не болит спина» – это звучало уже в шестнадцатом веке. А спустя четыреста лет сей афоризм логически завершил поэт Поль Валери: «Сними с человека кожу – и обнаружишь машину». Заметь, это сказал поэт, представлявший Францию в первом мировом правительстве, точнее, в его предтече – в Лиге Наций. А ещё Валери написал:
- О гордый ростр златого корабля,
- Несущийся среди валов солёных…
- Змеёй скользят изящные борта
- И нежатся среди объятий пенных.
- И, влажная, прекрасна нагота
- Сверкающих обводов драгоценных.*
(* сноска: Перевод с французского Алексея Кокотова)
Восхитительно, да? О мёртвых вещах он писал, как о живых, а в живом видел механику. Всё спуталось в человеческих умах, и началось это как раз в шестнадцатом веке, в северной Европе, выбравшей машинный путь развития цивилизации. Там ищи своих первых гэстов.
После разговора с Ритой и отцом Марк взялся штудировать шестнадцатый век, надеясь найти там начатки гэстинга. Кибер послушно демонстрировал ему изобретения той поры: испанский мушкет, карманные часы, ватерклозет, карандаш, вязальный станок, микроскоп. Из машинерии – ничего революционного, ведь трудно назвать машиной придуманный немцами в 1543 году колёсный аппарат с парусами, этакий сухопутный корабль.
– Показывать следующий, семнадцатый век? – скучным голосом справился Кузя.
– Показывай, не развалишься, – упрямо скомандовал Марчик и тут же понял, что попался на удочку хитрого кибера. Того хлебом не корми, или чем там, электричеством, лишь бы втюхивать наивным пользователям свою базу данных. В воздухе появилась голограмма телескопа, затем жидкостного термометра, часов с кукушкой, логарифмической линейки, механической счётной машины, способной выполнять сложение-вычитание и умножение-деление… В воздухе запахло серой и озоном – это Кузя продемонстрировал «адскую машинку» Отто фон Герике – шар из серы, натираемый руками, который стал первым генератором электричества. Вскоре, в 1666 году, когда Европа ждала конца света, Исаак Ньютон с помощью призмы разложил Божий белый свет на семь цветов спектра. Под самый занавес века был изобретён паровой котёл и заработал водяной насос с паровым двигателем.
Как понял Марк, с Ньютона и началась самая настоящая научно-техническая революция. Просматривая стереофильм, он с удивлением узнал, что создатель классической механики параллельно занимался богословием, пытаясь через изучение пророчеств распознать сроки прихода Антихриста. Как одно сочеталось с другим?! Наука и богословие. И плюс ещё… магия! О Ньютоне ходили слухи, что втайне он занимается алхимией. Открылось это, когда учёный заболел, отравленный ртутью – непременным атрибутом алхимических опытов. Знали также, что Ньютон штудирует труды придворного белого мага Джона Ди, который оставил после себя в Англии самую большую научную библиотеку. Влиянием Ди объяснялась и ересь арианства, странным образом проникшая в богословие Ньютона.
Взявшись за Джона Ди и прокручивая его жизнь, полную необычайных приключений, Марк забыл о времени. Этого весьма образованного потомка кельтских друидов (фамилия его образовалась от слова du, что переводится с валлийского как «чёрный») не раз обвиняли в чародействе и некромантии, и небезосновательно – чего стоит одно только вызывание из тонкого мира ангелов и вступление с ними в контакт с помощью нумерологии. Маг был убеждён, что будущее человечества – в свободном перемещении между тремя слоями бытия, и что это возможно благодаря каббалистической, алхимической и математической мудрости. Рано или поздно, утверждал он, «охема», то есть тело души человека, отделится от материальной субстанции, ибо «стрекоза не должна печалиться о судьбе хризалиды», то есть о судьбе своей опустевшей куколки.
От церковного осуждения этого белого мага с чёрной фамилией неизменно спасало покровительство английской королевы. И дело было не только в гороскопах Джона Ди, которые удивительно точно сбывались для неё, и прочих важных услугах, – например, магической защиты от подброшенной куклы королевы, проколотой булавками. А ещё в том, что Ди служил её личным шпионом. Много путешествуя по Европе, бывая при монарших дворах, маг посылал королеве агентурные донесения, подписывая их условленным шифром «007». В каббале, которую практиковал придворный маг, цифра 7 выражала конец плодотворного процесса, победу. А победы Джон Ди, разумеется, желал своей родине – островной стране, которая, по его мысли, должна превратиться в мировую империю и сыграть особую роль в истории человечества. Когда разразилась война между протестантской Британией и католической Испанией, агент «007» был послан ко двору императора Священной Римской империи, чтобы склонить того к нейтралитету. Испанский флот, Grande Armada, был разбит, после чего песнь «Rule, Britannia!» – «Правь, Британия, морями!» разнеслась по всей планете, и Британская империя стала быть.
– Кузя, глянь к реконсам, в библиотеку матриц. Этот персонаж хорошо там прокачен? – Марк оторвался от жизнеописания, наткнувшись на совпадение: Ди бывал в Нидерландах – и как раз в тот период, который выбрала себе Ритка.
– Да, с ним всё в порядке, – с сожалением в голосе ответил кибер. – Фигура известная, это один из титанов Ренессанса, поэтому его прокачивал даже не студент, а учёный-реконструктор.
– Ладно, показывай дальше, может учёный чего-то упустил. Ведь они могут ошибаться? – у Марка появился азарт: славно бы утереть нос этим надутым реконсам и лично своему куратору.
Окончив Кембридж, Джон Ди стал преподавать греческий язык в колледже Святой Троицы и вскоре получил там зловещее прозвище «колдун» – все его тайные занятия каббалой и магией вышли наружу. Сам он магию считал наукой и верил, что сотворение мира Господом было «актом исчисления», а посему с помощью чисел и символов человек способен обрести божественную силу. В колледже Святой Троицы Джону Ди было скучно, и он стал переезжать из одного города в другой. Уже тогда белый маг начал вести личный дневник, который обнаружился спустя полвека после его смерти в кедровом сундучке с потайным вторым дном. В нём Ди описал свои попытки с помощью каббалы связаться с ангелами. Помогал ему медиум Эвард Келли. Свои опыты они назвали «енохианскими» – по имени Еноха, библейского пророка, взятого живым, в сущем теле, на Небо. Сеансы начинались с пылкой молитвы Джона, которые длились иногда целый час, после чего на стол водружалось магическое зеркало, за которым наблюдал Келли и сообщал всё увиденное и услышанное. Ди сидел поблизости и записывал. Поначалу полученные сведения не радовали, – существа, представлявшиеся ангелами, показывали красочные видения и сообщали некие мутные пророчества. А потом в один из дней 1581 года, как сообщается в дневнике, им явился сам архангел Уриэль. Он объяснил магам, как создать восковой талисман – печать Эммета, с помощью которого легко вступать в контакт с насельниками иных сфер. В ходе последующих сеансов неведомые собеседники объяснили Ди и Келли способ коммуникации с ними и передали алфавит ангельского, «енохейского» языка.
– Кузя, это они всерьёз, что ли? – не выдержал Марк. Уж слишком сказочной история получалась.
– С ангелами Ди и Келли общались три года и при этом забывали о еде, истощившись под конец до полуживого состояния. Значит, получали какую-то информацию, иначе бы прекратили опыты, – рассудил кибер. – Известно, что собеседники надиктовали им девятнадцать текстов, так называемых «Енохейских ключей». Остальное неведомо. Главное же, как считал маг, эти опыты вполне подтвердили то, что сам он изложил в «Иероглифической монаде», написанной за двадцать лет до контакта с «ангелами».
– И что за монада такая?
– «Иероглифическая монада» – самое загадочное сочинение Джона Ди. Опосредованно этот труд повлиял на развитие науки в механистическую эпоху. Он стал рубежом между алхимией и современным естествознанием, дав апологетам научного знания понимание своей высокой миссии. В ту пору поездки по Европе Джона Ди во многом были связаны с движением розенкрейцеров, чей «Орден розы и креста» провозгласил грядущую реформацию человечества на основах знания физической вселенной и тайн духовного царства. Получается, он сам стоял у истоков этой тайной организации. Манифест розенкрейцеров прямо пересказывал его «Иероглифическую монаду», а изображение самой монады красовалось на титульном листе их главной книги «Химическая свадьба». Розенкрейцеры дали начало многим другим масонским ложам, которые содействовали наступлению эпохи Просвещения и дальнейшему так называемому прогрессу. Впоследствии, в девятнадцатом и двадцатом веках, идеи розенкрейцеров воплотились в трёх Орденах течения Нью-Эйдж. Первый Орден был для малопосвящённых и назывался «Внешним», в нём адепты обучались каббале. Второй Орден…
– Довольно, – прервал заскучавший Марк, – покажи монаду эту.
В воздухе возник фолиант в кожаном переплёте, за обложкой открылся титульный лист с рисунком: на галочке, похожей на морскую волну, зиждился крест, вершину которого попирал круг с точкой в центре и полумесяцем наверху.
– Какой-то человечек, – удивился Марк, – смотри: ножки растопырки, тело с руками и голова с рогами. Так дети чёртиков рисовали.
– Здесь нет ничего детского. Учёные мужи в геометрических фигурах видели метафизические сущности: круг – это Солнце, точка – Земля, а рога изобилия – это Луна, полумесяц.
– Слушай, Кузя, тебе что, всё это нравится? Астрология, метафизика, рога изобилия. Ты же компьютер, а не человек!
– Спасибо за напоминание, – кибер изобразил обиду. – Да, я логическая машина, поэтому всё парадоксальное меня интригует. Как сказал один великий логик: парадокс – это истина, ставшая на голову для привлечения внимания.
– Да иди ты к счёту! Интегральному. Лучше переведи вот это, – Марик указал на заголовок над рисунком:
MONAS HIEROGLYPHICA
Ioannis Dee, londinensis,
ad MAXIMILIANVM, DEI CRATIA,
Romanorvm, Bohemiae et Hvngariae regem sapientissimvm
– Разве ты ещё не загрузился латинским языком? – с осторожным осуждением вопросил Кузя и, не дожидаясь ответа, поспешно перевёл: «Иероглифическая монада. Джон Ди из Лондона посвящает Максимилиану, Божиею милостью императору Римскому, Богемии и Венгрии королю мудрейшему». Книга была напечатана в типографии Виллема Сильвиуса в апреле 1564 года и приурочена к восшествию Максимилиана II Габсбурга на престол Священной Римской империи, которое произошло спустя три месяца.
– А написана когда была?
– В том же самом году. Посмотри, в конце книги есть авторская подпись: «Тот, кому Бог дал волю и способность познать таким путём Божественную тайну через вечные памятники литературы и закончить в великом покое этот труд 25 января, начав его 13 числа того же месяца. 1564 г. Антверпен». Ну и самой последней строкой предупреждение: «Здесь грубый глаз не различит ничего, кроме Тьмы, и придёт в великое отчаянье».
– Вот уж напугал… А ведь Антверпен – это Нидерланды. И середина шестнадцатого века, куда мне надо попасть! Слушай, а есть ли эта книга в матрице? – справился Марк наобум, неведомо на что надеясь.
– Разумеется, есть, – отрезвил его Кузя, за долю секунды обратившись в Библиотеку и просканировав матрицу. – Там её издали в обозначенном году… в Лондоне.
– В Лондоне? – переспросил Марк, всё ещё не веря в удачу.
– Да. Странно… Наверное, реконструктора, который прокачивал Джона Ди, сбило с толку это слово на титуле – «londinensis», то есть «происшедший из Лондона». Но специалист не мог так ошибиться, он же знал, что сам Ди родился в Лондоне и здесь сообщает о себе, а не о происхождении книги.
– А почему ты думаешь, что книгу в Магистрали скреатил реконс, который прокачивал Ди? – Марк воодушевился. – Её мог сделать и тот, кто прокачивал императора Максимилиана. Фигура императора важнее какого-то мага, поэтому сначала работали с его линией в Магистрали и по списку скреатили подарки к его коронации, в том числе и эту книгу. И этим занимался вовсе не специалист по Джону Ди, поэтому и накосячил. Матрица вся соткана из пересечений судеб разных ботов, и такие нестыковки случаются – нам рассказывали об этом на консультации. Не удивлюсь, если Джон вообще не ездил в Антверпен в том году.
– Да, его там не было, – подтвердил Кузя, вновь просканировав Магистраль.
– А вообще, какая тут связь с Антверпеном?
– Она зашифрована в этой фразе: «…познал Божественную тайну через вечные памятники литературы». Открыто Ди не мог сообщить, что свою «Монаду» он написал под впечатлением от прочтения рукописи другого мага, Иоганна Тритемия, которую церковь не допустила до печати. Ди долго искал эту рукопись, названную Тритемием «Стеганография», и нашёл её в типографии в Антверпене. Маг был так потрясён, узнав её содержание, что тут же из-под его пера и вышла «Монада». А в Магистрали, получается, Джон Ди эту «Стеганографию» не читал, поскольку в Антверпен не ездил, но «Монада» несмотря ни на что появилась. Налицо причинно-следственная аберрация.
– Расскажи о Тритемии, – скомандовал Марчик, чувствуя, как затягивает эта история. Внутри всё пело: да, он утрёт нос академикам! Ведь нарушена одна из магистральных исторических линий! Тритемий написал «Стеганографию», та вдохновила Ди написать «Иероглифическую монаду», которая стала программой действий для розенкрейцеров, от которых в свою очередь пошли масоны, последователи Нью-эйджа и других тайных обществ, в течение столетий продвигавших «реформацию человечества на основах знания физической вселенной и тайн духовного царства». И вот в начало этой длинной цепочки кто-то вложил фальшивое звено – а он, Марк Старков, всё исправит!
* * *
Рита встретила Марика по-домашнему, в свободной мальчиковской рубашке, расстёгнутой у ворота и с закатанными рукавами. В комнате её был сущий бедлам: бумажные книги и альбомы лежали на полу и висели в воздухе, раскрытые на нужных страницах и забытые. Всюду валялись разноцветные клубки ниток, скомканные клочки бумаги и куски картона с какими-то рисунками. В центре на горизонтальной подставке громоздилась огромная деревянная рама с натянутыми внутри нитями.
– Привет, мастерица. Чем это у тебя так благоухает?
– Не нравится? Это скипидар – чистый природный продукт, древесная смола. Лучше бы подошёл керосин, вот он как раз противно воняет, но керосина в шестнадцатом веке ещё не изобрели.
– А зачем тебе скипидар?
– Бумагу пропитывала, чтобы калька получилась. Это такая прозрачная бумага…
– Знаю, я ведь чертёжник. Картинки переводишь?
– Да, с картонов. Смотри…
Рита уселась на скамейку перед рамой и кивнула, чтобы он пристроился рядом. Марчик стал сбоку наблюдать, как девушка поправила натянутую под нитями бумажную ленту с нарисованным растительным орнаментом и взялась за деревянные шпульки. Они закружились над станком, как пчёлы над цветочной поляной, вплетая разноцветные шерстяные нити в шёлковые струны основы. Оголённые девичьи руки двигались плавно, завораживающе, и нарисованный образец начал обретать матерчатую плоть.
– В этом есть что-то магическое, – заметил Марик.
– В древности женщин ткачих считали колдуньями, – кивнула Рита, – а мужчин кузнецов – колдунами. Ты как, определился с темой для практикума?
– Да, буду искать в матрице рукопись. Как раз для колдуна. Только он не кузнец, а настоящий маг и некромант. Представляешь, даже в семнадцатом веке маги были! Джон Ди его звали.
– Первый раз о таком слышу, – хмыкнула ткачиха. Марк почувствовал, как за её наигранным пренебрежением сжалось клубочком щемящее разочарование.
– И напрасно. Джон Ди сотни лет владел умами, писатели о нём романы сочиняли. Помнишь тот дурацкий литературный ролевик, который мы выбрали из-за названия?
– Почему дурацкий? – проронила Рита, не отрывая глаз от ткацкого полотна. – Там же про любовь. Маргарита душу заложила, чтобы спасти своего ненаглядного Мастера.
– Ну да, а сама не доиграла. Помнишь, ты целые куски пропускала?
– Вот уж, буду я голой на метёлке кататься!
– Я и говорю, что дурацкий. Маргарита там сущая ведьма, а Мастер – кукла, безвольный дурачок. Так вот, Булгаков начал писать эту книгу сразу после того, как в Европе вышел роман «Ангел Западного окна», и считается, что Булгаков его прочитал. Роман целиком про Джона Ди. В нём тоже мистика, герои живут и в нашем мире, и в потустороннем, путаются с разными демонами. И Джон Ди там тоже был Мастером – в Кембриджском университете ему присвоили учёное звание Мастера Искусств. Представляешь, наука раньше называлась искусством.
– А я тебе всегда говорила, что искусство выше всех наук.
– Не выше, а равнозначно, – поднял палец Марчик. – Чем бы человек ни занимался, это всегда будет искусство – то есть что-то искусственное, в отличие от природного естества. Так думали и в античности, и в Средние века, вплоть до эпохи Просвещения.
– Повезло твоему Джону.
– Почему это?
– Успел стать Мастером Искусств, и это Просвещение ему не помешало.
– Вообще-то он жил… – растерянно проговорил Марк и, наконец, понял, в чём дело. – Так я ведь не в семнадцатый век отправляюсь, а к тебе, в шестнадцатый! Он тогда книгу и написал, а умер в 1609-м году, то есть в семнадцатом веке уже.
– Ну ты балда! – Рита бросила шпульки и обвила Марчика за шею. Поцелуй в щёку обдал жаром.
– И о чём эта рукопись? – отстранившись, Рита как ни в чём не бывало снова взялась за плетение матерчатой картины.
– Какая рукопись?
– Ты что, забыл? – рассмеялась девушка. – Ты же рукопись в матрице будешь искать.
– Э-э… там про научную магию и шифрование, – собираясь с мыслями, ответил Марк. – Думаю, тебе это не интересно. Написал её один священник, Иоганн Тритемий, и назвал «Стеганография», то есть «тайнопись». Он считал это особым видом криптографии.
– Про криптографию я знаю. Там мощные компьютеры подбирают случайные числа для ключей. А магия тут с какой стати?
– Знаешь, да не всё, отличница моя ненаглядная. Нам на истории технологий рассказывали, что даже Маер не смог написать программу генерации случайных чисел. Это невозможно, потому что в нашем мире ничего случайного не бывает. Абсолютного шифра нет в природе. Но Тритемий решил эту проблему. И представляешь, как?
– Ну, говори.
– Ты не поверишь! Он не стал искать решения в нашем мире, а взял и обратился к ангелам.
– Чушь какая! Они что, сообщали ему эти самые шифровальные ключи?
– Всё проще. Ангелы кто? «Вестники» – так с греческого переводится. И если с ними отправлять информацию, то её никто не прочтёт, кроме адресата. Тут, правда, надо знать, к каким конкретно ангелам обращаться, а то можно нарваться… Кузя, прочитай из письма аббата Тритемия о духах воздуха.
Невидимый кибер прокашлялся и произнёс скрипучим старческим голосом:
«Использовать их очень сложно из-за их бунтарства. Они не подчинятся никому, кроме эксперта в этом деле. Если новичок без должного навыка отправит духов воздуха с посланием… то явятся они в беспорядке, как безумно бегущие с поля боя солдаты без командира, оглашая воздух воплями. Тем самым они часто раскрывают все секреты, которые содержатся в отправленных с ними посланиях…*»
(* сноска: Цитируется по изданию 1606 г. «Steganographia» в переводе автора)
– Достаточно, Кузя. Рукопись книги Тритемий отправил обычной почтой своему другу, монаху-кармелиту, но лучше бы он этого не делал. Пока почтарь вёз конверт, получатель умер и рукопись попала к настоятелю монастыря. Он прочитал, разразился такой скандалище, что Тритемия чуть не выперли из аббатов. Печатать «Стеганографию» ему не разрешили, и рукопись куда-то исчезла. Написанная в 1499-м году, она была напечатана только в начале семнадцатого века, и церковь снова её запретила, приказав уничтожить тираж.
– И тебе нужно эту рукопись найти. Здоровское приключение!
В Риткином голосе Марик уловил нотку зависти. Он смотрел на подругу, любуясь скользящими движениями оголённых рук. Как она изменилась за последние месяцы! Ведёт себя по-прежнему, по-девчоночьи, но сколько в ней женского. И длинные волосы, которые отрастила для жизни в матрице шестнадцатого века, ей вполне идут. Раньше короткая стрижка выделяла мягкую угловатость скул и самость серых, неизъяснимых глаз, словно отдельно живущих на лице. А сейчас всё соединилось в цельное и совершенное. Будто и не Ритка перед ним.
– Ну, у тебя тоже много интересного, – Марк кивнул на ткацкий станок.
– Это я для практики. Занималась миниатюрой, глаза заболели, и решила в перерыве освоить шпалеры. В Голландии каждая женщина умела ткать. И тут свои секреты, смотри…
Марик склонился над полотном, разглядывая переплетение нитей.
– Видишь зубчики, где нити разного цвета друг на друга накладываются? – Рита тоже наклонилась над тканью, водя подушечкой указательного пальца по рубчатой поверхности. – Это называется «штриховка». Так в Голландии делали цветовые полутона, для чего требовалось всего шесть цветов. А в других странах, чтобы передать оттенки, нити красили даже в тридцать тонов и вплетали их без наложения, отдельно. Рисунок получался неживой. А когда нить на нить, то живой…
Они соприкоснулись щеками. С нежной девичьей кожи сбежали на Марика солнечные, пьянящие покалывания, голова закружилась, и он обнял свою любимую.
КНИГА ВТОРАЯ. ДА БУДЕТ ДАНО ДОСТОЙНЕЙШЕМУ
Поиск рукописи
Марк стоял, держась за фальшборт судна, и смотрел на вздымающиеся волны Северного моря. Они пугали своей реальностью, хотя были сотканы из скреаченных атомов, как гобелен из крашеных нитей. «Всё здесь искусственное, – внушал себе юный практикант, – помни об этом, чтобы не утонуть!» Но как помнить? Корабль плывёт и плывёт, а ни одной перегородки между локациями до сих пор не ощутилось. Понятно, что здесь не детская песочница, где два шага ступишь и наткнёшься на стенку, а целый креариум, диаметром в 20 километров. Им ведь с Риткой для прохождения практикума предоставили самое большое помещение в ковчеге. Но всё равно стенки должны были уже встретиться, ведь сколько морских миль позади…
Корабль поскрипывал, переваливаясь с бока на бок, а где-то вверху, будто заблудившись в парусах, испуганно кричали чайки. «Появились чайки – берег близко. Скорей бы!» – вздохнул Марк и, сунув руку под одежду, нащупал бархатный мешочек-ладанку, в котором лежал коммуникатор. Издёвка экзаменаторов – ни с кем этот комм не коммуницировал. «А вот бы с Риткой сейчас связаться, услышать её голос! Она уже давно в матрице, ботиху свою прокачивает. Вспоминает ли обо мне?» Пытаясь удерживать равновесие, Марк побрёл на бак, в спокойное местечко среди бочек с селёдкой, куда не заглядывали бегавшие по палубе босые матросы. Вынул из мешочка комм – серебристый металлический стерженёк – и стал водить над ним пальцем, просматривая функционал. Ничего, кроме каталога с географическими картами и краткими энциклопедическими сведениями, он не нашёл. Имелся ещё календарь с высвеченными цифрами «1531|08|27», который использовался для переноса из одного матричного времени в другое, причём «листать» годы, месяцы и дни позволялось только вперёд, но не назад – таковы условия экзамена. «Чтобы ошибочки свои не подчищали, – объяснили студентам на консультации. – Если вы отмотаете календарь назад, то обратно в прошлое не перенесётесь, но сможете наблюдать это прошлое на стереоэкране, отслеживая действия своего ича. Что, кстати, очень вам пригодится».
Перелистнув календарь на две минуты в прошлое, Марик в возникшем трёхмерном изображении увидел бота, сидевшего среди бочек. Это был Маркус Старк – ич для прокачки. Создавая его, Марк оригинальничать не стал, слепил своего двойника, только чуть приукрасил – подбородок сделал потвёрже, плечи пошире. Бот сидел среди бочек какой-то потерянный. Вот он снял с шеи бархатный мешочек и, держа его в руках, стал с отрешённой туповатостью глядеть куда-то за борт.
– Ну и рожа, – вздохнул Марик и, размахнувшись, кинул комм в морские волны. Тот, пролетев метра три, словно намагниченный вернулся назад и завис на уровне груди. Хмыкнув, Марик снова запустил брусочек в море… За этим бессмысленным метанием нетеряемого предмета и застал пассажира капитан судна.
– Как вижу, мастер умирает от скуки, коль взялся скармливать свой завтрак чайкам, – ощерился моряк гнилыми зубами. Как и положено боту, коммуникатора он не увидел, истолковав происходящее по-своему. – Не изволит ли мастер пройти на шкафут? Чем ближе суша, тем суше в глотке, и тем чаще её надо смачивать!
Капитан хохотнул, довольный каламбуром. Тупое выражение на его физиономии Марк поначалу отнёс на счёт недостаточной прокаченности бота, но, похоже, эту куклу такой и запрограммировали. Войдя вслед за хозяином в капитанскую каюту, Марк уселся на скамейку и стал наблюдать, как моряк ловко управляется с бочонком, направляя струю «живой воды» – а именно так переводится с ирландского слово «виски» – в качающиеся вместе со столиком деревянные кружки.
– Рыбу вы зачем к стенке прибили? – полюбопытствовал Марк, кивнув на высушенную змееподобную рыбину, украшавшую стену каюты.
– А что с ней ещё делать? Она же не съедобная, – снова хохотнул ирландец. – Это рыба-король. У всех есть короли – у пчёл, у волков, у людей. И у селёдок тоже есть. Эта ремень-рыба всегда плывёт в голове селёдочного стада и глаза у неё светятся как два алмаза. А на голове у неё, глянь-ка, красноватый выступ – то ли королевская корона, то ли папская митра, что не имеет разницы. Ведь Папа наш благословенный – король всех христиан?
Ирландец испытующе уставился на Марка, но тот никак не отреагировал.
– Я вижу, у тебя ладанка на шее, значит ты добрый католик, – примиряюще продолжил хозяин каюты. – Так выпьем за нашего понтифика Климента, который по праву титулует себя Царствующим во славе, да продлит Всемогущий Создатель его лета и сожжёт в геенне огненной всех еретиков и схизматиков.
Пришлось выпить, показуя свою верность царю царей. К счастью, пирушку прервал звук пушечного выстрела. Выйдя на палубу, путешественник обнаружил, что корабль вошёл в широченное устье реки Шильда и движется меж низких зелёных берегов Зеландии, а впереди, где река сужается, колышется парусами корабельный рейд – весёленький, как цветочная поляна. Стоянка в порту дорогая, вот и устроили здесь гульбище.
Голова от выпитого слегка кружилась, лицо горело, и Марк двинулся к борту, чтобы подставиться водяным брызгам. Там, держась за леер, стоял сухонький старичок с крючковатым носом и круглыми, как у попугая, глазами. Голову его венчала чёрная академическая шапочка с шёлковым позументом. Марк усмехнулся пришедшей на ум догадке, обратился к академику:
– Вы житель Нидерландов?
– Да, я возвращаюсь в Лувен. Бывали там? На славных берегах речушки Диль, которая впадает в реку Рюпель и далее несёт свои чистые воды в великую реку Шильда, стоит Лувенский университет…
– Антверпен хорошо знаешь? – прервал его Марк.
– Да… э-э…
– Сегодня в Антверпене открывается товарная биржа. Что ты знаешь про биржу? Коротко. Основные факты.
Академик почти не изменился в лице, только пуговичные его глазки вдруг поблекли, он и вправду стал походить на попугая. Размеренно, с чёткой дикцией бот произнёс:
– Слово «биржа» произошло от фамилии купца Ван дер Бурсе, чья контора в городе Брюгге…
– Стоп, я спросил конкретно о бирже в Антверпене. Отвечай!
– Э-э… спустя несколько лет после появления биржи в Брюгге, такая же биржа открылась в Антверпене, который с XII века и до 1572-го года был самым богатым торговом городом Северной Европы. Здесь товарная биржа стала первым в истории центром международной торговли и финансовых операций с векселями, государственными процентными займами и другими ценными бумагами, также она стала устанавливать биржевый курс различных валют. С появлением Антверпенской Биржи начался процесс глобализации мировой экономики…
– Очень хорошо, молодец, – приободрил его Марк. Подвох с куклами на этом корабле он почувствовал ещё в каюте капитана. Тот слишком уж настойчиво втюхивал пассажиру информацию о религиозном конфликте, явно предупреждая, как вести себя в накалённых до предела Нидерландах: с католиком будь католиком, с протестантом коси под протестанта, а лучше всего вообще молчи, чтобы не ввязаться в кровавые разборки. Объяснял ирландец так обстоятельно, словно собеседник свалился с Луны и ничего не знал об окружающей действительности. Явно здесь, на входе в матрицу, экзаменаторы устроили что-то вроде предбанника, где студент мог бы адаптироваться к новой обстановке и получить подсказки от гидов-проводников.
– Достаточно, – Марк остановил словоизлияние проводника. – Я, собственно, хотел узнать, как дойти до этой самой Биржи.
– О, это просто! Биржу вы найдёте в центре города, на улице Меир, которая начинается за собором Антверпенской Богоматери. А святой храм найти легко, он виден отовсюду, – старичок поднял руку, указуя вперёд. На горизонте и вправду виднелись башни собора – две спички, торчащие над крышами домов. Антверпен был как на ладони, поскольку стоял на плоской, как блин, земле, чьи низкие берега почти сливались с уровнем моря.
– Нидер ланд, низкая земля, – раздался за спиной хрипловатый голос капитана. – Она как дырявая лодка в открытом море, из неё постоянно нужно выкачивать воду. Дамбы, запруды, каналы, шлюзы… «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду». А про это болото забыл.
– Вы изволите цитировать из первой главы Бытия? – вскинул острый подбородок академик. – Вы ошибаетесь, там сказано не про воду.
– То есть как? Написано: твердь посреди воды.
– И далее написано: «И назвал Бог твердь небом». А про воду и сушу говорится в следующем стихе: «И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями».
– Так ты утверждаешь, что Библия лжёт, называя воду водой? – набычился капитан, сверля глазами старикашку. Тот, поджав губы, стал выговаривать менторским тоном:
– В первом случае водой иносказательно называется хаос, текучий как вода и не имеющий формы. Вот в этом хаосе и была устроена твердь, то есть некая гармония, названная в Библии небом. А потом уже из этой гармонии Творец произвёл звёзды, моря, сушу и далее траву, деревья, птиц, рыб и всяких скотов. Ну и потом людей разумных и… не очень разумных.
