12 апостолов блокадного неба
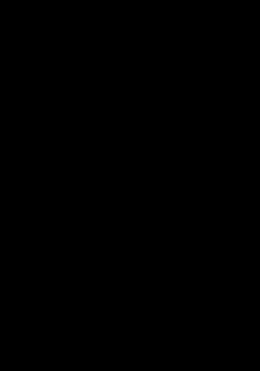
Война во всем своем ужасе,
бессмысленная бойня,
самая зверская из глупостей.
Д. С. Мережковский
Достоверный художественный документ
Что нужно знать читателю, перед тем как приступить к чтению этой замечательной книги? Книги, редкой по искренности и смелости авторского замысла. Марина Линник назвала книгу «12 апостолов блокадного неба», и в этом она уже дала большое пространство для размышления. Явно в центре – человек, человек в его христианских доблестях в отнюдь не христианское время. Обращаться к прошлой войне для писателя всегда рискованно, но время торопит, время диктует свои правила, и Линник не желает оставаться вне натянутого исторического нерва. Она с головой бросается в сложнейшую тему, в омут, где творческая вода тяжела, как расплавленное олово, и находит свою ноту, свою интонацию, создает свою историю личного отношения к драматическим событиям истории.
Я бы выделил несколько ключевых качеств Марины Линник в подходе к теме. Многое тут объясняет эпиграф из Мережковского: «Война во всем своем ужасе, бессмысленная бойня, самая зверская из глупостей».
Вообще говоря, взять Мережковского эпиграфом к такой книге, учитывая его биографию, – ход на грани. Но не это главное для автора, главное для нее – это гуманизм как таковой, понимание геройства и доблестей как борьбы с самой войной за мир, за будущее.
Линник интересует человек на войне, во время войны, в тылу, человек обычный, простой, без суперменских замашек. Это подтверждает первый рассказ в сборнике. В нем обычный паренек проявляет немыслимую стойкость, такую, что даже враги восхищаются этим. Тут есть скрытая отсылка и к «Честному слову» Леонида Пантелеева, и к повести «В списках не значился» Бориса Васильева. Те же принципы заложены в третий рассказ – о храбром воине-эвенке: «Сонмирча не гнался за званиями или наградами, которые просто не поспевали за ним. Нет. Он защищал свою Родину, приближая, как и все граждане огромной великой страны, час Победы».
Нет никаких сомнений в том, что Линник провела огромную подготовительную работу, прежде чем приступить к написанию этой книги. Достоверность текста – это сложная, во многом двойственная категория. Только знание фактов и деталей не всегда способствует тому, чтобы читатель ощутил дыхание эпохи. Тут необходимо еще и художественное умение оживить фактуру, увидеть, домыслить человека. У Линник получается и то и другое. Достоверность – важный знак доверия со стороны читателя в отображении столь сложных тем. «Когда они подошли к зданию, перед глазами предстала толпа, густо окружившая школу. Люди с напряжением смотрели в сторону громкоговорителя, который мерно издавал тревожные звуки музыки. И вот в 12:15 раздалось страшное слово… ВОЙНА! Взрослые оцепенели, переполненные страхом, а ребята, переглядываясь с недоумением, лишь смутно осознавали масштаб надвигающейся катастрофы».
С исторической и художественной точки зрения выделяется рассказ «Операция “Буссард”». И здесь мы должны снова похвалить Линник за архивную зоркость. Выделен один неизвестный эпизод войны, когда абвер завербовал советских детей и отправил их с диверсиями в тыл к советским войскам. Все они сдались с повинной. В то время, когда для подростков существовала смертная казнь, это было решение тяжелое, но единственно честное. Линник прекрасным языком, интересно и ярко рассказывает эту историю. В ней нет ни капли спекуляции, только правда, только драматизм человеческих обстоятельств: «Судьбу же подростков, столкнувшихся с жестокостью и ложью этого мира в столь юном возрасте, окончательно решил сам Верховный Главнокомандующий, сняв с них все обвинения: “Арестовали, значит… Кого? Детей! Им учиться надобно, а не в тюрьме сидеть. Выучатся – порушенное хозяйство будут восстанавливать…”»
Стоит поразмышлять и о том, как Линник в тексте переваривает, переплавляет в художественное целое те ужасы и бессмысленности войны, о которых заявляет устами Мережковского в эпиграфе. Здесь она ищет и находит нужную меру. Война и все, что с ней связано, впитывает в себя почти все человеческие проявления, экстремально сгущая их. Невозможно писать правду о войне, не учитывая этого обстоятельства. В некоторых рассказах меня поражало, как Линник, погружая нас в военное время, создает атмосферу добрую, человечную, и как местами естественна для человека эта атмосфера. Но жестокости не уходят из ее авторского объектива, для нее не секрет, кто был зверями в этой войне, как бы их потом цивилизованно ни отмазывали. Она, если чувствует необходимость, использует весьма жестокие натуралистические описания, ставя автора и читателя в позицию свидетеля преступлений, у которых нет срока давности.
Для Линник важно, как христианские добродетели проявляются в человеке на войне, как сложно это взаимодействует с самой войной, даже самой справедливой. Благодаря таким подходам и таким внутренним живым оппозициям, благодаря многослойности подтекста Линник создает художественный документ, где нет ничего выдуманного, но нет и сухости фактологии, есть люди, великие советские люди, всем миром одолевшие страшного врага.
Марина Линник – настоящий патриот. Без крикливых истерик и обвинений всех и вся она делает свое дело в сложный для Отечества час, и делает его очень хорошо.
Максим Замшев,
российский писатель, поэт и прозаик, публицист, литературный критик,
главный редактор еженедельного литературного
и общественно-политического издания «Литературная газета»
Не могу…
Война – это не соревнование. Тут нет первых, вторых; нет лучших. На войне все герои: и тот, кто грудью защищает границу, и тот, кто четырнадцать часов трудится у станка, и тот, кто с последним патроном идет на таран, зная неизбежную участь, и тот, кто часами работает в ледяной воде, добывая торф.
История этого простого солдата, имя которого затерялось во времени, проста. С одной стороны – он не совершил подвига, но в то же время… в то же время юный парень вновь доказал, что стойкость и мужество – в крови русского человека.
О нем стало известно из местной газеты того времени. Но таких, как он, в годы Великой Отечественной войны было настолько много, что корреспондент лишь в пяти строках описал величие его поступка, даже не запомнив имя окровавленного, необычайно рано поседевшего солдата, доставленного накануне в лазарет. Однако чуть позже медсестре удалось разговорить молчаливого паренька и узнать о событиях того страшного дня.
Дело было в первых числах декабря. Беспощадный враг рвался к Москве, стремясь взять защитников столицы в плотное кольцо. Ваня Иванов и его сослуживец Пётр Бубка вызвались произвести разведку.
– Товарищ капитан, разрешите нам с Петром пойти, – настаивал юный солдат. – Да я эти места знаю как свои пять пальцев. Родился я тут недалеко. В детстве облазил все… мне каждая тропинка знакома, каждый куст.
– Опыта у тебя нет, боец, – нехотя оторвался от карты командир и, смерив взглядом щуплую фигуру, продолжил: в разведку пойдут бывалые люди. И это не обсуждается.
– Но, товарищ капитан, – не унимался паренек, – так потеряются они. Тут места гиблые, болота. Не берите грех на душу.
– Ты тут свои антисоветские мысли не распространяй, – вмешался политрук. – Живо у меня не в разведку, а в Сибирь отправишься. Ишь чего городишь. Распустил ты их, товарищ Сёмин. Враг на пороге, а у тебя личный состав антисоветчиной занимается. Надо…
– Что «надо»? Что «надо», Кирилл Кириллович? – перебил его капитан. – Горяч ты слишком. Бойцы не спят уже больше трех суток, патроны на исходе, теплой одежды нет, хотя и обещали доставить еще неделю назад, еды не хватает. Что «надо»? Нам дали приказ – ни шагу назад, и мы умрем, но не пропустим немцев к Москве. Любой из них – герой, понимаешь? А ты приехал из тыла и рассказываешь, что «надо»! Да я за каждого головой поручусь!
– Ладно, ладно, – глядя на командира стрелковой роты, недовольно буркнул политрук.
Немного помолчав, он обратился к Ване Иванову:
– А ты правда из этих мест?
– Так точно, – отчеканил парнишка. – Из села Лучинское. Там немцы сейчас и… мамка с сестренкой.
Он понурил голову и тяжело вздохнул.
– Не горюй, Ванька, – поддержал бойца капитан. – Кто знает, может, им удалось эвакуироваться до прихода немцев. еще повидаетесь, вот увидишь.
– Так можно мне…
– Вот ты настырный! – усмехнулся командир, и в его глазах, несмотря на смертельную усталость, загорелись искорки. – Хорошо, так и быть. Разрешаю разведку. Но с тобой пойдут два опытных красноармейца, Пётр Бубка и Степан Ильин. Товарищ Бубка будет старшим группы, а ты – проводником. Двинетесь, когда стемнеет. Понятно? Смотрите не нарвитесь на засаду. Рыщут они тут, словно гончие в поисках жертвы. Запомните: вы должны вернуться. Ясно?
– Так точно, – отчеканил боец и тотчас вышел из землянки.
– Не нравится мне эта затея, – глядя им вслед, проговорил Кирилл Кириллович. – Провалят они дело. Особенно юнец.
– Он смышленый, хоть едва оперился, – отозвался товарищ Сёмин. – Знаешь, приписал себе два года, чертяка. Я, как узнал, хотел в тыл отправить, но он упросил оставить, да и товарищи за Ваньку вступились. Любят его тут. Балагур. Байками поднимает боевой дух да и шустрый до невозможности. Видел бы ты, как он раненых вместе со Светланой из-под огня вытаскивал. Словно заговоренный. Ни одна пуля его не берет.
– Посмотрим, – хмыкнул политрук и уставился на карту.
Но, видно, судьба в тот вечер отвернулась от парнишки. Не успели разведчики пройти и пятисот метров, как нарвались на немецкий секрет. Лежа в кустах под шквальным огнем, бойцы не могли даже вздохнуть.
– Твою мать, – выругался Степан Ильин, – кажись, меня задели. У, ироды окаянные. Ишь, накрыли. Вона оттудова бьют.
Он указал на еле выступающий во тьме пригорок.
– Перекрыть бы им глотку, но как? Засели, словно налим под корягой. Не вытащить.
– Думаю, я смогу, – немного поразмыслив, отозвался Ваня. – Я тут бывал, местность знаю. Разрешите, товарищ Бубка, я мигом. Одна нога тут, другая – там.
– Куда ты, дурья башка? – Петро дернул парня за штанину. – Еще нарвешься на немцев. Их тут тьма-тьмущая!
– Не нарвусь, глазом моргнуть не успеете, как я уже вернусь.
– Ну, как знаешь…
Едва Ваня успел отползти на тридцать метров, как землю за его спиной разорвал чудовищный взрыв. Вжавшись всем телом в колючий снег, солдатик на мгновение замер, словно парализованный. Но внезапная мысль, пронзившая сознание, заставила его поднять голову и обернуться. Ужасающая картина открылась его глазам: там, где еще недавно в надежде на спасение жались к земле его товарищи, теперь зияла обугленная, дымящаяся воронка. Вокруг, словно осенние листья, разбросаны окровавленные обрывки тел тех, с кем он еще вчера делил последний сухарь и мечтал о доме.
– Петро… дядя Стёпа… как же так? – прошептал он посиневшими от холода губами. – Вы же… вы же… сволочи, фрицы! Дайте только добраться до вас, тогда уж не пожалею для вас патронов, гады.
Ваня сжал кулаки. В его сердце запылала неугасимая ярость, подкрепленная стальной решимостью во что бы то ни стало выполнить задание. В память о погибших товарищах. Как и обещал командиру. Солдат хотел уже было встать, как вдруг его голова уперлась в холодную сталь ствола пистолета-пулемета.
– Hände hoch!.. Рьюки верх, russische Schwein! Schnell!1 Вставать!
Ваня приподнял голову и увидел перед собой трех немецких солдат, вооруженных до зубов. «Эх, мне бы до автомата дотянуться. Всех положу! Ни одна тварь не выживет!» – промелькнуло в голове, когда взгляд упал на занесенный снегом автомат.
Медленно, стараясь не привлекать внимания, Ванька потянулся к оружию, но короткая очередь оборвала его движение. Обжигающая боль пронзила все тело бойца.
– Wage es nicht!2 Шьютить нет! – прорычал немец, ударив паренька прикладом по голове. – Вставать! Бьистро!
Через четверть часа Ваня и сопровождавшие его немецкие пехотинцы оказались в траншее, запруженной солдатами вермахта, которые о чем‑то говорили. С любопытством разглядывая щуплого паренька, они провожали его веселыми выкриками.
Несмотря на перебитую правую руку, ему связали запястья. Войдя в блиндаж, солдат вытянулся по стойке смирно:
– Herr Major, wir haben einen Gefangenen mitgebracht3, – отчеканил фриц, подталкивая солдата вперед. – Die anderen Menschen starben4.
– Gut, du kannst gehen5, – внимательно изучая пленного, ответил сухой длинный офицер с колючими глазами, одетый в походную куртку.
Пленный солдат стоял перед ним склонив голову. Нет, это был не страх. Страх давно покинул этого отважного юношу. В его груди билось сердце льва. Ивана терзала лишь одна мысль: он не выполнил задания. Подвел. Не справился.
– Слушать меня, – сквозь шум в ушах услышал Ваня, – я спрашивать, ты отвечать. Хорошо?
Немецкий офицер старательно подбирал слова, четко выговаривая каждый звук.
– Ты есть из какой дивизии?
Ванька приподнял лицо и хмуро покосился на стоящего напротив майора.
– Ты можешь молчать, глюпый Иван, но все равно сказать. Итак, ты есть из какой дивизии?
– Не могу знать, – глухо ответил солдатик.
– Из какого полка?
– Не могу знать, – повторил он.
– Где стоять ваш батальон? Сколько есть человек? Вооружение? Пушки, пулеметы? Сколько? Отвечай! – властно проговорил офицер, буравя паренька небесно-голубыми глазами.
Солдат хранил молчание, исподлобья сверля взглядом допросчика. Из простреленной руки сочилась кровь. Багряные ручейки медленно струились, падая крупными, обреченными каплями к его израненным ногам.
– Почему ты молчишь? – не выдержал майор. Его глаза заметали молнии. – Вы уже проиграть. Наша доблестная армия шагать в Москве через неделю. Мы строить новый мир, а вы будете нашими рабами. Вы быть только рабами, глюпые Иваны. Sie sind Untermenschen!6 Говори!
– Не могу.
– Почему ты не можешь? Отвечать!
Но Ванька, стиснув зубы, молчал, становясь с каждой минутой все бледнее и бледнее.
– Отвечать! – повторил офицер, расстегивая кобуру. – Почему ты молчишь? Я знать все равно. Ты скажешь: доб-ро-воль-но или нет, но ты скажешь.
– Не могу по долгу службы.
– Что есть «долг слюжбы»? – не понял немец, вопросительно приподняв бровь. – Сказать!
– Присяга.
– Какая… Что есть «присьага»?
– Солдатская. Я не могу выдать врагу тайны. Я поклялся, – твердо заявил Ваня, вскинув взгляд.
– Глюпый Иван, я стрелять в тебя. Слышать? Стрелять! – закричал майор, выходя из себя.
Упрямство и строптивость русского солдата, которого он вообще не считал за человека, привели его в бешенство.
– Не могу! – повторил солдат, решительно мотнув головой.
– Глюпый Иван, глюпое упрямство! – сквозь зубы произнес немец и, достав пистолет, выстрелил в плечо молодому бойцу.
Резкая боль, от которой помутнело в глазах, обожгла тело Ваньки. Он было качнулся, но в ту же секунду вновь ровно встал перед разъяренным офицером.
– Не могу! – процедил солдат.
– Не могу? – воскликнул немец, пораженный несговорчивостью солдата. – Ты сам хотеть…
Вновь раздался выстрел. Жгучая боль пронзила ногу бойца, и он повалился на землю, из раны хлынула кровь, заливая землю вокруг. Но молодой воин не собирался сдаваться. Преодолевая боль, Ваня собрал всю свою волю и поднялся, словно каменное изваяние. Он смело смотрел потускневшими глазами в лицо немецкому офицеру. «За нами Москва, – промелькнула в его памяти фраза командира, получившего приказ стоять до последнего. – Отступать нам некуда. Наше правительство и товарищ Сталин велели удержать рубеж, стоять до конца. И мы это сделаем. Сделаем, потому что любим свою Родину, наших близких, поддерживающих нас и верящих в нас. Сделаем, чтобы отомстить за смерть наших родных, друзей, соратников. Мы сможем, мы выстоим».
– Да, мы сможем, мы выстоим, – еле слышно прошептал паренек и еще крепче сжал зубы.
– Ты опять молчать? Зачем? Разве не больно? Если ты молчать, то я опять стрелять. Это есть мой долг.
– Не могу…
С любопытством разглядывая пленного, немецкий офицер с мгновение молчал, а потом задал вопрос:
– Кормить вас хорошо?
– Продовольствие имеем, по закону, – хмуро отозвался солдат.
– Голод есть? Вы есть голодный?
– Мы сытые, имеем все, что полагается солдату.
– Что вы есть? Еда! Ты понимать меня? Что вы кушать?
– Не могу выдавать врагам военной тайны.
– Присьага? Да? – усмехнулся немец. – Ты решать свою судьбу сам.
Майор отступил на два шага и вновь выстрелил в Ваньку. Превратив второе плечо пленника в кровавое месиво, немец с нескрываемым, почти научным интересом вглядывался в лицо юноши, едва державшегося на ногах. Его поражала несгибаемая воля этого русского воина.
– Не могу… солдатская присяга, – услышал тот слабый голос паренька.
Сквозь пелену ускользающего сознания, вызванную адской болью и стремительной потерей крови, Ванька услышал недовольное, но в то же время исполненное восхищения восклицание майора:
– Ты состоять из дерева или кирпича? Ты все повторять: не могу, присьага, не могу, присьага. Ты не знать других слов? Ты соврать мне, чтобы спасать жизнь. Соврать! Это не есть сложно! Дивизия, есть, пулеметы… соврать! Чтобы я не убить тебя за молчание.
– Перед смертью не врут, – ответил солдат и рухнул к ногам офицера, проваливаясь в беспамятство.
Глядя на распростертое бездыханное тело, немец долго размышлял о загадочной русской душе, которую, сколько ни изучай, все равно невозможно понять никому, кроме самих русских.
– Herr Major, Russisch! Sie kommen! Sie treten ein! – прокричал вбежавший солдат. – Was sollen wir tun?7
Спрятав пистолет в кобуру, офицер поспешил к выходу. Но, остановившись в дверях, он обернулся и бросил мимолетный взгляд на окровавленное тело, казалось, навеки затихшее на полу.
– Если русские все такие непреклонные, то мы уже проиграли войну… Не зря герр Отто фон Бисмарк как-то сказал: «Даже самый благополучный исход войны никогда не приведет к распаду России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии. Это государство даже после полного поражения будет оставаться нашим порождением, стремящимся к реваншу противником». Он был прав. Теперь я это понимаю.
С этими словами майор стремительно вышел из блиндажа.
На календаре было 5 декабря 1941 года.
«Малютка»
На кухне тускло горела керосиновая лампа. Две женщины, кутаясь в потерявшие вид пуховые платки, готовили скромный ужин, то и дело поглядывая на бушующую за окном метель. Пурга и завывание ветра наводили на них тоску, ибо они знали, что завтра все дороги, ведущие к Марьяновскому промкомбинату и в местную больницу, вновь будут занесены.
– Опять снег, – проворчала одна из женщин, с тоской поглядывая на сушившиеся возле печи ботинки. – Будь он проклят! Ненавижу зиму!
– Нинка, ну чего ты опять ноешь? Можно подумать, что твои сетования что-то изменят, – наливая в чашку кипяток, произнесла соседка.
– Тебе легко говорить, Полина, – огрызнулась Нина, – ты привыкла к холодам. У вас на Смоленщине, наверно, сугробы в два метра – обычное дело. А я всю жизнь прожила на юге. Мы отродясь не видывали снега. Да еще и в таком количестве. Почему нас не отправили в эвакуацию в Среднюю Азию? Зачем я здесь?
– Я не в силах ответить на этот вопрос… Кстати, ты слышала? У вас в цеху решили собрать деньги для наших бойцов. Мне говорила Тося на днях. Это правда? В больнице мы тоже собираем на самолет.
– Как не слышала? Слышала, – недовольно хмыкнула Нина. – Вот еще чего надумали! Нам самим мало, вон в тряпках, как оборванцы, ходим, а тут еще и кровно заработанные отдавать. Это задача нашего правительства, вот пусть и ищут деньги для фронта. Хватит с нас и того, что мы работаем от зари до заката, по четырнадцать часов в сутки. Ни отдохнуть, ни продохнуть. Дети недоедают, а они – «даешь помощь фронту!». А кто мне поможет? У меня трое детей, мал мала меньше.
– Что ты такое говоришь? – ахнула Полина. – Как же тебе не стыдно! Сейчас всем тяжело. Ты думаешь, ТАМ, под пулями, легко? Вспомни о муже и брате! Каково им?
– А вот представь, что нестыдно. Они далеко, а я тут, и это на меня смотрят изо дня в день три пары голодных глаз, а не на них, – вспыхнула Нинка, поджав губы, взяла кастрюлю с жидким супом и демонстративно отправилась к себе в комнату.
– Почему тетя Нина такая сердитая? – спросила вошедшая в кухню маленькая хрупкая девчушка лет пяти. Она залезла на стул и устремила на мать чистый, как утренняя роса, взгляд. – Она на что‑то рассердилась? За то, что я не разрешила Славику взять мой карандаш? Так я сейчас принесу ему, мне не жалко… пусть только тетя не злится.
– Нет, что ты, милая. Просто мы хотим собрать деньги для наших солдат… для твоего папы и другим героям, чтобы они поскорее вернулись домой. Тетя Нина считает, что у них и так все есть.
Ада мигом спрыгнула со стула и исчезла в коридоре. Вернувшись спустя мгновение, она протянула маме зажатые в кулаке монеты. Эти сбережения девчушка копила на куклу. Единственную игрушку она потеряла во время бомбежки еще в Сычёвке. Тогда, в хаосе вражеского налета, матери было не до безделушек.
– На вот, возьми! Я очень-очень хочу, чтобы папа поскорее вернулся.
Смахнув внезапно набежавшую слезу, Полина прижала к себе дочурку и нежно поцеловала.
– Я тоже очень скучаю по твоему отцу, моя хорошая, – борясь с волной нахлынувших чувств, ответила Полина. – Но все же не надо. Оставь себе.
– Но, мамочка…
– Если хочешь, то собери сама… Ладно, давай поужинаем и спать. Мне завтра рано вставать на работу.
Всю ночь, слушая завывания ветра за окном, Ада думала, как она, маленькая девочка, мгновенно повзрослевшая с началом войны, сможет собрать деньги и помочь горячо любимому папе одолеть врага. «Как? – задавала малышка себе вопросы. – Что я могу? Что?» И лишь на рассвете, когда свирепая метель начала стихать, измученный бессонницей и усталостью мозг подбросил идею, от которой на душе у девчушки стало легко, и она мгновенно заснула.
Несколько дней спустя у них в гостях появилась журналистка местной, омской, газеты. Она сидела с мамой на кухне и обсуждала благотворительный сбор денег, организованный больницей.
– Да, мы уже собрали немалую сумму, – подтвердила Полина, наливая кипяток в кружку. – Осталось совсем немного, вот я и подумала, не напечатать ли объявление в газете? Уверена, что многие откликнутся. Остались еще неравнодушные люди, в отличие от некоторых, – добавила она после короткой паузы, бросив косой взгляд на Нинку, стиравшую белье неподалеку.
Та в ответ лишь пренебрежительно фыркнула.
– Полагаю, это отличная идея. Вы правы, – ответила журналистка, сделав пометку в блокноте. – Расскажу редактору о вашей инициативе.
– И я, и я, – влетев на кухню, прощебетала малышка, – я тоже хочу отправить письмо дяде редактору.
– Ада, детка, разве можно вмешиваться в разговор взрослых?
– Да все нормально, – отмахнулась журналистка. – У меня дома двое проказников-погодок: одному два года, другому – три. Чего только они не вытворяют! Так что я давно привыкла к их выходкам.
Затем она обернулась к девочке и, ласково поглядев на нее, полюбопытствовала:
– О чем ты хочешь написать в письме? Хочешь попросить новую куклу или пальтишко?
Девочка пристально, совсем по-взрослому посмотрела на женщину, и улыбка журналистки мгновенно поблекла.
– Я хочу собрать деньги папе на танк. Он у меня танкист. Чтобы поскорее разбил врага и вернулся домой.
Женщина повернулась к маме девочки и вопросительно взглянула на нее. Та лишь молча кивнула.
– Ну хорошо, милая. Напиши письмо, и я отдам его куда надо, договорились?
Воодушевленная ответом Ада очень долго и старательно выводила печатными буквами письмо, которое вскоре станет призывом для многих детей разного возраста.
«Я – Ада Занегина. Мне 6 лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычёвки Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера, и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танки. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его “Малютка”. Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада».
И в самом деле, после публикации заметки в местной газете в адрес редакции начали поступать крохотные сбережения юных героев, которые в силу своего возраста пока еще ничем другим не могли помочь мамам и папам, сражавшимся на фронте или неустанно трудившимся на заводах и фабриках. Отдавая свои собственные накопления, которые они откладывали днями, месяцами, годами, ребята передавали на нужды горячо любимой Родины. Более того, в письмах, зачастую наивных и неуклюжих, дети делились своими чувствами о войне, о тревогах и надеждах.
Посовещавшись, редакция газеты решила даже сделать отдельную рубрику для таких посланий, ибо понимала, насколько важно в тяжелые для страны дни поддерживать боевой дух народа, сражающегося не на жизнь, а на смерть с захватчиками.
По просьбе редактора в госбанке открыли специальный счет, куда стекались собранные ребятами средства. Вскоре всю сумму перечислили в Фонд обороны. В сопроводительном письме значилось: «Фронту от детей». И еще одна трогательная просьба – танк, построенный на эти деньги, назвать «Малютка». И танк Т‑60 «Малютка» действительно появился на полях сражений осенью 1942 года. Появился благодаря самоотверженности детей и их любви к своей Родине. Потому что без Родины человек – лишь одинокий листок, сорванный ветром. А осознание единства с великой державой придает ему веру, силы и мужество, необходимые для защиты своего дома, своей семьи, своей земли.
Сибирский колдун
Старший лейтенант исподлобья рассматривал вновь прибывших. «И что прикажете мне с ними делать? Как защищать рубежи с зелеными пацанами?» Посмотрев списки, он отметил про себя, что им почти всем – не больше восемнадцати, и это если они, как уже бывало не раз, не приписали себе годик-другой. Обстановка в зоне боевых действий была настолько серьезной, что на такие мелочи смотрели сквозь пальцы. Читая фамилии рядовых, он неожиданно наткнулся на странную запись.
– Сон-мир-ча На… Най-кан-чин, – вслух по слогам прочел командир. – Это еще что такое? Кто писал? Наверняка какая‑то ошибка.
– Я тута, эдэ тайча, – раздался из строя тонкий голос. – Я – Сонмирча Найканчин. Чего хотеть, тайча?8
– Этого мне еще не хватает, – пробормотал старший лейтенант, мысленно выругавшись, после чего громко скомандовал: – Рядовой Най… вот черт, не выговоришь… Найканчин, шаг вперед!
– Слушаюсь, эдэ тайча.
– Какой я тебе… эдэ… кто? Что за тарабарщина? Выйти из строя!.. Чего стоишь, рядовой? Сделай шаг вперед… да не назад, а вперед, – посуровел командир роты, видя, что новобранец не понимает команду. – Никакой я не эдэ… как там его. Я – товарищ командир. И не «слушаюсь» и «чего хотеть», а так точно. Ясно? Ты вообще говоришь по-русски? Понимаешь?
– Т-так т‑точно, товарщ командьир, – глядя на молодого командира ясными глазами, ответил рядовой. – Понимаю. Не все, правда.
Смерив его оценивающим взглядом, старший лейтенант отошел от новобранца и принялся объяснять вновь прибывшим боевые задачи, поставленные Ставкой. «Удерживать рубеж во что бы то ни стало», – гласил приказ, утвержденный для его роты.
Так началась служба Сонмирчи Найканчина, чье имя со временем обросло легендами, превратившись в символ неукротимой силы. «Сибирский колдун» – так окрестили его фашисты, чьи сердца сковывал ледяной ужас при одном упоминании эвенка. Ему посвящали строки прославленные поэты, его подвиги воспевали в сказаниях боевые товарищи. Но до этих дней славы было еще далеко. Пока же он был лишь одним из многих, призванных защищать Родину. Впрочем, «одним из многих» – это не совсем точное определение. С первых дней службы Сонмирча словно нарочно испытывал терпение окружающих. Языковой барьер воздвигал между ним и сослуживцами стену непонимания: путая команды, совершая досадные ошибки, он раз за разом ставил себя в неловкое положение. Вскоре от него отвернулись все: его не брали в разведку, избегали в бою. После очередного провала, едва не стоившего жизни группе разведчиков, старший лейтенант в сердцах отправил рядового на кухню. Но и там Найканчин не задержался надолго.
– Товарищ лейтенант, – через пару дней взмолился повар, – не могу! Увольте, отошлите, накажите, посадите под арест, но заберите вы от меня этого бестолкового. – Ни черта не может. Руки точно не из плеч выросли, а из…
– Так уж и «ни черта»? – перебил его командир роты, недоуменно уставившись на подчиненного. – По-моему, ты преувеличиваешь. Не давай ему готовить, пусть чистит, моет, режет. Этому‑то не нужно же учиться?
– Да вы посмотрите, как он нарезал хлеб! – повар протянул наполовину поломанный кусок черного хлеба. – Говорит, что у него на родине хлеб вообще не режут, а ломают. А что он вчера сделал с картошкой? Это вообще ужас! От ведра осталась едва половина. Прошу вас, Гаврила Петрович! Заберите! Сил моих уже нет!
– Хорошо, так и быть, – нахмурился старший лейтенант и отправил незадачливого рядового на вещевой склад. Но и тут Сонмирча Найканчин не особо отличался внимательностью: постоянно путал размеры выдаваемого обмундирования, а часто вообще что‑то забывал положить в комплект.
– Что ж ты, ирод окаянный, делаешь? – возмущался пожилой рядовой, потрясая кулаками перед самым лицом помощника. – Нешто должен я получать из-за тебя взыскания? Головы у тебя, что ли, нет на плечах? Куды смотришь, дурья твоя башка? Сколько можно тебе показывать, как надо смотреть размеры и как следует укладывать? Вот, смотри еще раз, горе ты луковое… Эх, да ты, как я погляжу, ни на что не способен. Везде от тебя один вред. Худой ты человек, Соня, ох, худой.
За бестолковость сослуживцы считали его ни к чему не годным и открыто потешались над товарищем. К Сонмирче приклеились обидные прозвища «бестолковый эвенк» да «сонная муха», что, безусловно, очень сильно ранило доброе сердце рядового, но он молчал, лишь улыбался краешком губ в ответ на насмешки. И так бы продолжалось и дальше, не случись вскоре событие, перевернувшее жизнь солдата и изменившее отношение к нему.
Сентябрь 1941 года стал временем тяжелейших испытаний для всего советского народа. Красная армия терпела поражение за поражением. Рота рядового Найканчина удерживала занимаемый рубеж, раз за разом отбивая яростные натиски гитлеровцев. Однако, неся большие потери, изнемогая от голода и жажды и не имея достаточного количества боеприпасов, рота не могла долго обороняться.
Оказавшись в огненном кольце окружения, бойцы попали в безвыходную ситуацию. Старший лейтенант принял тяжелое решение.
– Товарищ командир, связи больше нет, боеприпасы на исходе, с едой еще хуже, – доложил сержант Чайка. – Что будем делать?
– Да, мы сейчас находимся в отрыве от других частей Красной армии. Что ж… будем прорываться. Иного выхода у нас нет. Соберите боеприпасы и провиант и разделите между солдатами. Пойдем ночью, – распорядился старший лейтенант.
Черное небо заволокло грозовыми тучами, скрыв луну, озарявшую землю. Ночь выдалась темной, не было видно ни зги. Куда ни кинь взгляд, повсюду черным-черно. Посчитав это добрым предзнаменованием, командир с остатками роты двинулся в путь в полном молчании. Но, не пройдя и пятисот метров, отряд натолкнулся на немецких лазутчиков. Затрещали выстрелы, в ответ застрочили пулеметы. Однако спустя несколько минут стрельба внезапно прекратилась, и темный лес вновь погрузился в звенящую тишину.
– Что происходит? Куда делись немцы? Неужели мы упустили их? – спросил раненый старший лейтенант, сраженный автоматной очередью. – Скверно, очень скверно. Если они доберутся до своих и сообщат им, что в лесу скрываются советские солдаты, то через полчаса-час тут их уже будет сотня, а то и больше. Сержант, прикажи всем занять оборону! Стрелять до последнего патрона, не отступать!
– Не волнуйся, товарщ командьир, никто не уходить. Все тута, – послышался голос рядового Найканчина. – Я стрелял. Никто не выжил.
– Откуда ты знаешь? – с недоверием уставился на него сержант Чайка. – Ты что, кошка? Только они могут видеть в темноте.
– Я не знаю, я чувствую, – только и ответил Сонмирча. – Разрешите найти их?
– А вдруг там засада? Вдруг их там много? Вдруг затаились и ждут, когда мы двинемся дальше? – усомнился в словах подчиненного старший лейтенант.
Эвенк повернулся в ту сторону, откуда пришли немцы, достал что‑то из кармана и… замер, прислушиваясь. Сидевший на влажной земле командир и стоявшие поодаль солдаты недоверчиво покосились на странного бойца.
– Не, никого больше нет, – через пару минут нарушил всеобщее молчание Найканчин. – Восемь их было, они все сичась в мире праотцов.
– Ты уверен? – колебался командир роты.
– Да, товарщ командьир, – кивнул эвенк. – Я могу показать, где они. Я знаю.
– Но как? – не унимался сержант Чайка. – Темно, хоть глаз выколи, а ты утверждаешь, что убил их всех. Как ты различил‑то их?
– Разрешите сходить за убитыми.
– Хорошо, разрешаю. Сергей, – обратился он к сержанту, – возьми пару людей, сходите с рядовым. Может, Соня говорит правду.
– Слушаюсь! – козырнул Чайка и, бросив на Найканчина суровый взгляд, приказал двум солдатам следовать за эвенком.
Через полчаса тела восьмерых немцев уже лежали на небольшой полянке, окруженной пожелтевшими березами, изуродованными войной.
– Невероятно, – изумился старший лейтенант, рассматривая убитых, – ты попал им прямо в голову! Но как? Как ты смог увидеть лазутчиков?
– Я не видеть, я чувствовать, – пожал плечами эвенк, ничуть не удивленный своей работой. – Я бултамнй… то есть охотник. Мой отец был охотником, мой дед, дед амйнмй… моего отца. Я чувствовать, мои предки чувствовать…
– Никогда бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами, – пробормотал командир роты, с любопытством разглядывая тщедушного рядового. – Что ж, Соня, если нам суждено будет выбраться из окружения, то обещаю составить рекомендательное письмо и направить тебя в снайперский взвод.
– Мы выйти, товарщ командьир, – отозвался эвенк, улыбнувшись. – А пока я лечить раны. Я уметь, не сомневаться.
– Откуда ты знаешь, что мы выберемся, Соня? – спросил сержант Чайка, не сводя удивленного взгляда со скромного солдата.
– Духи предков, так сказать, – просто ответил Сонмирча, доставая холщовый мешочек. – Они говорить всегда правду.
Преодолевая немыслимые преграды, идя напролом и проявляя настоящее мужество, в конце концов рота все же присоединилась к регулярной Красной армии. Рядовой Найканчин по рекомендации старшего лейтенанта оказался в снайперском взводе, где, как выяснилось, и было его место. Именно здесь «бестолковый эвенк» проявил себя, используя свои способности и опыт предков. Идя на задание, Соня брал с собой различные амулеты, загадочные кусочки дерева, которые использовал для маскировки, веревки и другие странные предметы, вызывавшие недоумение у товарищей. «Шаман», как его окрестили свои, творил настоящие чудеса, повергая в изумление даже видавших виды солдат.
– Как ты видишь противника? – часто спрашивали его сослуживцы. – Как можно различить их, затаившихся в кустах, траве?
– Я предчувствовать раньше, чем видеть, – пожимая плечами, говорил Найканчин. – Мои отцы помогать мне.
Весть о стрелявшем без промаха снайпере пронеслась по передовой подобно лесному пожару. Бывшие сослуживцы, по достоинству оценившие способности «сонной мухи», восхищались им, а гитлеровцы… те трепетали перед «сибирским колдуном» и открывали шквальный огонь по позициям, куда, по слухам, прибыл стрелок.
За годы войны храбрый эвенк отправил в небытие множество врагов. По приказу командования Соня тенью скользил с одного фронта на другой, чтобы противник не смог выследить легенду и предпринять попытки его устранения.
Сонмирча не гнался за званиями или наградами, которые просто не поспевали за ним. Нет. Он защищал свою Родину, приближая, как и все граждане огромной великой страны, час Победы.
Ценой жизни
Стоял погожий летний день. Валька, только что окончивший девятый класс, сидел на большом подоконнике возле открытого окна и читал любимую книгу «Три мушкетера». Юноша знал этот роман почти наизусть; более того, он и его друзья не раз разыгрывали сценки, представляя себя на месте героев Александра Дюма.
– Эх, повезло мушкетерам – жили в героические времена. Как жалко, что время подвигов закончилось, – сокрушались ребята, мечтавшие драться с врагами, как Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян. – Разве в наше время продемонстрируешь свою отвагу? Уж мы бы показали неприятелям, где раки зимуют.
Тогда они и не представляли, с какой бедой им вскоре предстоит встретиться лицом к лицу. И что все их книжные представления о героизме будут проверены реальной жизнью.
– Валька! Валька! – услышал паренек голос друга. – Спускайся. Тут сказали, что надобно собраться возле школы в двенадцать часов.
– А кто сказал? – откладывая книгу, спросил Валя.
– Женька, а ему – тетя Клава из столовой. Говорят, будет экстренное сообщение.
– Бегу!
Парень спрыгнул с подоконника и, погладив по голове своего пса, помчался вниз по лестнице.
Когда они подошли к зданию, перед глазами предстала толпа, густо окружившая школу. Люди с напряжением смотрели в сторону громкоговорителя, который мерно издавал тревожные звуки музыки. И вот в 12:15 раздалось страшное слово… ВОЙНА! Взрослые оцепенели, переполненные страхом, а ребята, переглядываясь с недоумением, лишь смутно осознавали масштаб надвигающейся катастрофы.
Валька, не говоря ни слова, бросился к дому. Когда он вернулся, то застал родителей в комнате. Его маленькие сестры копошились тут же.
– Я так решил, – сказал отец, собирая вещи. – Сама посуди, могу ли я, участник гражданской войны, коммунист, отсиживаться в кабинете, когда на нас надвигается враг?
– Но твоя нога… или ты забыл о ранении? Тебя не возьмут, медкомиссия не допустит.
– Пусть только попробуют, – сердито отозвался отец.
Заметив стоявшего в дверях сына, родители замолчали.
– Батя, ты на фронт? Я тоже хочу! – вырвалось у Вальки. – Я пойду с тобой.
– Нет, сынок, – подошел к нему отец и ласково потрепал по щеке. – Ты останешься тут, с матерью и сестренками. Кто будет их защищать, если все мужчины уйдут?
– Но я тоже хочу бить фашистов!
– И на твоем веку найдется место подвигам, – набрасывая на плечо рюкзак, ответил отец и, обняв жену и детей, покинул квартиру.
К началу июля положение на фронтах стало настолько плохим, что по городу прокатилась весть об эвакуации. О ней начали говорить уже после первого налета вражеской авиации, случившегося через несколько дней после объявления войны, но тогда еще никто особо не верил, что все это надолго.
– Подумаешь… месяц-другой, и мы растопчем гадину, – слышалось повсюду. – Наша доблестная армия затопчет гадюку, отбив у нее охоту скалить зубы.
Но когда двадцать восьмого июня пал Минск, оптимизм горожан сменился тревогой.
– Сынок, мы должны собираться, – придя как-то с работы, сказала мать. – Наше учреждение эвакуируют. Нам только что приказали явиться завтра утром с вещами на вокзал. Так что иди, собери свои вещи. Много не бери, разрешили взять только самое необходимое.
– Мама, я не поеду, – тихо произнес Валя.
– Как это – ты не поедешь?
– Мы с ребятами решили податься к партизанам… Ничего не говори, это мое решение, я не отступлю.
– Валя, ты же слышал, что сказал твой отец! – воскликнула мать, прекрасно зная о пороке сердца у сына. – Тебе нельзя… ты должен остаться с нами. И в эвакуации будет место подвигам. На заводах и фабриках нужны руки. Твои руки.
– Мам, я все решил. Рекс пойдет со мной. Его все равно не разрешат брать с собой, а я не могу его бросить. Он мой друг.
Видя, что не сможет переубедить сына, женщина смирилась. Да и что мать могла сделать? Воспитывая с отцом единственного мальчика в духе беззаветной преданности стране, партии, делу, они с детства приучали его к неукоснительному выполнению своего долга перед Родиной.
На следующий день, простившись с сыном, мать с малышками отправилась на поезде вглубь страны, а Валя, собрав трех товарищей, принялся составлять план действий.
– Значит, вы хотите воевать? – внимательно рассматривая вновь прибывших ребят, с трудом пробравшихся через линию фронта в тыл противника, поинтересовался командир недавно сформированного партизанского отряда.
После взятия Минска Ставка выпустила директиву, призывая в оккупированных немцами районах организовывать партизанские отряды для борьбы с вражеской армией. Туда-то и направлялись многие подростки, воспитанные в духе патриотизма, на примерах героев гражданской войны. Они рвались в бой и были готовы ради Родины отдать свою юную жизнь.
– Да, – смело заявил Валя, глядя на коренастого человека, рассматривавшего карту местности. – Возьмите нас, не пожалеете. Мы шустрые. Пролезем туда, где не пройдет взрослый. Мы – внимательные наблюдатели и необычайно проворны: лишняя пара глаз, весьма зорких, и пара лишних ног, весьма быстрых.
– Это я уже понял, – хмыкнул командир. – Мне сказали, что вы из Могилёва? Это правда? Как же вы пересекли линию фронта? Тут гитлеровцев как грязи.
– Я же сказал, что мы шустрые, – усмехнулся Валька, не став рассказывать об испытаниях, выпавших на их долю.
– Верю… Собака твоя?
– Да, это Рекс. Он хороший. Нюх, как у охотничьих псов. За версту чует приближение людей.
– А вам известно, чем мы занимаемся?
– Уничтожаете гадов, – выпалил друг Вали. – Мы тоже хотим. Возьмите!
– Ладно, оставайтесь, не отправлять же обратно, – впервые за время разговора улыбнулся командир. – Да, собственно, и отправлять вас некуда. Только что стало известно, что на улицах Могилёва идут ожесточенные бои.
Приказав разместить и накормить ребят, командир партизанского отряда продолжил изучать карту.
В течение следующих двух месяцев ребята и взрослые совершали дерзкие, часто граничащие с безумием вылазки: факелами мести взвивались сеносклады, самодельные мины рвали полотно мостов. Выкраденное зерно, мука и картофель щедро раздавались нуждающимся, укрепляя авторитет партизан в глазах местного населения. Каждая такая акция становилась плевком в лицо оккупационной власти, демонстрацией того, что сопротивление живо и крепнет. И даже подводы полицаев, груженные отнятым у крестьян продовольствием, содрогались под их натиском. На счету вчерашних школьников числились взрывы железнодорожных путей, изувеченные автомобильные дороги, развороченные склады с боеприпасами, а однажды они на время лишили связи сорок шестой моторизованный корпус второй танковой группы самого генерала Гудериана. И всякий раз отважные мстители, ведомые своим бесстрашным «д’Артаньяном», ускользали от самой смерти. Но капризная фортуна, как известно, не вечна. Спустя три месяца после вступления в юных бойцов в отряд удача отвернулась от них, оставив наедине с беспощадной реальностью.
– Санёк, это мы… иди, погрейся. Моя смена, – похлопав по плечу замерзшего друга, проговорил Валя. – Все тихо?
– Да, даже как‑то непривычно. Обычно постоянно слышишь канонаду, ну или хотя бы далекие автоматные очереди. А тут… тишь. Не нравится мне это.
– Ты каким‑то мнительным стал, – беззвучно рассмеялся его друг. – Наверное, сказывается усталость. Пойди поешь и вздремни пару часиков. Только осторожно, хорошо?
Стояла глубокая ночь. Как и говорил Сашка, царило полное безмолвие, не нарушаемое ни далекими артиллерийскими залпами, ни автоматными очередями, ни даже одиночными выстрелами. Вслушиваясь в тишину, Валька и предположить не мог, что через несколько минут его жизнь оборвется.
– Тихо, Рекс, тихо, – услышав ворчание собаки, попытался успокоить ее Валька. – Ты чего? Или почуял кого‑то?
Собака замолчала, но по ее тревожному состоянию юный партизан понял: что‑то происходит. Верный друг еще ни разу не подвел мальчика.
– Твой чуткий нос и острый слух услышали то, чего не слышу еще я? – Валя уставился в темноту, пытаясь разглядеть то, что давно уже заметил его пес. И тут внезапно до партизана донесся звук работающего двигателя. Звук нарастал с каждой секундой, и вскоре среди деревьев замаячил свет движущегося транспорта.
– Немцы, – прошептал юноша, завидев колонну. – Может, проедут мимо?
Он тогда еще не знал, что высшим немецким командованием был дан приказ во что бы то ни стало найти и обезвредить группу подрывников, орудующих на территории района.
– Рекс, тебе нужно предупредить наших… на всякий случай. Кто знает, что на уме у этих фрицев.
Он погладил собаку и, приказав той найти Сашку, слегка подтолкнул упирающегося пса.
– Иди, Рекс, иди! Я подойду чуть позже. Ищи Сашу! Вперед!
Послушный пес бросился было в лес, но, остановившись, обернулся и поглядел на хозяина.
– Иди! Чего стоишь? Искать! – настойчивее произнес Валя.
Собака бросилась в чащу, а юный партизан продолжил наблюдение за колонной гитлеровцев.
– Одна, две, три, – считал юноша проезжавшие грузовики, – четыре, пять… да сколько же вас тут?
Неожиданно машины остановились. В свете фар Валька заметил, что из них выпрыгивают солдаты, вооруженные автоматами. Выстроившись цепью, они ждали лишь команды.
«Что же делать? – лихорадочная мысль бешено запульсировала в голове парня, отчаянно осознававшего, что времени, отпущенного на решение, почти не осталось. – Я не успею добежать, да и Рекс – тоже. А если он и успеет, то, пока наши поймут, в чем дело, их уже окружат немцы… Что же мне предпринять? Как предупредить наших?»
И тут его взгляд упал на лежавшую рядом ракетницу. «Жизнью своей никто не дорожит, когда речь идет о спасении Родины, – вспомнил он слова отца-коммуниста. – А советские люди всегда защищали, защищают и будут защищать свою страну. С рогатиной, с мечом, с винтовкой, с шашкой. Вот и ты должен вести борьбу с теми, кто хочет сломить нашу волю, кто хочет поработить и уничтожить наш народ».
– И я сделаю это, – прошептал юноша и, взяв ракетницу, выстрелил в воздух.
Он прекрасно понимал, что своим действием привлечет врага, но по-другому Валя не мог. Схватив автомат, юный партизан замер, напряженно наблюдая за противником. Возле машин послышались возбужденные возгласы, немцы напоминали растревоженный улей. Но вскоре их удивление прошло, и вслед за четкой командой послышались первые автоматные очереди, бившие наугад.
– Ближе… ближе, – шептал Валя, не сводя взгляда с идущего навстречу врага. – Еще ближе. Сейчас я отомщу за каждый сантиметр нашей земли, который вы топчете сапожищами, за каждую загубленную вами жизнь… Идите, я уже жду вас!
Продолжая стрелять беглым огнем по лесу, фрицы подошли достаточно близко, прежде чем Валя открыл ответный огонь. Юный партизан прекрасно осознавал, что у него не хватит патронов, чтобы уничтожить всех врагов, слишком уж неравны были силы, но в его власти было выиграть время, дать своим товарищам шанс занять крепкую позицию. Короткими очередями юный герой прижимал фрицев к земле, не давая им поднимать головы. Расстреляв все патроны, вчерашний девятиклассник выхватил гранату и, подпустив немцев к себе вплотную, вынул чеку…
Перед взрывом Валька на мгновение смог разглядеть удивленные лица карателей, заметивших того, с кем они вели бой. Юному солдату, беззаветно защищавшему своих товарищей и Родину, было всего шестнадцать лет…
Операция «Буссард»
Монотонный гул приближающихся самолетов наполнил морозный воздух, как предзнаменование надвигающегося бедствия. Транспортные машины, нагруженные кошмарным грузом, на который немецкое командование возлагало большие надежды и в который вложило немало средств, стремительно неслись над землей. Провалившаяся операция «Москва» вынудила Гитлера и Гиммлера пересмотреть свою тактику. Многие агенты из Abteilung Abwehr II Sonderdienst9 группы А зондеркоманды изменили свои роли, став воспитателями сирот, оставшихся без родителей в безжалостно оккупированных землях. Именно этих несчастных детей высшее руководство Рейха мечтало превратить в «сарычей»10, передавая на воспитание палачам. Эта бездушная механика превращала судьбы детей в мрачные схемы, расставляя фигуры на шахматной доске войны, где человеческое достоинство обесценивалось, а надежда на светлое будущее захлебывалась в крови.
С оперативной точки зрения идея была отличной: на праздношатающегося подростка мало кто обратит внимание, плюс сирота мог легко втереться в доверие к взрослым, ну и, конечно, что немаловажно, многие из них прекрасно ориентировались на местности.
Разместившись на холодных железных сиденьях, группа мальчишек из десяти человек держала в руках вещмешки, в которых кроме взрывчатки находились недельный запас еды и около четырехсот рублей. За спинами ребят, которым от силы было тринадцать-четырнадцать лет, висели парашюты. В штанину каждого подростка немцы вшили записку с паролем на немецком языке, упакованную в тонкую резиновую оболочку.
– Мишка, что будем делать? – еле слышно прошептал сидящий поодаль парень.
– А что ты предлагаешь?
Паренек бросил настороженный взгляд на сопровождавшего их офицера и, наклонившись к товарищу пониже, произнес:
– Думаю, как приземлимся, надо идти к своим.
– Ага, нас там ждут с распростертыми объятиями. Свои же и порешат.
– Ну, как знаешь, – пожал плечами Петька, светловолосый парень лет тринадцати. – Я, по крайней мере, возвращаться обратно к фрицам не намерен.
– Тебя же убьют! – ужаснулся Мишка.
– Какая разница, кто убьет: наши или немцы? Зато не буду чувствовать себя предателем. Решай, ты со мной или нет?
Поймав на себе настороженный взгляд офицера, мальчуганы замолчали. Тот уже хотел что‑то им сказать, но, заметив сигнал штурмана о начале высадки, громко произнес:
– Великая Германия предоставила вам возможность доказать, что вы достойны ее милости. Сделайте то, что приказано, и тогда сможете стать полноправными членами высокоразвитого общества.
Юные диверсанты выпрыгивали из самолета. Это был их первый боевой прыжок, проверка на прочность, крещение огнем. Приземлившись, группа должна была рассредоточиться по территории и приступить к диверсиям, подбрасывая мины, замаскированные под куски угля, в тендеры и выводя тем самым из строя паровозы. Если бы все посланные диверсанты совершили грязное дело, они нанесли бы значительный урон, на что, собственно, и рассчитывал враг, пытаясь всеми силами остановить наступление нашей армии.
– Стой! Кто идет?.. Стой, стрелять буду! – крикнул часовой, стоявший на посту возле Управления контрразведки «СМЕРШ» Брянского фронта. – Фу-у-у… Чего шляетесь, пацанье, ни свет ни заря? Чуть ведь не пристрелил!
Солдат настороженно смотрел на двух подростков, одетых в грязные выцветшие гимнастерки и обычные гражданские брюки и обутых в поношенные ботинки, покрытые слоем грязи.
– А ну-ка пошли отсюда. Здесь не место для прогулок, – прикрикнул часовой, уже готовый рявкнуть, но тут взгляд его вдруг зацепился за скомканный ворох тряпья в руках мальчишек.
– Нам нужен начальник, – произнес светловолосый подросток, немного выступив вперед. – Мы хотим сдаться.
– Чего вы хотите? – не сразу понял солдат. – Повтори!
– Мы диверсанты, – поддержал товарища второй, встав рядом с ним. – Сегодня ночью нас сбросили с самолета. Нам очень нужен начальник, но только самый главный.
Спустя пару часов генерал-майор Николай Иванович Железников, начальник Управления контрразведки «СМЕРШ», сидел в столовой напротив мальчишек, уплетавших за обе щеки кашу и трофейные конфеты.
– Ну что, ребят, вкусно? – разглядывая жилистых пареньков, спросил заместитель начальника Василий Степанович Шилин. – Давно такого не ели? Небось, фрицы морили голодом?
– Да нет, – Мишка оторвался от тарелки, оценивающе поглядев на мужчину, ответил: – Собственно, нас неплохо кормили. Сытно было. Лучше, чем дома. Да и все разрешали: курить, сквернословить, драться, даже вино давали.
– Вино? – товарищ Шилин поглядел на молчавшего Николая Ивановича.
– В сорок первом я уже слышал подобные истории, – подтвердил тот. – Только тогда подростков обучали управляться с гранатами и оружием, посулив взамен угостить сладостями, вином, денег дать и покатать на машине. А если откажутся, то обещали расстрелять родных.
– Мы сироты… из детдома. Нас не успели эвакуировать, вот мы и попали в концлагерь, – проговорил Петя, облизывая ложку.
– И что случилось с вами потом?
– Потом приехали какие‑то дядьки… в форме, собрали всех вместе… человек, наверно, пятьдесят… ну или меньше, бросили батон колбасы и принялись наблюдать.
– И вы дрались за этот батон? – Василий Шилин ошеломленно уставился на ребят. – Вы же пионеры! Вы же клятву давали! Как вам было не стыдно?
– Ну это ты зря, Степаныч, – остановил его генерал-майор. – Трудно даже представить, ЧТО ребята пережили в концлагере… так что не смей осуждать. Не нам клеймить их позором. Они через такое прошли, что нам, взрослым, и не снилось.
– Ага, – кивнул Мишка, недружелюбно поглядев на замначальника. – Посидели бы вы пару месяцев на одном куске хлеба и стакане воды в сутки, я посмотрел бы на вас. Да у нас ежедневно кто‑то умирал, не выдержав пыток и постоянной сдачи крови для немецких солдат.
– Да я бы ни за что…
– А что было потом? – Николай Иванович прервал Шилина, смерив того сердитым взглядом.
– Мы начали драться за колбасу, – просто сказал Петя. – А дядьки все смотрели и смеялись. После они отобрали самых смелых и сильных, в том числе и меня с Мишкой, и увезли куда‑то.
– Куда?
– В какой‑то охотничий дом, там полно было разных шкур, рогов, голов животных.
– Ага, это примерно в тридцати километрах от города Касселя, – добавил Мишка.
– Ты точно уверен? – Товарищ Железников и товарищ Шилин переглянулись.
– Да, мне удалось подсмотреть по дороге.
– И много вас там было? Ты знаешь, кто организовал школу в этом доме?
– Да, мне удалось подслушать… любопытный я от природы, – кивнул Мишка.
– Ты язык, что ли, знаешь? Откуда?
– Да нет, не очень. Старшая сестра в свое время учила в школе, вот я и шпрехаю немного.
– Ну и? Рассказывай, не молчи. Обещаю, что замолвлю о тебе словечко, если твоя информация подтвердится11.
– Как я понял, жили мы у начальника… по-моему, капитана Больца. Он-то и руководит абвергруппой‑209. Он или кто-то еще, я не знаю точно, разработали операцию… «Буссард»… так, что ли. Я не знаю, что значит это слово.
– Сарыч… это такая хищная птица, – перевел генерал-майор.
– А… ясно. Из нас зверюг делали.
– Кто обучал вас и что говорили делать?
– Там были русские инструкторы… говорили, что сбежали из Страны Советов еще в двадцатых годах. Много чего интересного порассказали, – продолжил Мишка, запихивая очередную конфету за щеку. – Ими руководили вечно чем‑то недовольные фрицы.
– Шкуры продажные! – хлопнув по колену, произнес Шилин. – Эх, не добили наши отцы белогвардейцев…
– А что конкретно? – не обращая внимания на зама, задал вопрос генерал-майор.
– О своих приключениях, о странах, в которых побывали. Рассказывали, что видели. Вот бы так же… Эх… Потом возили на экскурсии по немецким городам, заводам и фермам. Говорили, что мы тоже так будем жить, когда выполним задание.
– Вас кормили хорошо?
– Ага, хорошо, – перебил его Петя. – Уже не надо было драться за еду. Хотя драки всячески поощрялись. Мы курили и пили вино, когда хотели. Нас не особо ограничивали. Тех, кто хорошо учился, и вовсе баловали. А кто нет, – лицо мальчика покрылось мертвенной бледностью. Он как‑то странно поглядел на взрослых и, судорожно сглотнув, продолжил: – За ними приходили, и… нас наказывали. Сильно наказывали.
– Понятно… А почему решили сдаться, раз вам пообещали золотые горы?
– Брехло они, – сплюнул Мишка на пол, – знаем, что не выполнят обещание. Смеются, улыбаются, а глаза злые. Убьют нас, вот что я скажу. Как только вернемся с задания, так и шлепнут. Как пить дать! Да и тут мать с батей похоронены… сестренка с братиком. Земля‑то наша… родная. Русская.
– И много вас таких? Кто не хочет воевать на стороне немцев? – поинтересовался Николай Иванович, которому понравился ответ юного диверсанта.
– Да многие… из тридцати человек, думаю, только пара-тройка способна на подлость. Остальные только и ждали, когда вновь окажутся в родных краях, чтобы сбежать.
– Ясно… Ну что ж, может, тогда поможете найти всех? – подмигнул товарищ Железников. – А, что скажете?
– А вы не расстреляете нас? – покосился на него Петя.
– За что? Вы же сами, добровольно. Я так и доложу товарищу Сталину, что, мол, такие‑то пришли с повинной и помогли организовать поисковую группу.
– Честное пионерское?
– Честное пионерское! – подтвердил генерал-лейтенант. Затем он обратился к заместителю: – Василий Степанович, принимай ребят под свою ответственность. С тебя спрошу. Да, и переодень их. Негоже им в немецком тряпье ходить. С этого дня они воины Красной армии.
– Так точно, слушаюсь!
Через несколько часов в Москву, в Государственный комитет обороны, поступило специальное сообщение с пометкой «Товарищу Сталину срочно», в котором в мельчайших подробностях было описано событие, случившееся в первый день осени. Чуть позже стало известно, что почти все ребята, заброшенные в разные районы железнодорожных станций Московской, Тульской, Смоленской, Калининской, Курской и Воронежской областей, явились с повинной. Никто из обученных диверсантов так и не выполнил данное им задание. Как ни старались немецкие инструктора, какие бы блага ни предлагали, ни один из ребят не запятнал себя предательством, не изменил Родине, проявив тем самым несгибаемую волю и отвагу, достойную восхищения.
Судьбу же подростков, столкнувшихся с жестокостью и ложью этого мира в столь юном возрасте, окончательно решил сам Верховный главнокомандующий, сняв с них все обвинения: «Арестовали, значит… Кого? Детей! Им учиться надобно, а не в тюрьме сидеть. Выучатся – порушенное хозяйство будут восстанавливать…»
Кудрист
Созданный по приказу Третьего рейха в мае 1941 года концлагерь находился в южной части города Амерсфорт и пользовался дурной славой. По документам он значился пересыльным и трудовым местом, сортировочным центром, где решалась дальнейшая судьба тысяч узников. Об условиях проживания в нем известно не так много, всю информацию немцы старательно уничтожили, скрыв следы преступлений, направленных против человечности. Тем не менее свидетели этих ужасающих событий сохранили в памяти образ жестокости и варварства по отношению к узникам. Благодаря их воспоминаниям мы, современные потомки, вскрываем правду – ту неприглядную и, увы, неудобную правду, о которой многие нынешние правители европейских стран предпочитают молчать или забывать. Лагерь в Амерсфорте стремительно разрастался. С увеличением числа заключенных менялся и облик лагеря, однако неизменными оставались отсутствие гигиены, медицинской помощи и пищи, а также жестокость охранников. Узники расплачивались жизнью за малейшие проступки, подвергаясь побоям и унижениям, в то время как собаки, натравленные на них, становились олицетворением невыносимого страха.
– Heil Hitler, – поприветствовав начальство, громко произнес высокий голубоглазый офицер, войдя в комнату коменданта. – По вашему приказанию прибыл.
Оберштурмфюрер СС13 Вальтер Генрих окинул взглядом вошедшего подчиненного. «Истинный ариец, – подумал он, исподтишка изучая вошедшего. – Узкие бедра, широкие плечи, белокурый, кожа – алебастр, характер – сталь, закаленная в ненависти. Вот из такой глины и нужно лепить сверхчеловека, взращивать семена для идеальной расы».
– Присаживайтесь, Карл, – Вальтер указал жестом на стул, сам опускаясь в кресло за рабочим столом. – Что‑нибудь выпьете? Нет? Ну ладно, тогда перейдем сразу к делу.
Порывшись в ящике, оберштурмфюрер СС извлек какую‑то бумагу и положил ее перед собой.
– Знаете ли вы, что здесь написано? – задал вопрос герр Генрих, откинувшись на спинку кресла.
– Никак нет, герр оберштурмфюрер, – отчеканил подчиненный. – Но я смею надеяться, что вы удостоите меня честью и расскажете содержание письма хотя бы в двух словах.
– Это секретная директива министра пропаганды Йозефа Геббельса. В ней говорится, что по распоряжению фюрера именно нам с вами надлежит придать уверенность немецким солдатам. Думаю, для вас не секрет, что обстановка на фронте не столь радужна, как того бы хотелось. Наступление развивается не так стремительно, как планировалось изначально. Мы взяли Данию за шесть часов, Голландию – за пять дней, Бельгию – за восемнадцать, Францию – за полтора месяца. А тут… с начала войны прошло два с половиной месяца, а наша доблестная армия так и не добралась до столицы большевиков и не сровняла ее с землей. Перед судьбоносной битвой за Москву необходимо поднять упавший дух нашим славным воинам, которые… будем говорить начистоту, мы здесь одни… с трудом взяли Смоленск.
– Да, это удручает, – кивнул унтерштурмфюрер СС14, не понимая, куда клонит начальство. – Но что мы можем сделать здесь, в Голландии?
– У нашего министра родилась гениальная идея, и он планирует осуществить ее в нашем пересылочном лагере. Именно поэтому я и позвал вас.
– Слушаю вас, оберштурмфюрер.
– Подробности после, а пока я приказываю вам встретить новую партию заключенных, которые прибудут сюда через час, – комендант поглядел на настенные часы. – Отправляйтесь с конвоем и приведите сюда пленных.
– Их расположить в только что возведенном бараке? – осведомился офицер.
– О нет, – усмехнулся герр Вальтер. – Это особые узники, а поэтому к ним нужен и специальный… особый подход.
Спустя десять томительных минут, получив сухие, как порох, распоряжения, Карл Берг покинул кабинет начальника. В сопровождении эскорта солдат он отправился на вокзал, где его уже ждало зрелище, леденящее кровь.
«Мой Бог, кто это? – пронеслось у него в голове, когда из вагона стали выпрыгивать сухощавые фигуры, облаченные в лохмотья, на костлявых ногах которых вместо обуви были намотаны тряпки. – Это вообще люди или диковинные животные? Нечто подобное я видел когда‑то в зоопарке. Обезьяны!»
Новоприбывшие жались друг к другу и осторожно озирались вокруг, не зная, что им делать дальше и куда пойти. Они напоминали потерянные души в чистилище.
– Все заключенные выгружены! – отчеканил роттенфюрер15, вытянувшись в струну перед Карлом Бергом. – Жду ваших дальнейших приказаний!
– Проведите их по главной улице, – усмехнувшись, бросил тот, окидывая презрительным взглядом низкорослых людей со смуглой кожей и миндалевидными глазами. – Давно местные граждане не развлекались. Пусть полюбуются на тех, кто воюет с нами. Если в заключенных будут бросать камни или что‑то в этом роде, то не вмешивайтесь. Пускай горожане развлекаются.
Но простой народ и не думал веселиться, глядя на понуро идущих пленных, одетых в лохмотья, изможденных настолько, что лишь поддержка товарищей помогала им держаться на ногах.
– Мама, мама, а кто эти звери? Я не видел таких чудищ в зоопарке, – полюбопытствовал мальчуган лет пяти, удивленно рассматривающий колонну.
– Это русские солдаты, Ганс. Они попали в плен, – печально произнесла женщина, предчувствуя страшную участь, уготованную этим несчастным. Ведь тех, кто попадал в лагерь Амерсфорт, ждала верная смерть, ибо он являлся неотъемлемой частью системы уничтожения, направленной на искоренение целых народов.
– А все русские такие страшные? – не унимался мальчишка.
– Война не красит людей… она калечит… калечит не только тело, но и души.
Сочувствие к пленным выражали многие. Горожане, рискуя жизнью, пытались передать им хлеб, воду, сыр, но охранники прикладами отгоняли сердобольных жителей, не позволяя даже приближаться к измученным узникам.
Кем же были эти несчастные, прибывшие на вокзал города Амерсфорта в сентябре 1941 года? Лишь позднее, когда удалось найти русскоговорящего заключенного, выяснилось, что в душных товарных вагонах для скота в лагерь прибыли уроженцы из Средней Азии: сто один узбек. Они отчаянно сражались под Смоленском, до последней гранаты, до последнего патрона. Но, попав в окружение после продолжительных боев, не смогли прорваться и присоединиться к отступающей армии. Увы, они проиграли свой последний бой. И ценой поражения стала жизнь…
– Вы выполнили мое приказание? – оторвав глаза от бумаг, спросил герр Генрих вошедшего унтерштурмфюрера СС Берга.
– Так точно, оберштурмфюрер.
– Пленные размещены там, где я сказал?
– Так точно. Я распорядился поместить их не в барак, как остальных, а в отдельный загон под открытым небом, окруженный колючей проволокой.
– Вот и чудненько, – хмыкнул комендант и, немного помолчав, добавил: – Взятых в плен три дня не кормить и не поить. А после давать лишь половину положенного. Да, и следите, чтобы другие… сердобольные душонки… не смели их подкармливать.
– Все будет сделано, как вы приказали. Не сомневайтесь, – проговорил Карл, не совсем понимая замысел коменданта.
«Почему он не убьет их сразу? К чему все это? Голод, загон с колючей проволокой. Работники они никакие, слишком слабы… не понимаю», – роилось в голове у унтерштурмфюрера. Однако он был потомственным военным и никогда не обсуждал приказ, поэтому промолчал и в этот раз, оставив свои мысли при себе.
– А я и не сомневаюсь, дорогой Карл, – многозначительно поглядев на подчиненного, отозвался оберштурмфюрер СС. – Когда‑нибудь вы займете мое место. Вас же для этого сюда прислали, не так ли? Набираться опыта в этом… специфическом деле.
Карл Петер Берг ощутил, как краска заливает лицо. Его действительно направили в голландский концлагерь, чтобы отточить мастерство управления, прежде чем доверить одну из фабрик смерти.
– Ну-ну, не смущайтесь, – расхохотался Генрих, поднимаясь из-за стола. Он подошел к подчиненному и, похлопав его по плечу, продолжил: – Признаться, и я не намерен здесь торчать до конца войны. Так что все хорошо.
Отпустив офицера, комендант еще долго посмеивался про себя над Карлом, вспоминая растерянный вид молодого унтерштурмфюрера. Он упивался своей значимостью, безнаказанностью и властью.
Дни превратились в бесконечную вереницу, недели неумолимо сменяли друг друга, отмеряя время… для тех, кто был лишен его отсчета. Пленным казалось, что пролетели не недели, а целые эпохи. Эпохи, сотканные из жестоких испытаний, унижений и нечеловеческих страданий. Невозможно вообразить, какую боль испытывали эти несчастные души, оторванные от родной земли, от домов, где муэдзин когда‑то созывал их на молитву; где ветер играл с песком на рыночных площадях; где осень благоухала пряностями, а весна – ароматом цветущих садов. Истощенные голодом и непосильным трудом, они постепенно утрачивали не только силы, но и человеческий облик.
– Что за крики и шум? – хмуро глядя на унтерштурмфюрера, поинтересовался комендант. – Что стряслось? Кто‑то посмел поднять бунт?
– Нет, оберштурмфюрер, это все те русские варвары, – отрапортовал Карл, стоявший вытянувшись в струнку перед начальством.
– И что же сделали недочеловеки?
– Они посмели есть корм для свиней: остатки еды и картофельную кожуру. Вот и пришлось применить силу.
– Это хорошо, что наказали наглецов. Плохо, что они смогли найти пищу. Я же говорил, что необходимо следить за тем, чтобы это отребье не получало еду. Лишь только ту малую часть, которую они сейчас имеют, не более. Так вы выполняете мое распоряжение?
– Да, но пленные тогда не смогут работать…
– Плевать мне на это! – взорвался комендант. – Они должны быть ГОЛОДНЫМИ! Вам ясно?
– Да, оберштурмфюрер, – щелкнув каблуками, ответил Карл Берг.
– Хорошо… через неделю здесь будет высокое руководство. Помимо них к нам приедут журналисты и операторы с камерами. Мне нужно, чтобы русские были готовы. Им отведена особая роль, я говорил уже об этом. Все понятно? И если что‑то пойдет не так, то не только меня, но и вас не погладят по голове. Ясно? Идите!
Выйдя из кабинета, унтерштурмфюрер впал в раздумье: «Камеры, журналисты… для чего? Они хотят сделать фильм о лагере, это понятно. Непонятно только одно: при чем тут эти русские? У нас полно других пленных». И тут его осенило: приказ министра пропаганды! Вот оно что! Вот в чем причина. Здесь, на фабрике смерти, высшее руководство и решило снять мотивирующую немецких солдат киноленту.
– Что они задумали? – пробормотал Карл, подойдя к окну.
Под моросящим осенним дождем, словно загнанные звери, сгрудились изможденные, обессиленные голодом и непосильным трудом люди. Они жались друг к другу, стараясь хоть чуточку согреться. И все же, глядя на душераздирающую картину, унтерштурмфюрер СС Карл Петер Берг не сочувствовал им и не чувствовал угрызений совести. Для него те пленные были всего лишь Untermenschen – недочеловеки. А можно ли… точнее, нужно ли жалеть рабов?
Спустя неделю маленький городок преобразился: по его улочкам двигались тщательно вымытые легковые машины, за ними следом приехали грузовики, из которых выпрыгнули в начищенных сапогах одетые с иголочки немецкие солдаты. Они смеялись, шутили, затевали дружеские потасовки. Вслед за ними прикатили фоторепортеры, газетчики и операторы, тащившие на плечах громоздкую аппаратуру.
– Итак, комендант, – обратился к оберштурмфюреру СС важный офицер среднего роста, бросив на него надменный взгляд, – где же ваши подопечные? Надеюсь, вы учли все рекомендации моего начальника? Никаких сюрпризов не будет?
Группенфюрер СА Вернер Вехтер многозначительно поглядел на Вальтера Генриха, у которого душа ушла в пятки от тяжелого взгляда гостя. Не дожидаясь ответа коменданта, офицер неспешно пошел к загону, по периметру которого уже выстроились, словно сошедшие с обложки модного журнала, высокие, со светлыми короткострижеными волосами и небесного цвета глазами солдаты. Они с презрением и одновременно с любопытством смотрели на измученных пленников, сбившихся в одну большую кучу. Что и говорить: немецкие воины резко диссонировали с военнопленными.
И если бы задумка министра Йозефа Геббельса сработала, то уже через пару дней мир бы увидел пропагандистский фильм о врожденной низости людей неарийской крови, дерущихся и убивающих друг друга из-за еды. Для немецких солдат, с которых наши героически сражающиеся воины уже успели сбить спесь, эта кинолента должна была стать поучительным материалом, рассказывающим о том, что у них не должно оставаться места для жалости к такому отребью, потому что противник – не человек.
Выстроенные вдоль загона солдаты, кинооператоры и прежде всего начальство предвкушали удовольствие от зрелища.
– Можно начинать? – услужливо осведомился комендант у надменного офицера.
– Да, давайте, – махнул он перчаткой, брезгливо поморщившись, – не до вечера же тут торчать среди вони и грязи.
Оберштурмфюрер СС Генрих Вальтер кивнул Карлу Бергу, и тот без промедлений передал приказ солдату. Спустя мгновение к загону пленных подъехал грузовик. Подбежавшие охранники открыли грузовой отсек, и… все присутствующие внезапно уловили зовущий аромат свежеиспеченного хлеба, наполнивший воздух. Даже сытые арийцы невольно сглотнули от искушения, ибо этот обволакивающий аромат пьянил их. Он манил и дразнил каждого, кто был рядом…
– Скорее бросайте хлеб этому зверью! – теряя терпение, произнес группенфюрер, вспомнив о горьком пиве, привезенном для него лично из Фрисландии, которое подавали ему вчера на ужин с фламандским тушеным мясом. – Чего вы тянете? Эй, вы! Включайте камеры! Работать! Живо!
Один из охранников, взяв булку, швырнул ее в середину загона. Стоявшие по краям люди во все глаза смотрели на реакцию отчаявшихся. Тяжелая, давящая тишина зазвенела в воздухе, нарушаемая лишь звуками работающих камер. Все боялись не только пошевелиться, но и даже дышать. Собравшиеся «представители высшей расы» в предвкушении кровавого зрелища приготовились фиксировать каждый кадр жестокой бойни между бывшими товарищами по оружию. И тут… произошло такое, отчего даже самым прожженным циникам стало не по себе.
Отделившись от кучки людей, юный член группы подошел к лежавшему на земле хлебу. Опустившись на колени, он бережно взял его и, что‑то шепча, трижды коснулся губами буханки, как будто поклоняясь ей. Затем, поднявшись, исхудавший юноша с трепетом понес драгоценность к ожидавшим его товарищам. Он нес булку с таким благоговением, словно это была святыня. И действительно, для людей, которые находились на чужбине в нечеловеческих условиях, теплый свежеиспеченный каравай стал святая святых.
Подойдя к старейшему из узбеков, юноша с поклоном передал хлеб и отошел в сторону. В мертвой тишине немецкие солдаты наблюдали, как военнопленные, не сговариваясь, расселись в круг и, сложив ноги по-восточному, начали передавать по цепочке крошечные кусочки хлеба. Каждый, получивший свою долю, сперва грел о него замерзшие руки и лишь потом, закрыв глаза от удовольствия, неторопливо съедал его. А после странной трапезы по загону пронеслось таинственное: «Альхамдулиллах!»16
Это был полный провал и крушение надежд фашистского руководства, оказавшегося неспособным осознать величие душ людей другой, неарийской, расы… Гитлеровцы, обуянные яростью поражения, захлебывались в горьком разочаровании. Злоба, словно ядовитый плющ, обвивала их уязвленное самолюбие и раздутое высокомерие, требуя кровавой сатисфакции.
– Это еще что такое? – побагровев, сквозь зубы произнес группенфюрер СА Вернер Вехтер, щеки которого залила краска. – Я спрашиваю вас: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Где обещанная бойня? Где накал страстей? Почему эти твари не рвут друг друга на части? Посмотрите на них! Это же ЗВЕРИ, а не люди! А зверям несвойственно ТАКОЕ… благородное поведение! Что я покажу моему начальству, которое возложило на киноленту столько надежд? Вы разочаровали меня!
Бросив злобный взгляд на коменданта лагеря и стоящего тут же унтерштурмфюрера СС Карла Петера Берга, герр Вехтер зашагал к своей машине. Он был вне себя от злости. «Как такое возможно? – спрашивал он себя. – Кто бы мог подумать, что генетические уроды повлияют на планы Третьего рейха? В чем дело? Вероятно, их поступок – это результат халатности оберштурмфюрера или его заместителя. По всей видимости, они не уследили, и пленные имели возможность хорошо питаться. Или… те нелюди обладают теми качествами, о которых мы и не догадываемся? Возможно, поэтому наше наступление захлебнулось?.. Но… это навряд ли. Это НЕВОЗМОЖНО! Так или иначе, сегодня мне придется доложить о провале… точнее, о полном провале. Йозеф придет в негодование. Он придет в ярость, и еще какую. Не хотелось бы мне быть тем, кто принесет ему дурные вести. Пусть Генрих сам ему докладывает. В конце концов, это его “заслуга”».
Да, планы министра пропаганды провалились. Его мечты разбились о благородство народа, который, несмотря на голод и лишения, находясь на чужой земле, смог сохранить человеческий облик, сохранить совестливость, сохранить и показать зарвавшимся «хозяевам жизни» величие духа.
К сожалению, судьба этих достойных людей была предрешена. Никто и ничто не могло спасти их от гнева фашистов.
– Что прикажете, герр комендант? – спросил унтерштурмфюрер вернувшегося после разговора с начальником Генриха.
– Что прикажу? – прищурился тот, побагровев от ярости. – А как ты считаешь, милый Карл? ЧТО я могу приказать после полного провала операции? Я едва сохранил голову на плечах… Мой доклад, а группенфюрер оберштурмфюрер умыл руки, предоставив мне самому доложить о положении дел… так вот, мой доклад довел министра до белого каления. Я думал, что у меня лопнут барабанные перепонки.
– Значит…
– Ничего не значит, – буркнул оберштурмфюрер, раздосадованный тем, что его мечты поскорее покинуть это гнилое место и вернуться в Берлин разбились о характер советского солдата.
– Приказано избавиться от сброда. И чем скорее, тем лучше. Но мне кажется, что такая смерть слишком легка для выродков. Нагрузите их работой, пусть трудятся день и ночь на благо нашей империи… Ясно?
На следующее утро пленные подверглись жестокому наказанию, которое пережили, увы, не все. Несчастных били, мучили, истязали люди, мнившие себя высшей кастой, венцом творения, которые так и не смогли смириться с позором. Черепа двух умерших узбеков, не переживших кровавой расправы, долгое время «украшали» рабочий стол лагерного врача, голландца Николаса ван Ньювенхаузена, приказавшего пленным собственноручно обезглавить своих товарищей и варить их головы до тех пор, пока те не станут чистыми.
Из героической сотни до весны дожили лишь семьдесят семь человек. Голландский климат, чуждый их родным краям, пагубно отразился на их здоровье, и военнопленные не смогли больше работать. Тогда‑то оберштурмфюрер СС Вехтер вспомнил о приказе министра.
– Нам пора избавиться от советских солдат. Они – отработанный материал и уже неинтересны мне. Чтобы завтра их не было в лагере. Выполнять!
Стоя лицом к лицу с врагом, отважные души, осознавая, что их жизнь на исходе, продолжали являть чудеса стойкости и героизма. Смотря в глаза неприятелю, они пели песнь на родном языке – о Родине, столь далекой и в то же время столь близкой, мысль о которой поддерживала их все эти месяцы, наполняя сердца силой и решимостью.
Пропавший без вести
Майские жуки, словно тяжелые бомбардировщики, грозно жужжали в небесной дали. Ласковый и теплый ветерок играл в нежной листве, наполненный благоуханием распустившихся цветов, воздух пленил и опьянял своей чарующей силой. Ребята, радуясь погожему деньку, в приподнятом настроении бежали в школу, то и дело весело перебрасываясь безобидными шутками.
– Привет, дядя Лексей, – влетая в школьный двор, громко приветствовали странного мужчину, чей возраст оставался загадкой из-за густой бороды, потухших глаз и отрешенного выражения лица. Одет он был всегда в линялые военные штаны, поношенные кирзовые сапоги и потертую гимнастерку, поверх которой зимой носил стеганую фуфайку.
Дворник никогда не отвечал на приветствия ребят, и все же они неизменно приветствовали его день за днем, оставляя без внимания его полное равнодушие. В глубокой задумчивости он продолжал размеренно орудовать метлой, безучастный ко всему.
– Слушайте, а почему дворник не отвечает? Дядя Лексей работает у нас уже больше месяца, а никто до сих пор не слышал его голоса, – спрашивали друг у друга школьники поначалу. – Может, он немой? Или глухой? А может, контуженный? Мне мама рассказывала, что у них в госпитале во время войны таких было видимо-невидимо.
– А может, он был партизаном и немцы вырвали ему язык… вот и молчит, не хочет, чтобы все знали о его уродстве.
– Ой, да брешешь ты все. Он просто не хочет с нами говорить, гордится. Или прячется от кого‑то, скрывая прошлое. Кто знает? Может, он бывший полицай.
– Не… Эко ты загнул! Наш директор, Мирон Илларионович, не взял бы такого на работу. Да к тому же он сам привел его в школу, работу дал. Да и с учителями дядя Лексей не разговаривает, даже голову не поворачивает в их сторону. Странный тип, честное пионерское.
– Но директор проявляет к нему глубокое почтение. Сам видел, и не раз.
– Еще бы не ценил: дядя Лексей и сторож, и истопник, и плотник, и уборщик… и все за одну зарплату. Много ли таких найдется?
Так это было или иначе, но в школе неразговорчивый человек, окутанный ореолом тайны, пользовался большим уважением, несмотря на нелюдимость и необщительность.
Все прояснилось в канун Девятого мая. По традиции в школе проходили встречи с фронтовиками, которые во время Второй мировой войны, не жалея сил и жизни, бились с врагом, с каждой минутой приближая час победы. Ветераны рассказывали ребятам не только о том, как тяжело далась нашему народу эта победа, делились не только воспоминаниями давно минувших дней, но и говорили о сослуживцах, о мужестве простого солдата, о его подвиге, стойкости и отваге.
– Дорогие ребята, – начала Мария Степановна, учительница пятого «А» класса. – Сегодня к нам придут в гости необычные люди. Вы хорошо знаете их, так как встречались с ними в нашей школе не раз. Между тем до этой минуты вы ничего не знали об их боевом прошлом, о героизме и непоколебимой воле. Настало время узнать о…
– Мария Степановна, – входя в кабинет, проговорил директор школы, одетый в парадный офицерский мундир, на котором сияли орден Красного Знамени и Отечественной войны, – вы настолько захвалили нас, что мне уже неудобно даже что-либо рассказывать, а моему другу и подавно… Алексей, не стесняйся, заходи!.. Да не смущайся… заходи, заходи!
Немного робея, в кабинет вошел молодой человек лет двадцати пяти, чисто выбритый, одетый в новый черный костюм и начищенные гуталином ботинки. Но ребят удивила не наружность незнакомца, а медали, красовавшиеся на его груди. Помимо двух орденов: Красной Звезды и Славы двух степеней – на пиджаке – висели и две медали: одна – «За отвагу», другая – «За боевые заслуги».
– Ну что, ребята, – хитро подмигнул Мирон Илларионович, – не узнали нашего гостя? Не догадались, кто стоит перед вами?
Пионеры покачали головой.
– А тем не менее каждое утро вы здороваетесь с ним по пути в класс и прощаетесь, уходя домой… Ну! Неужели не признали?
– Дядя… Лексей? – ахнули ребята и уставились на потупившего взор человека. – Не может быть! Тот же… он же совсем старый, а этот… молодой.
– Может, может, – улыбнулся директор. – Прошу любить и жаловать: Алексей Иванович Егоров. Вы все знаете, что он наш плотник, сторож, истопник, да много еще что делает в школе, потому что у него золотые руки… Но прежде всего «дядя Лексей», как вы называете его, – мой боевой товарищ. К сожалению, во время налета вражеской авиации на госпиталь, в котором он лежал, Алёша был контужен и потерял память, а после был вынужден скитаться в надежде вспомнить прежнюю жизнь. Тем летом я случайно встретил его в Москве на вокзале и, не желая больше расставаться, привез его в село и устроил на работу в нашу школу. К счастью, болезнь отступает и память постепенно возвращается. Алексей Иванович уже многое вспомнил и может поделиться воспоминаниями. Поэтому о том, что нам пришлось пережить с ним, он расскажет вам сам.
Школьники переглянулись: разве немой может говорить? Это шутка? Ребята с любопытством принялись разглядывать оробевшего человека.
Дядя Лексей долго собирался с духом. Когда его хриплый голос наконец‑то прорезал повисшую тишину, царившую в классе, все ученики от неожиданности вздрогнули.
– Ваш… директор, – неуверенно начал сторож, – мой товарищ и командир… командир танка Т‑34. Я был механиком-водителем и отвечал за техническое состояние ходовой части танка. Мне приходилось водить танк в любых условиях, преодолевать препятствия и заграждения, выбирая оптимальные маршруты движения. И так было в течение полутора лет: мы громили врага, порой нас подбивали, мы ремонтировались и снова рвались в бой… Все изменилось 12 июля 1943 года.
Алексей Иванович замолчал. Ребята видели, как тяжело ему даются бередящие душу воспоминания, всплывшие из глубин подсознания. И кто знает, был ли он рад вернувшейся памяти?
– Мы получили приказ нанести контрудар по противнику и не дать гитлеровским захватчикам, которыми командовал… поправьте меня, товарищ командир, если я ошибаюсь… группенфюрер СС Пауль Хауссер, занять Курск ударом с юго-востока, – после непродолжительного молчания продолжил рассказ сторож. – Бои на прохоровском направлении велись уже больше четырех дней. Мы бились не на жизнь, а на смерть. Так же, командир?
– Да… Ситуация на фронтах в то время была такова, – подхватил рассказ директор школы, – что фашисты были вынуждены перенести главные усилия на прохоровское направление. В ответ наше командование решило нанести контрудар. Именно поэтому Воронежский фронт был усилен резервами Ставки.
– Да, так и есть, – подтвердил дядя Лексей. – Нашей пятой гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова была поставлена задача нанести контрудар по вклинившимся танковым частям противника и заставить их отойти на исходные позиции.
Бывший водитель-механик закашлялся и замолчал.
– Думаю, ребята, – воспользовавшись паузой, проговорил Мирон Илларионович, – вы уже все поняли, о каком сражении мы сейчас рассказываем вам?
Ребята закивали. Кто из них не знал о героическом сражении на Курской дуге? Но школьники и представить себе не могли, что услышат рассказ о тех событиях из первых уст.
– А это правда, что «Тигры» и «Пантеры» во многом превосходили по огневой мощи и бронестойкости наш танк Т‑34? – поинтересовался кто-то из мальчишек.
– Так уж «во многом», – подмигнул директор. – Да, соглашусь, эти машины были новыми, мощными, но наши самоходные орудия СУ‑152 могли с большим успехом бороться с ними. Что и доказали во время битвы.
– А было страшно?
– Бояться – это нормально, друзья. Это естественное состояние любого человека. Не боится только безумец. Да, было страшно. Но мы знали, что защищаем нашу родную землю, наших родных. Что боремся за нашу свободу, за право жить!..
– Мне кажется, что человек страшится только того, чего не знает. А мы знали, что наше дело правое, поэтому и не особо боялись, по крайней мере я, – продолжил рассказ Алексей. – Да… бои продолжались с утра до самого вечера. Земля гудела и стонала. Мы стремились вести ближний бой, так скажем, «броня к броне», поскольку дистанция поражения 76‑мм орудия наших танков была не более восьмисот метров, тогда как 88‑мм пушки «Тигров» и «Фердинандов» поражали наши бронемашины с расстояния двух тысяч метров. Обе стороны несли огромные потери под Прохоровкой, но никому из сторон не удавалось выполнить поставленную их командованием задачу. Если вначале 1‑й эшелон 5‑й гвардейской танковой армии медленно, но верно теснил врага на юго-запад, то во второй половине дня натиск ослаб, и частям, скованным яростным огнем, пришлось отбивать яростные танковые атаки противника. Что касается главных сил немецкой группы армий «Юг», то они окончательно исчерпали свои наступательные возможности.
Алексей Иванович перевел дух. События того страшного дня трудно поддавались описанию. Есть такая поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Как передать сегодняшним школьникам, не знающим ужасов войны, то, что чувствует человек, находящийся на волосок от гибели? Что испытывает он, глядя на груды раскуроченных дымящихся танков и бронемашин, рядом с которыми лежат на почерневшей земле полуобгоревшие трупы солдат? А повсюду запах гари, пороха и смерти.
– Не волнуйся, – положив руку на плечо товарища, мягко проговорил директор школы. – Это страшные воспоминания, но о событиях тех дней подрастающее поколение обязано знать, чтобы в будущем они не повторили тех же самых ошибок.
– Конечно… вы правы, – помедлив, ответил сторож, быстрым движением руки смахнув предательскую слезу. – Мы должны… рассказать правду!
Дядя Лексей обвел взглядом обратившихся в слух ребят и продолжил повествование более уверенным голосом.
– К концу дня силы противника были на исходе, впрочем, как и наши. Но никто не хотел отступать… Наш экипаж – тоже. Отстреляв полностью боекомплект, мы решили продолжать борьбу.
– Но как? – воскликнул мальчишка, сидевший за последней партой. – Вам же нечем было стрелять!
– Разумеется, – улыбнулся директор школы. – Но наш боевой Т‑34 в умелых руках этого бойца стал настоящим орудием возмездия.
– Ой, а расскажите, пожалуйста, – попросили ребята, глаза которых загорелись любопытством.
– Да что тут рассказывать? – смутился сторож. – Мы просто выполняли свой долг.
– Если Алексей не хочет говорить, то тогда я поведаю вам о том дне, – сказал бывший командир. – Как уже обмолвился мой товарищ, боекомплект наш иссяк до последнего снаряда. Но приказ об отступлении не поступал, да и не мог поступить. Мы должны были во что бы то ни стало, хотя бы и ценой собственной жизни, остановить эту вражью лавину. И тогда я принял единственно верное решение: идти напролом в самое пекло. Заметив впереди «Тигр», я скомандовал Лёшке выжать из машины все, на что она способна. Умело лавируя между остовами подбитых машин, наш танк, словно разъяренный зверь, несся навстречу стальной махине. О чем мы думали в тот миг? Думали ли о неминуемой гибели? Нет! Перед глазами вставали лица родных, оставшихся там, в тылу. Кто знает, что ждет их, если мы дрогнем? Если не выстоим? Эти мысли опаляли сердца, придавая нам силы…
