Китежское измерение
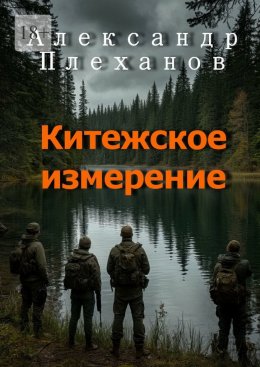
© Александр Плеханов, 2025
ISBN 978-5-0067-0804-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Этот мир – еще не весь мир».
Г. Майринк «Ангел Западного окна».
Старый трамвай, гремя на стыках рельс, миновал пожарную каланчу, свернул со Стромынки и медленно покатил по тихой зеленой улице. Справа, в обрамлении густой зелени, промелькнули строгие белые корпуса Остроумовской больницы, слева, открылась и тут же исчезла словно видение, легкая, воздушная, устремленная ввысь, церковь.
Конечная остановка. Дальше трамвай обогнет старое одноэтажное здание, бывшую ремонтную мастерскую и опять окажется в начальной точке своего маршрута.
Потапов мог сойти еще раньше, у метро, но специально проехал эту лишнюю остановку. От конечной был самый короткий путь до парка и именно туда Потапов сейчас стремился.
Сокольники… Мир его детства…
В последнее время он редко бывал здесь. Когда-то тихий и уютный, полудачный район, теперь превратился в шумный, пыльный, душный муравейник. Парк, единственное место, куда Потапов любил приходить отдохнуть и где каждая аллея и каждая лавочка напоминали ему о прошлом, стал таким же грязным и вульгарным как и все вокруг. Пустые бутылки, обрывки газет, грязь, пьяные на каждом углу, дурацкие аттракционы и люди, люди, люди…
Пытаясь скрыться от суеты, Потапов забирался все дальше и дальше, чуть ли не в Лосиный остров, но и там так же было людно и неуютно. Парк его детства, куда его совсем еще маленького водила мать, как-то быстро и незаметно умер, превратившись в суетливый, многолюдный кусок бестолковой Москвы.
Пройдя вдоль решетчатого металлического забора, которым неизвестно для чего когда-то был обнесен весь парк, он пролез в знакомую дыру. Дыру эту, сколько он помнил, несколько раз пытались заделать, но спустя некоторое время она появлялась вновь, словно символ человеческого упорства и целеустремленности.
Пройдя метров двести, Потапов наткнулся на торговый павильон: в последнее время они росли в парке как грибы после дождя.
Обычный ассортимент – пиво, водка, длинные бутылки с дешевым пойлом, выдаваемое за настоящее грузинское вино, соки, хот-доги с безвкусными сосисками и чебуреки с подозрительным мясом. Всю эту почти восточную пестроту дополняла громкая, бодренькая, глупенькая музыка.
Потапов взял бутылку «Смирновской», чебурек и пластмассовый стаканчик. Джентльменский набор, неизменный на протяжении последних пяти-шести лет.
Метрах в ста от павильона он заметил свободную лавочку. Людей поблизости, слава богу не было, а единственным соседом Потапова оказалась болезненного вида дворняжка с облезлой спиной, мелко дрожащим хвостом и грустными глазами. Несчастное животное занималось нехарактерным для собак делом – щипало траву.
«Лечится,» догадался Потапов.
Движением, доведенным до автоматизма, он аккуратно свинтил пробку со старорежимным портретом, как не раз до этого свинчивал взрыватели с мин, снарядов и бомб. Аккуратно, стараясь не пролить ни капли, он налил водку в стаканчик, и, выдержав положенную паузу, поднес его к губам. Неизвестно откуда взявшаяся парочка прошла мимо, старательно потупив глаза. Потапов опрокинул содержимое стаканчика в рот, и несколько секунд сидел неподвижно, наслаждаясь растекающимся внутри теплом.
– О-ох, – умиротворенно выдохнул он с наслаждением впиваясь зубами в горячий, брызжущий соком чебурек.
Дворняга перестала жевать траву и с испугом посмотрела на него.
– Ну что, животина, – дружелюбно сказал ей Потапов, вытаскивая из кармана мятую пачку «явы», – болеешь?
Может, это и не всегда нравилось окружающим, но Потапов никогда не мог пить один; ему необходимо было общение. Неважно с кем, главное, чтобы его слушали. Но, почему-то, единственными нормальными слушателями были лишь маленькие дети и неагрессивные животные. С ними проблем, как правило, не возникало, чего нельзя было сказать обо всех остальных вольных, а чаще невольных собеседниках Потапова. Сломанный нос и рассеченная бровь служили лишним тому подтверждением.
– На, – Потапов бросил дворняге кусок чебурека, – жрать—то, небось, хочется?
Собака испуганно обнюхала чебурек, осторожно взяла его и на всякий случай отошла подальше, словно боясь, что этот странный человек с бутылкой вдруг передумает и заберет эту диковинную еду обратно.
«Я, наверное, так же паршиво выгляжу», внезапно подумал он, «так же паршиво, как эта собака».
А ведь еще совсем недавно все было не так. Он еще достаточно отчетливо помнил себя другим. Алкоголь и безысходность еще не стерли из памяти картинки из той, предыдущей жизни, хотя с каждым днем они становились все более тусклыми, выгорая на холодном солнце пустого существования.
Думал ли старлей Потапов, что когда-нибудь, он, опустившийся и жалкий, будет сидеть в парке в обществе больной дворняги и дуть водку, словно заправский алкаш?
Как заправский алкаш он быстро захмелел и память тут же потащила его в бесконечное скитание по пыльным лабиринтам прошлого.
Он вспомнил все: и тяжесть миноискателя в руках и тревожное попискивание в наушниках, пыль, жару, разъедающий глаза пот и постоянный, въевшийся в поры души, страх. Вспомнил сухую, каменистую землю, напичканную смертью. Яркие пластиковые мины, неразорвавшиеся снаряды, радиоуправляемые фугасы и частые, вздымающиеся в белесое афганское небо, буро-черные грибы взрывов, в которых исчезали его солдаты, его друзья и он сам, рано или поздно, должен был исчезнуть точно так же, но Бог, или его антипод, сохранили его непонятно для чего. Для безрадостного, нищего конца.
Уж лучше бы лежать ему, вернее тому, что обычно остается от саперов после той самой единственной ошибки, где-нибудь под Кандагаром, под скромной пирамидкой со звездочкой, со ста граммами и с куском хлеба в головах…
Теплый июньский день, веселое, жизнерадостное щебетание птиц, густая зелень, ярко-синее небо, веселые солнечные блики не радуют его. На душе муторно и пусто.
Сегодня ему позвонил дед. Единственное родное существо оставшееся на этом свете. Такое же одинокое как и сам Потапов.
Чего он хотел? Может денег попросить? Ему, небось, ни черта в его архиве не платят. Да что Потапов может ему дать, кроме своей инвалидной пенсии? Самому жить практически не на что, наверняка у какого-нибудь бомжа с «Трех вокзалов» рацион бывает богаче, чем у бывшего офицера Советской армии Потапова. Он вспомнил офицерскую столовую в Кабуле и непроизвольно потянул чебурек в рот.
В конце аллеи показался импровизированный поезд: закамуфлированная под паровоз легковушка тащила за собой несколько вагончиков с радостно орущей детворой. Хмурый дядя с бутылкой водки и облезлая собака, к явному неудовольствию родителей, вызвали у детишек неподдельный интерес.
Парк он покинул также через дыру в заборе, только на противоположном его конце. Когда-то через эту дыру он ходил с ребятами на каток к бездействующему зимой фонтану, через неё же, став чуть постарше, он попадал на дискотеки, а однажды спасался бегством после разгромной драки с «преображенской» шпаной.
Пройдя вдоль бесконечного забора он пересек вечно оживленный Сокольнический вал и, спустя минуту, оказался в своем дворе. Серый угол дедовской пятиэтажки молчаливо приветствовал его.
Двор изменился и, конечно же, в худшую сторону.
Теперь он был пустынным и радостный детский гомон не населял его как раньше. Несколько убогих лавочек вокруг покосившегося мухомористого грибка, вычерпанная до дна песочница и кастрированные качели.
Много лет назад, жилец из второго подъезда Петухов, как-то ночью, по-воровски, спилил качели. Сделал он это, как выяснилось, из благих побуждений, опасаясь за жизнь своего сына. Петухов-младший, приводя весь двор в ужас, норовил на этих самых качелях сделать «свечку»: лавры доблестных советских космонавтов, по-видимому, не давали ему покоя. Скорее всего, своего он рано или поздно добился бы, но партизанская выходка его папы, вышедшего в ночное с ножовкой по металлу, помешала осуществлению героической мечты.
Сына Петухов спас, но сам, как злостный хулиган, сел на полтора года.
В подъезде все так же пахло чем-то кислым, а под лестницей, где в свое время Потапов познакомился с табаком и алкоголем и чуть было не познакомился со всем остальным, жалостливо попискивали котята. Привычные запахи, привычные звуки, привычные одиннадцать ступенек до обитой коричневым дерматином двери…
– Ты чего так долго? – вместо приветствия недовольно спросил дед, – опять пил?!
– Чуть-чуть.
– Ничего себе чуть-чуть, – дед подозрительно засопел, принюхиваясь, – разит за километр.
Старая, родная квартира. Здесь Потапов родился и вырос. Он знает эту квартиру, все ее особенности, ее характер и ее тайны. Все так же слезливо сочится кран в ванной и хлопает от сквозняка расшатанная форточка, которую, почему-то, никто никогда не пытался укротить. Знакомо поскрипывает паркет при входе в спальню, помнящий самые первые шаги маленького Потапова. Трещина в оконном стекле, напоминание о чьих-то детских шалостях, неумело залеплена синей изолентой, а в коридоре все тот же неуловимо-стойкий запах гуталина. Дед терпеть не мог грязную, нечищеную обувь и всячески прививал эту нелюбовь Потапову. Увы, пыль афганских дорог намертво въедалась в кирзу, сколько ее не чисть…
Потапов прошел на кухню, выставил бутылку на стол и уселся на жалобно скрипнувшую табуретку. Заныла старая рана под коленкой.
– Ты вот чего, – дед решительно указал на бутылку, – эту штуку убирай.
Разговор у меня к тебе.
– Нога болит, – скривился Потапов, – только так и спасаюсь.
– Знаю я тебя, – буркнул дед уже не так строго, – то нога, то еще что нибудь.
– Да, правда, ты же знаешь.
Конечно же, дед все знал и помнил.
Ташкентский госпиталь, под завязку забитый раненными; кто без рук, кто без ног и, среди них, его единственный внук Андрюша, в бинтах, в гипсе, на костылях, но слава богу, живой. После внезапной смерти дочери, матери Потапова, внук стал для деда чем-то гораздо большим, чем просто родным человеком. И, едва узнав о его ранении, дед бросил все свои дела и через всю страну кинулся к нему в Ташкент. В госпитале он находился с ним до последнего дня, до комиссования.
– Ты сам-то будешь?
– Нельзя мне, – хмуро покосился на бутылку дед.
– Почему? С каких это пор?
– «Скорую» вчера вызывал. Сердце что-то прихватывать стало.
– Да ты что?! – Потапов испуганно уставился на деда, – чего же ты сразу не сказал?!
– Да чего говорить, ведь не помер же, – дед поспешил сменить эту, неприятную ему тему. – Ты то как? Все так же?
– Все так же, – мрачно кивнул Потапов.
– И никаких перспектив?
– Откуда же им взяться?!
Перспектив действительно не было. Кому нужен отставной сапер-полуинвалид?! Даже грузчиком устроиться и то проблема.
– Эх, Андрюша, Андрюша, – покачал головой дед, – плохо это.
И неожиданно добавил:
– А я, наверное, помру скоро.
– Да что ты, в самом деле?! – Потапов даже вскочил с табуретки, – и так хреново, и ты еще…
– Сядь! – резко сказал дед.
Потапов растерянно повиновался.
– Сядь, не скачи, – дед тяжело вздохнул.
Потапов нервно поковырял ногтем дырку в старой, целлофановой скатерти.
– Пропадаешь ты, Андрюша, – глядя куда-то в пол грустно проговорил дед, – зазря пропадаешь.
– Да ничего я не пропадаю, – попытался возразить Потапов, но дед лишь устало махнул рукой
– Короче, разговор у меня к тебе есть. Серьезный разговор.
Дед внезапно замолк и некоторое время отрешенно глядел сквозь Потапова. Потом так же внезапно продолжил:
– Помочь я тебе хочу. Никому, никогда, даже бабке твоей и матери не говорил я об… этом, но сейчас, наверное, время пришло. А то так и унесу с собой…
– Ты о чем, дед?
– Не перебивай! – раздраженно махнул рукой дед, – слушай и молчи!
– Молчу.
– Дело серьезное, Андрюша.
Дед бросил быстрый взгляд на бутылку.
– Ты что за гадость пьешь-то? «Смирновскую»?! Плесни-ка чуток, самую малость.
– А сердце?
– Да ладно…
Потапов разлил водку.
– Все в этом мире, Андрюша, делается ради денег, – дед неуверенно опрокинул стопочку, пожевал губами, как бы сомневаясь в правильности содеянного и утер рот сухонькой ладошкой. – Все завязано на деньгах. Поэтому, лучше быть богатым, чем бедным. Да что тебе говорить, ты и сам это не хуже меня знаешь. Конечно, как говорят, счастье не в деньгах, но если их нет, то нет и счастья. Нет и быть не может, потому, как счастье тоже любит деньги. Все несчастья от бедности и все несчастные, как правило, бедны. А я богат, но не могу сказать что я шибко счастлив.
Потапов удивленно посмотрел на деда.
– Ты так на меня не смотри, я из ума еще не выжил! – дед ткнул пальцем в пустую стопку и Потапов поспешно налил, – раз я говорю что я богатый, значит так оно и есть.
– Я… не совсем понял…
– Сейчас все поймешь, – дед на этот раз более решительно опрокинул стопку.
Потапов внезапно почувствовал как внутри его покалывает неприятный холодок – словно в предчувствие чего-то нехорошего. В последний раз такое с ним было в Афгане, в тот проклятый день, когда он, проверяя очередную дорогу, вдруг отчетливо, прямо под ногами, услышал громкий хруст взводимого взрывателя…
Вся жизнь, что была до этого момента, разом перестала существовать, остался лишь обжигающий внутренности холод.
Он, застыв на месте, беспомощно уронил ненужный теперь миноискатель и стянул с головы наушники. Все, кто были вокруг, поняли что случилось, их посеревшие лица медленно приближались и на каждом из них Потапов читал собственный приговор. Сержант Соломатин подошел первым, губы его шевелились, но что он говорит, Потапов не понимал. «Где она, твою мать!» откуда-то издалека приплыл истеричный выкрик. Соломатин, упав на колени поспешно отстегивал с пояса штык-нож. Взрыватель затаился где-то под пяткой. Туда, под стоптанный, пыльный каблук сапога Соломатин и загнал штык. На Потапова быстро натянули бронежилет и сунули в руки тяжеленную, килограмм на пятьдесят связку танковых траков. «Кажись есть!» Соломатин напрягся всем телом, придавливая штыком взрыватель, «отходи!» Потапов, обливаясь холодным потом, медленно приподнял ногу. Сейчас, освобожденный взрыватель должен выскочить наверх и Потапов с Соломатиным дружно исчезнут в облаке взрыва. То, что от них останется закопают здесь же, на обочине, под наспех сколоченной пирамидкой со звездочкой и коряво написанными фамилиями.
«Х..ли ждешь?!» прохрипел Соломатин, «клади!». Взрыва не последовало и Потапов, еще не веря в свое спасение, аккуратно придавил траками напряженно дрожащий штык. На четвереньках они отползли подальше, за спасительный стальной борт сопровождавшего их бэтээра и в этот момент, когда, казалось бы, все уже осталось позади, откуда-то сзади, с гор затрещали автоматные очереди. По броне бэтээра, противно визжа, ударили первые пули, Потапов рванул со спины автомат, но внезапно увидел собственный разорванный сапог, дымящуюся кирзу и стекающую по голенищу темно-вишневую жижу…
– Чего задумался? – дед встал и не спеша прошаркал к холодильнику. Ковырялся он там долго, хотя Потапов прекрасно знал, что холодильник у деда пустой.
– Сыр будешь?
– Да нет, спасибо…
– Кто же пьет не закусывая?! – дед положил на стол крошечный кусок сыра, – эдак мы захмелеем, а разговор у нас долгий.
Потапов пожалел, что не зашел по пути в булочную и не купил хотя бы батон хлеба, но дед, словно читая его мысли извлек из холодильника полбуханки бородинского и банку маринованных огурцов.
– Простая пища – самая полезная, – нравоучительно изрек он, – наливай!
На этот раз выпили почему-то не чокаясь.
– Так вот, – закусив огурцом продолжил дед, – дело в том, Андрюша, что своим богатством я хочу поделиться. Кроме как с тобой, мне делиться не с кем. К тому же оно тебе нужнее. Ты еще молодой и оно тебе пригодится больше чем мне. Но, – дед предостерегающе поднял палец вверх, – то что ты сейчас узнаешь, может очень здорово изменить твою жизнь. И необязательно в лучшую сторону. Потому, как я уже тебе говорил, все в этом мире завязано на деньгах. А у нас речь пойдет о больших деньгах. Об очень больших деньгах. А большие деньги – это бездна. Человек перед бездной бессилен. Как правильно заметил кто-то из древних, чем пристальнее ты всматриваешься в бездну, тем пристальнее и она всматривается в тебя. Так что подумай, Андрюша, стоит ли связываться с бездной?
– Дед, я не совсем понимаю, о чем речь? – Потапов никак не мог уловить суть, – ты хочешь со мной поделиться? Чем?
– Я же тебе говорю, что я очень богатый человек. Уж наверное мне есть чем поделиться!
«Съехал он что-ли?» раздраженно подумал Потапов, «несет какую-то пургу, это даже не смешно!»
– Дед, ты меня извини, но я ничего не понимаю.
– Так я тебе все расскажу. Если ты хочешь.
– Хочу.
– Тебе рассказывать все с самого начала, или только про то, что тебя интересует?
– Рассказывай все, – решительно согласился Потапов. Он не знал, что его конкретно интересует, но решил, что упускать из этого странного разговора с дедом не следует ничего.
– Хорошо, – дед удовлетворенно кивнул, – ты сам захотел. И плесни-ка еще.
– Тебе не много? С твоим сердцем?
– Для такого разговора в самый раз, – дед пожевал губами, провел сухонькой ладошкой по лицу, словно отгоняя какое-то неприятное воспоминание и не спеша начал:
– Было это году в пятьдесят шестом. Я тогда был еще молодым пацаном, вроде тебя и всюду совал свой нос. Время было интересное. После Сталина открывались некоторые архивы, и работы было много: кое-что нужно было подчистить, кое-что вытащить на свет божий, а кое-что и запрятать подальше. И вот как-то раз, совершенно случайно, попал ко мне один странный документик времен гражданской войны. В нем группа красноармейцев во главе с неким комиссаром Нестеровым утверждали, что в девятнадцатом году, близ города Семенова, в глухих нижегородских лесах, наблюдали странное явление. Прямо посередине озера, сильно обмелевшего из-за страшной жары, появились купола церквей. Далее, утверждал Нестеров, по ночам раздавался непонятный колокольный звон, до смерти пугавший суеверных красноармейцев. Кто звонил в колокола, выяснить не удалось, так как буквально через день зарядили дожди, и купола опять исчезли под водой. Самое удивительное заключалось в том, что этот самый комиссар Нестеров работал в нашем архивном управлении. Тогда он уже, разумеется, не был комиссаром, но должность занимал соответствующую – он был начальником Первого отдела. С этим документиком я прямо к нему и пошел. Объясните, дескать, Петр Иванович, что делать с этой странной, непонятной бумажкой. Нестеров посоветовал мне ее «вычистить»: история, дескать, старая, сам он тогда молодой был и ничего уже не помнит, да к тому же аккурат перед войной соответствующие органы занимались этим самым делом, так как там постоянно происходила какая-то чертовщина. Но так ничего вразумительного выяснить не удалось и дело это похерили. Тем более, что никакой угрозы для советской власти оно не представляло. Говорил Нестеров убедительно, но как-то не так. Когда я спросил его, что же он все-таки видел, он довольно-таки резко посоветовал мне об этой «ерунде» забыть. И забрал документ себе. Это мне показалось очень странным. Сам посуди: человек увидел что-то непонятное, составил даже документ с подробным описанием увиденного и, вдруг, все забыл! Как такое вообще можно забыть?! Что-то тут не то. Ведь, как известно, просто так ничего не бывает. Как говорил Шекспир «из ничего не выйдет ничего». Тем более, если за такое дело даже брались органы. И я полез в архивы. Просто так, из любопытства. И вот тут-то, почти сразу же, всплыло это загадочное название – Китеж!
Дед с некоторым беспокойством посмотрел на бутылку и на свою пустую стопку. Потапов молча разлил остатки «Смирновской».
– Я сначала относился к этому как к сказке, – дед довольно улыбнулся, – но, поверь мне, не бывает на свете сказок. Все, что есть в сказках, было когда-то на самом деле. Просто дошло до нас в сильно искаженном виде. А если подойти к этому делу серьезно, если копнуть поглубже, то очень быстро поймешь, что любая сказка или легенда имеет под собой вполне реальное основание. Свой фундамент. Базис.
– Ну, если это так, – Потапов снисходительно усмехнулся, – то, получается, и Змей Горыныч и Кащей Бессмертный были на самом деле?
– А ты докажи, что их не было, – живо парировал дед, – у тебя есть какие-то факты?
– Точно так же, как их нет и у тебя.
– Ну и что, что нет? Просто я этим вопросом не занимался, а Змей Горыныч мог реально существовать хотя бы потому, что он задокументирован.
– Что?! – Потапов чуть не расплескал стопку, – задокументирован?!
– Да, задокументирован, – невозмутимо подтвердил дед.
– Где же?!
– Да хотя бы в сказках.
– Опять сказки. Тоже мне документ! – фыркнул Потапов, – на заборе, извиняюсь, хрен «задокументирован», что же теперь, всему верить?
– Ну, здесь ты не прав. В свое время Шлиман начал искать Трою исключительно по гомеровской «Илиаде», которая была самой что ни на есть сказкой. И нашел же! Так, почему, спрашивается, не может существовать какой-нибудь Змей Горыныч?
– Ну, это же несерьезно.
– А ты докажи! Докажи, что его нет.
– А ты докажи, что он есть.
– Ладно, мне продолжать, или еще поспорим? – дед раздраженно толкнул пустую стопку.
– Да, продолжай, конечно, – Потапов примирительно улыбнулся.
В прихожей размеренно, даже как-то лениво загудели старые напольные часы.
– Ну, так вот, – недовольно пробурчал дед, – в общем, я вышел на Китеж. Через полгода я знал о нем почти все и, в то же самое время не знал ничего. Да, вроде был город, но, может, и не было, так как на его месте сейчас озеро. С другой стороны, ни у одной из легенд нет точного адреса, а у этой есть. Так что же здесь больше, правды или вымысла? Оказалось, больше правды. А понял я это совершенно случайно. Изучая нашествие Батыя, я наткнулся на один непонятный мне момент. В котором, как выяснилось, и скрывалась отгадка. Удивительно, – дед радостно потер руки, – как мне это сразу в голову не пришло? И уж совсем непонятно, почему это понял только я?
Короче, весной 1238 года, после окончательного разгрома Руси, после битвы на реки Сити, после несостоявшегося похода на Новгород, батыева орда повернула обратно в степи. К тому моменту она распалась как бы на несколько орд, которыми руководили ставленники и родственники Батыя и которые действовали независимо друг от друга. Сам Батый, двигаясь впереди своих орд, в начале марта осадил Нижний Новгород, довольно легко его взял и… внезапно повернул обратно, на север! Пройдя почти семьдесят километров в направлении Семенова, который тогда был почти деревней и, естественно, никакого интереса для Батыя не представлял, орда так же внезапно разворачивается и, теперь уже без задержек, уходит в поволжские степи. Чем это можно объяснить?
Дед, кряхтя, встал и ушел в комнату. Вернулся он спустя пять минут с новой бутылкой водки и… сложенной вчетверо старинной картой, явно позаимствованной из какого-то архива.
– Вот смотри, – дед ткнул пальцем в карту, – видишь какой крюк?
Потапов внимательно стал вчитываться в старые, с ятями, названия городов, сел, деревень, рек и озер. Перечеркивая всю карту, с севера на юг, тянулась длинная красная стрела, острием своим упираясь в Нижний Новгород. От него отходила другая, поменьше, не стрела уже, а стрелочка. Сделав крюк вокруг маленькой точки под названием Семеновъ, стрелочка превращалась в жиденький пунктир и убегала за Волгу.
– Действительно крюк, – согласился Потапов, – но почему?
– Я тоже долго думал почему, – дед хитро улыбнулся, – очень долго. Вот ты, человек военный, объясни мне, для чего нужен такой маневр?
– Ну, знаешь ли, – улыбнулся Потапов, – причин может быть столько…
– А ты представь себе 1238 год, батыева орда, тысяч, эдак пятьдесят народу, огромный обоз с награбленным добром, и вдруг, ни с того, ни с сего, вся эта махина разворачивается на сто восемьдесят градусов и продираясь сквозь дремучие леса, движется неизвестно куда и, что самое интересное, неизвестно зачем. Объясни, зачем?
– Значит, было зачем.
– Ну, это и ежу понятно, – хмыкнул дед, откручивая пробку, – давай думай, стратег.
– Наверное, они кого-то преследовали, – предположил Потапов, – или чего-то преследовали.
– Кого-то, чего-то, – дед разлил водку по стопкам, – это и так ясно. Но, в принципе, правильно. Преследовали. Только кого? Или чего?
– Ну, уж этого я не знаю, – развел руками Потапов, – я не специалист.
– Давай, – дед поднял свою стопку, – за специалистов.
Облегченно булькнув, стопки опрокинулись в широко распахнутые рты. За ними последовала неизменная черняшка, неумело декорированная вялыми ломтями сыра.
– Короче, отгадку, как, впрочем, все в этой истории я нашел совершенно случайно, – дед опять победно улыбнулся. – После взятия Нижнего, Батый разорил все города, и даже все села в округе. Ни одного дома не оставил целым. Почему? Потому, что он искал что-то такое, чего не нашел в Нижнем. Поэтому он и двинулся обратно на север, преследуя, как ты сказал, кого-то или чего-то. Что он мог преследовать? Какие цели он вообще преследовал, оправляясь в поход на Русь? Как я уже говорил в самом начале, Андрюша, все в этом мире делается ради денег. Взяв Нижний, Батый не нашел там ровным счетом ничего, хотя Нижний был ничуть не беднее чем, например, Тверь или Рязань. Поэтому, видимо допросив кого-то из пленных горожан, Батый и повернул на север, пытаясь догнать то, что у него увели из-под носа. И почти догнал, – палец деда пополз по карте и уперся в небольшое синее пятнышко, – догнал у, так называемого, Святого озера, но все дело в том, что в те времена… озера этого еще не было!
– Как не было? – удивился Потапов, – а что же было?
– На его месте был Китеж! Именно туда нижегородцы свезли все свое добро, надеясь спасти его от Батыя. Они думали, что монголы не найдут их, и поэтому решили спрятаться среди болот, в непроходимых лесах, в отрезанном от внешнего мира монастыре.
– В монастыре? – еще больше удивился Потапов.
– Именно, в монастыре! Потому, что Китеж никогда не был городом, в привычном понимании. Он был монастырем, причем женским и находился, как и все тогдашние монастыри, в глуши, в лесах. В стороне от городов, дорог, торговых путей и всего внешнего мира.
– А откуда ты знаешь, что монастырь был женский? – Потапов потер ноющую ногу.
– А потому, что с Китежем связана еще одна легенда – о святой Февронии. Скорее всего, Феврония была настоятельницей монастыря и именно она, по-видимому, руководила затоплением Китежа.
– Как затоплением?! – Потапов окончательно перестал понимать деда.
– А ты что думаешь? – дед весело засмеялся, – что он сам по себе утонул? Так, Андрюша, действительно только в сказках бывает. Я объясню. Монастырь стоял в низине, в отличие от городов, которые сплошь и рядом строились на возвышенностях. Рядом протекала река, Керженец, и для того, чтобы защитить Китеж от весенних паводков, была построена примитивная плотина, которая, кстати, сохранилась и до наших дней. А так как дело было весной, по видимому наступившей в тот год рано, то для затопления монастыря требовалась самая малость – открыть плотину. Что и было сделано, после того, как подошел Батый.
– Так получается, они сами себя затопили?!
– Конечно! – дед опять потянулся к бутылке, – а что им еще оставалось делать? Ты только представь себе ту ситуацию: женский, совершенно беззащитный монастырь, в который нежданно-негаданно прибывает нижегородский обоз: несколько десятков подвод груженных серебром, золотом, мехами и прочим барахлом. А на хвосте уже сидят монголы. Что делать? Что бы ты сделал?
– Ну…
– Вот тебе и «ну»! – дед неаккуратно, проливая на стол разлил водку, – затопили его, я имею ввиду обоз, вместе с Китежем, до лучших, так сказать времен. Которые так и не настали. Вместо Китежа Батый нашел только озеро. Кстати, есть еще одна любопытная деталь: во всех преданиях упоминается о том, что Китеж отражается в воде, хотя самого его на берегу нет и, следовательно, отражаться он никак не может.
– И что это значит?
– Это значит то, что его видно. Озеро неглубокое, вода чистая и монастырь, если повезет, можно разглядеть с берега.
– Интересно, – Потапов живо представил себе озеро с проглядывающими сквозь толщу воды домами и церквями, – а что стало с людьми?
– Что стало? – дед задумчиво пожевал губами, – скорее всего в полон угнали или перебили.
– Может, кто выжил?
– Конечно, кто-то выжил. Иначе не было бы упоминаний ни о Февронии, ни о самом Китеже.
– Так, получается, всё это до сих пор там?!
– Барахло-то? – дед невесело усмехнулся, – конечно, там, куда же оно денется? Все ждет, пока его заберут.
– И никто об этом не знает?
– Никто. Только ты и я.
Потапов налил себе водки и залпом выпил.
– И ты хочешь, что бы я…
– Больше некому, Андрюша. Либо ты, либо никто.
– А ты?
– Не смеши! Куда уж мне… – дед покачал головой, – старый я, да и не нужно мне это, – взгляд деда внезапно мечтательно затуманился, – мне нужно другое.
– Что же?
– Если ты все это отыщешь, я хочу, чтобы все знали, что это мое открытие, моя находка. Короче, я хочу быть русским Шлиманом. Чтобы меня помнили как человека, нашедшего Китеж.
– И это все? – удивился Потапов, – так мало?
– Наоборот, Андрюша, – дед ласково улыбнулся, – это слишком много.
Дед опять встал и ушел в комнату.
Вернулся он спустя несколько минут со старым фанерным чемоданчиком, довоенного образца.
– Наверняка, ты мне не поверил и считаешь меня сумасшедшим, окончательно выжившим из ума старым пердуном, – дед положил чемоданчик на стол, – надеюсь, это тебя убедит больше, чем мои рассказы. Открывай!
– Что это? – Потапов с интересом покосился на чемоданчик.
– Открывай, открывай, сам сейчас увидишь.
Потапову долго пришлось повозиться с тугими замками, прежде чем чемодан, наконец, открылся.
– Ну? – насмешливо спросил дед, – теперь веришь?
Сначала Потапов подумал, что дед издевается над ним – в чемодане была беспорядочно навалена какая-то рухлядь: ржавые железки и трухлявое дерево. Но, приглядевшись внимательнее, он понял, что это не рухлядь. По крайней мере, такого он никогда еще в жизни не видел. Даже в музеях.
Большую часть чемодана занимала прямоугольной формы истлевшая деревяшка, сильно похожая на раму от картины. Кое-где к дереву были прикреплены тускло поблескивающие пластинки с плохо различимыми узорами. Все остальное пространство чемодана занимали маленькие кругляши, с неровными, словно обкусанными краями. Кругляшей было много, очень много, не меньше полутора сотен. И деревяшка с пластинками, и кругляши, все это было покрыто налетом глубокой старины, если не древности.
– Это… золото, дед? – почти шепотом спросил Потапов.
– Оклад, похоже, из серебра, а все остальное золото.
– Так, получается, все это правда?! – Потапов растерянно уставился на деда.
– А ты что думал? Стал бы я битый час тебе сказки рассказывать!
– Подожди, – Потапов встал и заковылял в ванную, – нога разболелась.
В ванной, вместо ноги он сунул под ледяную струю свое пылающее лицо. Хоровод беспорядочных мыслей, словно снежинки в пургу, крутился в голове. «Господи, неужели это правда?!» – вопросил Потапов свое отображение в зеркале. Человек с мокрым, растерянным лицом испуганно посмотрел на него. Потапов не мог поверить, не мог осознать, что за эту минуту, пока он пялится на себя в зеркало, его жизнь стала другой. Точно так же как и тогда, на горной афганской дороге, когда он под ржавым брюхом бэтээра стаскивал с ноги окровавленный располосованный штыком сапог. Только тогда жизнь круто покатилась под гору, а сейчас, похоже…
Вернувшись на кухню, он обнаружил «русского Шлимана» спящим на табуретке, свесившим голову на грудь и пускающим пузыри из полуоткрытого рта. Старая карта с ятями небрежно валялась посреди стола, в окружении пустых стопок, недопитой бутылки и изломанного батона.
Осторожно, чтобы не разбудить деда, Потапов снял со стола чемоданчик и взял маленький, первый попавшийся под руку кругляш. После чего тихо выскользнул из квартиры…
Через полчаса он торопливо шел по измайловской барахолке, напряженно выискивая кого-то в длинной шеренге лоточников. Перед одним из лотков, с немецкими касками, крестами и посмертными медальонами, он остановился, судорожно сжал в кармане монетку и решительно шагнул вперед:
– Здорово, гробила! Давно не виделись.
* * *
Предложение стать «гробилой», полученное Соломатиным несколько лет назад, не сильно его удивило.
После Афганистана его вообще мало что удивляло. Все удивления, переживания, сомнения и надежды навсегда остались там, «за речкой». Как и многое другое и многие другие.
Не подвергая себя мучительным раздумьям, он лишь уточнил, что от него конкретно требуется и сколько его услуги будут стоить.
Перспектива ковыряться в земле его не смущала. В Афгане ковырялся задаром, да еще рискуя жизнью, а здесь та же самая работа, только за хорошие деньги. Которые, к тому же, ох как не помешают выброшенному на помойку жизни офицеру. Да и работа, если честно, не особо пыльная. Ни мин тебе, ни снарядов, ни бомб, ни прочего железа и пластика, имеющего свойство взрываться. Есть, правда, своя специфика, но человек ко всему привыкает быстро.
«Гробилы» были всегда. На протяжении тысячелетий они охотились за всем тем, что человечество либо потеряло, либо сознательно спрятало. Они разграбили древнеегипетские пирамиды, выпотрошили скифские курганы и добрались до погребенного под многокилометровой толщей воды «Титаника». Их не останавливало и не остановит никто и ничто. Ведь золотая цепочка из скифского кургана и вилка с «Титаника» ценятся одинаково высоко. На любом аукционе люди готовы платить огромные деньги именно за вилку с «Титаника» и именно за цепочку из скифского кургана. А раз есть спрос, то всегда будет и предложение. Поэтому всегда были и будут «гробилы», этот самый спрос удовлетворяющие.
Представителем такой вот славной профессии и стал Соломатин.
Правда, он, вместе со своей группой, не потрошил древнеегипетские пирамиды и не нырял к затонувшим испанским галеонам – все было гораздо проще: они, в основном, прочесывали места боев, старые заброшенные кладбища, развалины монастырей и прочие заброшенные и Богом забытые места. Их целью были военные награды, драгоценности и оружие.
Много чего повидал Соломатин. И не раз и не два было ему противно и муторно, особенно когда приходилось выкапывать полуистлевшие солдатские останки и срывать с рассыпающихся костей смертные медальоны. Последней сволочью ощущал он себя, доползая до увязшего посреди болота «фокке-вульфа», где радостно ощерившийся скелет в летном шлеме и с железным крестом продолжал сжимать штурвал. Матерясь в душе, а чаще вслух, поддевал он воровской фомкой ржавые люки танков, бронетранспортеров и самоходок, и зажимая нос от застарелого смрада разложения, обшаривал то, что полвека назад было солдатами. Не менее гнусно чувствовал он себя раскапывая старые – престарые не могилы даже, а чуть заметные холмики, на которые, радостно попискивая, указывал миноискатель.
Чуть позже выяснилось, что быть «гробилой» не так уж и безопасно.
Однажды их немногочисленный отряд обстреляли из автоматов, из самых настоящих «калашей», трескотню которых Соломатин начал уже подзабывать. Один раз, на густо заросшей лесной дороге, ведущей к заброшенному монастырю, он наткнулся на неумело поставленную противопехотную мину, а чуть дальше, перед самым монастырем, нашел несколько довольно грамотно установленных растяжек. Разбросанные по монастырскому кладбищу черепа и кости говорили о том, что совсем недавно здесь поработали коллеги—конкуренты. А как-то раз, прямо посреди дремучего леса, километрах в пятидесяти от Пскова, они столкнулись с точно такой же группой. Нервно полязгав затворами моментально извлеченного оружия, две группы поспешили разойтись каждая своей дорогой.
Да, временами было страшно. И интересно. Но, тем не менее, Соломатин все равно ничему не удивлялся. Ну, подумаешь, мину зарыли посреди дороги, подумаешь, растяжек наставили, подумаешь, люди по лесу с автоматами шастают. «Гробилы» всегда отличались своеобразным чувством юмора. А вообще-то, какая жизнь, такие правила игры. Чему тут удивляться?!
Но сегодня Соломатин был удивлен. Даже очень удивлен.
Сначала перед ним появилось нечто, очень похожее на бомжа. В этом самом «нечто» он, не без труда, узнал своего старого афганского «корешка» старлея Потапова. Последний раз они виделись почти год назад, в самом начале «гробильной» деятельности Соломатина. Зная, что Потапов сидит без работы, Соломатин, помнится, тогда предложил ему поработать вместе с ним, но тот отказался. Могилки и склепы, по-видимому, не сильно вдохновляли его.
А теперь вот, спустя год, Потапов нашел его сам. Впрочем, Соломатин не знал, радоваться ему этому обстоятельству или нет? Уж больно непрезентабельно выглядел бывший старлей. Одетый в какие-то грязные обноски, с помятым лицом и всклокоченными, давно не стрижеными волосами, Потапов напоминал типичного представителя, так называемого московского «дна». Блуждающий взгляд и стойкий запах перегара довершали полноту картины.
Потапова же, все это, похоже мало смущало, так как он решительно, не слушая никаких возражений, потащил упирающегося Соломатина в близлежащий местный пивняк. И уже там, выпив залпом кружку холодного пива и минуя общие темы, оглушил Соломатина невероятной, совершенно дикой историей. Соломатин сначала подумал, что его старый «корешок» попросту сошел с ума. Обычное, в принципе дело, для прошедшего Афган и злоупотребляющего алкоголем человеком. Но когда Потапов, по-воровски оглядевшись по сторонам сунул ему в руку маленький кругляш, Соломатин растерялся. Еще больше он растерялся когда Потапов сообщил ему, что «такого добра» они могут «нарыть» очень много. Единственная проблема в том, что ему нужен компаньон. Человек умеющий работать лопатой и имеющий связи среди антикваров.
– Подожди, – собираясь с мыслями, Соломатин потер виски. – Ты это серьезно?
– Такими вещами разве шутят? – обиделся Потапов.
– Мне надо подумать, – растерянно забормотал Соломатин. – Все как-то неожиданно…
– Как чего надумаешь, звони. Телефон старый, – Потапов, жадно, словно мучимый жаждой диабетик не допил, а заглотил остающееся пиво и унесся прочь, бормоча что-то насчет «незаконченных дел» и какого-то «брошенного деда». Его всклокоченная голова, растрепанным парусом мелькнула среди разношерстной измайловской толпы и пропала, оставив Соломатина в тягчайшем замешательстве. Оставив, к радости местных алкашей, недопитое пиво, он, сильно озадаченный и погруженный в воспоминания, отправился домой.
Ночью он долго не мог заснуть. Как лунатик, бродил он по пустой, темной квартире, непрерывно куря и бесконечно прокручивая в памяти разговор с Потаповым. Каждый раз при этом вытаскивая из ящика письменного стола маленький невзрачный кругляш, пристально и долго его разглядывая.
Сколько Соломатин не ковырялся в земле, никогда еще он не находил ничего похожего. Да, ему частенько попадались старинные монеты, но такие – никогда. И никто из его знакомых, Соломатин был в этом уверен, не видел ничего подобного. В связи с этим, сам собой возникал один не просто интересный, а интересный до крайности вопрос: смертные немецкие медальоны стоят сто долларов за штуку, железный крест – триста баксов, старинное колечко из фамильного склепика тянет иногда на целую тысячу-полторы. Так сколько же стоит такая монетка, если учесть, что таких на рынке нет вообще? Нет даже ничего похожего!
И уж совершенно очевидно, что появляться на рынке с такой монеткой не стоит. С таким же успехом на рынок можно притащить шапку Мономаха или древнеегипетскую мумию.
Но что же с ней делать?
У каждого серьезного «гробилы», как у акулы, есть свои рыбы-прилипалы. Ценители старины вьются вокруг «гробил» в надежде отхватит какой-нибудь лакомый кусок. Они редко появляются на рынках, залежи смертных медальонов и железных крестов их не интересуют, но зато всегда с нетерпением ждут возвращения «гробил» из очередной «командировки». Их преданности можно позавидовать; не каждая верная жена ждет мужа с таким нетерпением. Коллекционеры-прилипалы назойливы: не успеет «гробила» смыть с себя многодневную грязь, как они уже осаждают его – звонят, заходят, якобы случайно, в общем, достают по полной программе. Но иногда они действительно бывают необходимы…
В серых, мутных предрассветных сумерках Соломатин докурил последнюю сигарету, устало повалился на кровать и тут же заснул. Старая армейская привычка моментально выключаться, едва голова коснулась подушки…
* * *
Широко известный в узких кругах, нумизмат со стажем Борис Аркадьевич Лёвкин поначалу не поверил своим глазам. Еще полчаса назад, пробираясь сквозь забитый пробками центр Москвы, он и представить не мог, какой сюрприз его ожидает. Конечно, он рассчитывал на нечто интересное и необычное, иначе Соломатин не позвонил бы ему, но увиденное превзошло все его ожидания.
– Миша, дорогой мой, – он поднял на Соломатина огромные за толстыми линзами глаза, – вы что, музэй ограбили?!
Борис Аркадьевич любил старосоветский язык. Язык его молодости. Поэтому частенько музей у него становился «музэем», верх «верьхом», а дебил «дэбилом».
– С чего вы взяли, Борис Аркадьевич? – Соломатин довольно усмехнулся.
– Как это с чего?! – Лёвкин нервно пригладил остатки волос на своей яйцеобразной голове, – такие монеты, насколько я знаю, можно найти только в музэе. Если я не ошибаюсь, это пятнадцатый век.
Лёвкин врал. Монетка была гораздо старше и он это прекрасно знал.
– Вы ошибаетесь, Борис Аркадьевич, – усмехнулся Соломатин. – Это не пятнадцатый век и вам это известно не хуже, чем мне.
– Да? – неуверенно хмыкнул Лёвкин пристально разглядывая монетку. – Я, конечно, не эксперт…
– Да бросьте вы, – Соломатин закурил, – Давайте говорить серьезно.
– Да, конечно! – Лёвкин наигранно оживился.
– Ну, так, сколько эта монетка потянет?
– Не меньше чем… – Лёвкин на секунду задумался, – не меньше чем тысяч пять-семь. В валюте, разумеется. Но…
Потапов, тихо, как мышь сидящий в соседней комнате, испытал легкое головокружение. Пять тысяч долларов?! С ума сойти! На сколько же тогда потянет весь дедовский чемодан? А на сколько в с ё остальное? Всё, что лежит на дне Святого озера?
– Но, – продолжил Лёвкин, – учитывая, что это явный криминал…
– Это не криминал, Борис Аркадьевич.
– Я так не думаю, – опустив глаза тихо ответил Лёвкин. – Но тем не менее, тысячи три за нее выручить можно.
– Вы готовы ее купить за три тысячи? – Соломатин старался говорить как можно более непринужденно. – Не маловато для пятнадцатого века?
– В самый раз.
– Вы уверены?
– Ну, может быть, – Лёвкин опять аккуратно пригладил свою скудную растительность, – три пятьсот.
– А если несколько таких монеток?
– У вас есть еще?
– Пока нет, но я смогу достать.
– Сколько?
– Сколько нужно.
– Миша, вы уверены? – Лёвкин внимательно посмотрел на Соломатина. – Ведь это очень большие деньги.
– Главное, Борис Аркадьевич, чтобы вы были уверены, а уж я не подведу.
– Хорошо, – Лёвкин внезапно засобирался, – я вам позвоню.
– Когда?
– В ближайшее время.
Садясь за руль своей видавшей виды «копейки», Лёвкин попытался осознать весь масштаб произошедшего. И не мог в это до конца поверить. Неужели в его непростой и долгой жизни еще возможны чудеса? И взлеты. Да какие взлеты! Ведь эта монетка столько не стоит, это понятно любому дураку! Ее цена совсем другая, совершенно другая, и какое счастье, что Соломатин в этом ничего не понимает. Да, его не удалось провести с пятнадцатым веком, но цену-то ее, реальную цену он все равно не знает. Зато он, Лёвкин, знает! И он будет последним дэбилом, если упустит такой шанс.
Он живо представил светлое будущее, вне всякого сомнения, ожидающее его: хорошая, добротная, немецкая машина, о которой он мечтал чуть ли не с детства – строгий черный седан, «мерседес», или, на худой конец, «ауди»; такой же добротный особнячок где-нибудь в Барвихе, рядом с особняками достойных, уважаемых и непростых людей. Его тихую старость будет скрашивать какая-нибудь милая девушка с модельным прошлым, или несколько таких девушек. Но, конечно же, самое ценное, что он получит за эти монетки, так это свободу! Не ту мнимую свободу, ради которой глупые люди лезут на баррикады и подставляют свои пустые головы под пули, а настоящую свободу, возможную лишь при наличии очень больших денег, свободу, дающую право на полнейшую независимость во всем. В мыслях, в словах, в поступках, наконец. Большие деньги откроют перед ним любые границы и сделают реальностью любые его мечты. И эти деньги, если, конечно, не подведет Соломатин, у него будут. Уж в этом Лёвкин был уверен. Нужно только сделать пару-тройку звонков и механизм обогащения закрутится-завертится. И кто знает, кем простой нумизмат Лёвкин станет завтра?
* * *
Потапов часто задумывался: а что было бы, если бы не та проклятая пуля, «пойманная» им на той, далекой теперь афганской дороге?
Как сложилась бы его жизнь?
Хотелось, конечно, верить, что все было бы по-другому, гораздо лучше, чем сейчас, но…
Ранение дорого обошлось Потапову. Рана периодически открывалась, гноилась, кости срослись плохо, а боль стала теперь его пожизненной спутницей. Армия, конечно же, осталась в прошлом: с такой ногой и думать нечего о дальнейшей службе.
Но самые сильные разочарования ждали Потапова впереди.
Он оказался никому не нужен. Молодой, полный сил и еще не растерявший жизненную энергию, он везде сталкивался с полнейшим равнодушием. Его награды, которые в любой другой стране мира вызывали бы у окружающих уважение, здесь ничего не значили. На него смотрели так, словно Потапов нацепил себе на грудь елочные игрушки.
Для людей посторонних, с которыми ему волей-неволей приходилось общаться, он был просто очередным неудачником. Подумаешь, воевал? Подумаешь, ранили? Твои проблемы, парень, сам с ними разбирайся. Пенсию тебе, конечно, оформим, а то, что на нее невозможно жить, уже не наша забота. В конце концов, он услышал ставшую уже классической фразу – «мы тебя туда не посылали». Вернее, не совсем такую, но с таким же смыслом.
Вдобавок, ко всем неприятностям умерла его мать. Быстро, даже как-то поспешно, устремившись прочь из этого равнодушного и жестокого мира. Потапов знал, что у нее рак, но ни он, ни дед не ожидали такого быстрого исхода.
Какое-то время Потапов ещё крепился, ещё пытался сражаться с безжалостной жизнью, но затем, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрей покатился вниз. Алкоголь сыграл в этом не последнюю роль.
Несколько раз, хорошенько поддав, он являлся в военкомат и просился обратно в Афган. Хоть рядовым, хоть на самую черную работу, лишь бы не загибаться от безысходности на ненавистной «гражданке». Его сначала вежливо, а затем все грубее и решительней выпроваживали. Закончилось дело дракой с военкомом, который, устав от частых визитов пьяного Потапова просто послал его куда подальше. Чего Потапов, разумеется, не мог оставить просто так. На удивление быстро подоспевший наряд милиции скрутил Потапова и отконвоировал в ближайшее отделение.
Как ни странно, дело против него не завели – единственный случай, когда афганское прошлое хоть как-то помогло ему.
Дед пытался образумить внука, даже нашел ему какую-то тихую, непыльную работу, но Потапов, уже обидевшись на весь мир, даже не стал его слушать.
– Я боевой офицер! – еле стоя на ногах, кричал он в лицо деду. – Я кровь проливал!
Дед, всячески успокаивая его, объяснял, что так у нас исстари повелось: не любит Родина-мать своих детей, не нужны они ей. Она их сначала пользует, а затем выбрасывает. Как презерватив.
Это злило Потапова еще больше: несмотря на всю несправедливость, на всё то скотство, что ему выпало пережить, он по-прежнему считал себя патриотом и дедовы слова о Родине были ему неприятны.
– Не страна плохая! – продолжал орать он. – Люди сволочи!
– Какие люди, такая страна, Андрюша, – мягко не соглашался с ним дед.
– Что же, и я, по-твоему, сволочь?!
На этом общение заканчивалось. Разъяренный Потапов убегал на улицу, после чего, нередко, оказывался в вытрезвитель, избитый и лишившийся тех последних копеек, что у него были.
За эти несколько лет кем он только не работал: и сторожем, и грузчиком, и курьером, один раз, через знакомых «афганцев» чуть было не устроился охранником в бар, но работодатели, едва посмотрев на него, даже не стали с ним говорить.
Одно время Потапов жил на чьей-то заброшенной даче, в компании таких же, как и он опустившихся алкашей. Выпивка и бесхитростный секс со случайными, забредающими к ним на огонек местными, такими же спившимися бабами, были единственным развлечением.
А потом дача сгорела. Прибывшие пожарные, разгребая завалы из дымящихся, обугленных бревен наткнулись на два сильно обгоревших трупа. Расследование было недолгим, вернее его вовсе не было: тех алкашей, кто по наивности решил давать показания, быстро забрали в милицию, после чего они «чистосердечно» признались в умышленном поджоге. Обычная история: одним благодарность и награды, другим несколько лет на мордовских «курортах». Потапов, не желая испытывать судьбу и становиться «стрелочником», счел за благо поскорее вернуться в Москву.
Со временем он, правда, сумел взять себя в руки и, хотя, приличной работы так и нашел, пить почти бросил.
Старые знакомые подкидывали ему изредка кое-какую работенку; то в строительной бригаде, то разлив водки в подпольном цеху, то еще что-нибудь такое же нехитрое. Тех небольших, заработанных денег, плюс мизерная пенсия, хватало ему, чтобы влачить жалкое полуголодное существование. Сколько бы еще это продолжалось – неизвестно. Но, как это часто бывает, в один прекрасный день, все в жизни может резко измениться.
После разговора с дедом, а особенно после переговоров Соломатина с Лёвкиным, Потапов понял, что этот день настал. И день этот – действительно прекрасный.
* * *
– Чего такой кислый? – Чернов столкнулся в коридоре с майором Ковалёвым, своим старинным, еще с Афгана, другом.
– Кислый? – переспросил Ковалёв, – а ты чего такой веселый? Или ты здесь остаешься?
– Где это здесь?
– Здесь, значит здесь.
– А ты что, куда-то уезжаешь?
– Да ты, Паша, с Луны что-ли свалился?! Про командировку ничего не слышал?
– Про командировку? – сразу насторожился Чернов. – Нет, а что?
– Ну ты, Паша, даешь! – Ковалёв презрительно хмыкнул. – Весь полк уже знает, а ты, как обычно, спишь на ходу. Двадцать шестого отбываем. Наводить конституционный, мать его, порядок.
– Как? – растерялся Чернов, – опять?!
– Не опять, а снова. Бывай. – Ковалёв сунул ему свою сухонькую ладошку и быстро удалился, оставив Чернова в полнейшем замешательстве. Да и ладно бы в замешательстве, но тяжелые, муторные воспоминания моментально навалились на него давящими глыбами, отчего он быстро рванул на улицу, судорожно шаря в пустой пачке сигарет…
Перед серым, мрачным, без единого целого стекла зданием аэропорта, в ожидании спецборта, вытянувшись друг за другом, стояли несколько открытых зилов, нагруженные одинаковыми серебристыми мешками. Над некоторыми из них вяло трепыхались замызганные флажки с плохо различимыми красными крестами – совершенно бесполезный на этой войне атрибут. Мешки так же лежали на земле; некоторые на носилках, некоторые прямо на асфальте. Чернов сначала не понял, что это за мешки, зачем они здесь и почему их так много, пока не увидел грязную ступню, торчащую из разорванного серебристого нутра.
– Двухсотые, – пояснил все тот же Ковалёв.
А дальше был ад. О чем очень вежливо извещала написанная корявыми буквами картонная вывеска при въезде в Грозный.
Город был мертв. Его улицы были пустынны и пропитаны жутким ароматом смерти. Валяющиеся повсюду трупы были обычным явлением и вскоре Чернов удивлялся уже не их количеству, а тому, что например, на какой-нибудь улице трупов не было вообще. Похоронные бригады работали день и ночь, но количество убитых не убавлялось, так как нередко сами «труповозы» становились жертвами снайперов и грамотно расставленных растяжек. Мертвый солдат с взведенной лимонкой под мышкой – типичная чеченская шутка.
Город-призрак, город-кладбище пугал любого, кто здесь оказывался, будь то солдат-срочник, будь то ветеран-спецназовец, прошедший уже не одну войну, будь то журналист или местный житель, выползший из подвала на свет Божий и не узнавший своего города. Некоторые вещи, ставшие неотъемлемой частью Грозного, человеческий разум отказывался воспринимать. Как не может он воспринимать черное, из-за горящих нефтехранилищ солнце и мальчишек торгующих самопальным бензином, невдалеке от сгоревшего бэтээра или БМП, остро пахнущих недавней смертью.
Невдалеке от железнодорожного вокзала Чернов увидел огромную, слегка припорошенную снегом, кучу человечины, словно сошедшую в грозненскую грязь с полотен Босха. Грязные, разжиревшие, с отвисшими животами, собаки лениво ковырялись в этой куче и что-то бесконечно жрали, жрали, жрали…
Крикливое, суетливое воронье прыгало меж них, не обращая на собак никакого внимания. Впрочем, как и на людей.
– Твою мать, – процедил сквозь зубы Ковалёв, – пируют, суки!
И передернув затвор, выпустил по собакам и воронью длинную очередь.
От таких апокалипсических картинок либо сходят с ума, либо срабатывает защитный рефлекс и человек тупеет. В конце первой недели Чернов отупел настолько, что совершенно спокойно наблюдал, как два молоденьких лейтенанта, только вчера отправившие домой в цинке своего погибшего друга, прикладами забивали пленного «чеха», такого же молодого, как и они сами, парня.
Помнил он и своего первого боевика, колоритного бородача со строгим орлиным профилем и зеленой повязкой на голове. Чернов разрезал его пополам выпущенной в упор очередью из ручного пулемета во время очередной «зачистки». Бородач, непонятно откуда, выскочил прямо на него, чуть не сбив Чернова с ног; они оба растерялись, долю секунды смотрели друг на друга, но Чернову повезло больше – он оказался быстрее, и бородач остался лежать на куче щебня бородой вверх. Еще не осознав всего произошедшего, Чернов все так же тупо пронаблюдал, как Ковалёв, упершись коленом в развороченную и еще дымящуюся грудь убитого, быстро и деловито обшарил труп, сняв с рук часы, кольцо и вывернул карманы.
– На войне, брат, как на войне, – перехватив растерянный взгляд Чернова, объяснился Ковалёв.
За полтора месяца командировки Чернов постарел лет на десять, осунулся и помрачнел. Как, впрочем, и любой другой, кто вышел живым из грозненского ада, на собственной шкуре познав, что такое наведение «конституционного порядка». Запах горелого мяса, запах разложения, запах порохового дыма не забывается никогда. Точно так же как серебристые мешки в грозненском аэропорту и останки Майкопской бригады у железнодорожного вокзала.
Чернов искренне надеялся что ничего подобного в его жизни больше не повторится: за все свои грехи, если они вообще могут быть у солдата, он расплатился сполна. Но, получается, он ошибался. Ничего не кончилось. Все только начинается.
В тот день, обуреваемый мрачными мыслями и нехорошими предчувствиями, он и не подозревал, насколько он был близок к истине – все действительно только начиналось.
* * *
– Короче, смотри сюда, – дед был строг и раздражителен. Его палец не спеша ползал по вчерашней старинной карте. Потапов, похожий на великовозрастного школьника, затаив дыхание, смотрел за дедовским пальцем, словно за учительской указкой.
– Большая часть Китежа под водой, – продолжал дед. – Летом озеро сильно высыхает, но не настолько сильно, чтобы там копать. Там, где ты начнешь искать – сплошной лес; деревья, корни, в общем, намаешься. Вот, – дед бросил на стол несколько цветных фотографий. – Я это снял восемь лет назад.
На фотографиях был запечатлена красивая осень.
Деревья, с пышными, но уже тронутыми желтизной кронами, пронзительно-глубокое синее небо, какое бывает только осенью, редкие белесые, словно комки хлопка, облака, повисшие на головокружительной высоте и, вдалеке, чуть проглядывая меж деревьев, еле уловимый, тревожный блеск большой воды. На некоторых деревьях Потапов разглядел какие-то странные метки; не то цифры, не то иероглифы.
– А это что? – спросил он.
– А это чтобы ты не заблудился, – дед впервые за весь день усмехнулся.
– Ориентиры?
– Верно, ориентиры. Но не просто ориентиры, а мои ориентиры, – эту фразу дед произнес с такой важностью, что Потапов не выдержал и рассмеялся.
– Смейся, смейся, – улыбнулся дед. – Без них ты хрен чего найдешь.
Ориентиры состояли из дробных чисел. Четные дробные числа следовало умножать друг на друга, нечетные делить. И в том и в другом случае получалась цифра, соответствующая количеству шагов до следующего дерева-ориентира.
– Четные числа – шагай направо, нечетные – налево, – объяснил дед.
– Хитро ты придумал, – Потапов открыл блокнот и хотел записать расшифровку, но дед решительно воспротивился:
– Никаких записей! Бумага, она кого хочешь продаст. Все запоминай, как таблицу умножения.
На других фотографиях от осени не осталось и следа. Деревья поскучнели, листвы на них практически не осталось, а пронзительно-голубой свод неба превратился в низко натянутое серое, да к тому же еще и мокрое полотно. Помимо этих изменений появилось еще одно, самое существенное: извилистая, глубокая траншея, уползающая в сторону озера. На мокром бруствере лежали заляпанные грязью лопата, болотные сапоги, самодельная лестница и разложенные на траве грязные непонятные предметы. Потом, по мере очистки, предметы оформились в содержимое дедовского чемоданчика – оклад и монетки.
– Ближе к озеру, на полутора метрах уже вода выступает, – дед с легкой грустью взглянул на фотографии. – Так что пришлось заканчивать. А там и дожди начались.
– Траншея цела? – спросил Потапов.
– Цела. Я ее зарывать не стал, так что ты легко ее найдешь.
Дальше палец деда заметался по карте, чертя невидимые пунктиры маршрутов, перепрыгивая на десятки километров, переходя вброд синие прожилки рек и внезапно остановился на темно-синей, крупной кляксе под названием Светлояръ.
– Все почему-то думают, что Китеж находится именно здесь, – дед усмехнулся одними уголками губ. – Лет триста туда богомольцы со всей России приходили. Кто-то даже сам город, якобы в воде видел. Но Китежа там нет и никогда не было.
Палец деда медленно двинулся дальше и остановился в совершенно неожиданном месте, рядом с тонкой синей прожилкой Керженца.
– А он, голубчик здесь, почти восемьсот лет своего часа ждал.
Дед и Потапов некоторое время смотрели на карту. Где-то там, в темных, глухих нижегородских лесах, замершее, затаившись в веках, ждало Потапова неведомое, пока будущее…
Инструктаж длился почти три часа, после чего Потапов был уверен, что теперь найдет Китеж даже с закрытыми глазами. Даже без помощи дедовских ориентиров.
– И вот что, – дед достал из чемоданчика несколько монет и протянул их Потапову. – Это тебе сейчас пригодится. Стартовый, так сказать, капитал.
– Спасибо.
– Если надо будет еще – скажешь, – дед заботливо закрыл чемоданчик. – Только смотри, Андрюша, осторожнее с этим. С такой штукой ты еще не сталкивался, а это пострашнее твоего Афгана будет.
– Ну, ты сравнил?
– Я тебе правду говорю, – чем больше денег, тем глубже бездна. Не навернись в нее, Андрюша.
– До больших денег, дед, дожить еще надо.
– До них дожить несложно, с ними прожить труднее…
– Философ ты, дед, честное слово.
– В моем возрасте, – дед грустно улыбнулся, – все философы.
Он встал, потянул затекшую спину, подошел к окну, некоторое время смотрел на улицу, потом повернулся к Потапову.
– Про бездну я не просто так начал, – дед вернулся за стол. – Есть одна вещь, о которой ты должен всегда помнить, когда будешь там.
– О какой? – насторожился Потапов.
– Ты там не должен оставаться дольше сорока дней. Сколько бы золота не накопал, через месяц, кровь из носу, уезжай оттуда, – дед посмотрел на него таким строгим взглядом, что Потапову стало ясно, что он говорит не просто серьезно, а очень серьезно.
– Может объяснишь?
– Попробую, – вздохнул дед, – но, боюсь не поймешь.
– Я постараюсь.
– Как бы тебе подоходчивее втолковать? – дед опять пожевал губами. – С Китежем связана ещё одна легенда, о ведьме Зильге и ведуне Лесьяре. Если верить этой легенде, то нижегородцы, понимая что оторваться от монгольской конницы они не смогут, попросили известного в то время ведуна Лесьяра запутать их следы и он, якобы, смог это сделать. Как утверждает легенда, заворожив лес в который не мог зайти ни один живой. Но дело в том, что у Батыя была ведьма Зильга, которая не была ни живой ни мертвой и она смогла попасть в лес, найти следы нижегородского обоза и провести за собой живых, то есть всю орду.
– Ну это совсем что-то из области… – засмеявшись начал Потапов, но дед его резко перебил.
– Помолчи! Я там лично был и скажу тебе… место там… неправильное. Долго я там не выдержал и попросту убежал.
– Почему? – не понял Потапов.
– Есть некие вещи Андрюша, которые человек не может объяснить. Ты футбол смотришь? – неожиданно спросил дед.
– Ну… бывает изредка, – удивился Потапов.
– Если смотришь, то знаешь как иногда бывает. Выходит сильная команда играть против слабой, вроде всё на стороне сильных, и опыт, и класс выше, и состав из сплошных звёзд, но вместо уверенной победы получают поражение с разгромным счётом. Почему?
– Не фартануло значит.
– Тоже мне объяснение, – хмыкнул дед. – Не фартануло. А почему не фартануло? В чем причина того, что звёзды внезапно разучились по мячу попадать и бегать?
– Не знаю, – честно признался Потапов. – А ты знаешь?
– И я не знаю, – дед развел руками. – Но догадываюсь.
– И почему же?
– Понимаешь Андрюша, наш мир это не только то, что мы видим и слышим. Есть огромная невидимая часть, которую могут осязать только особенные люди. И совсем уж единицы могут через этот невидимый мир влиять на наш мир. Именно их в старину называли волхвами, ведунами, ведьмами, колдунами, да как только не называли. Сейчас их называют экстрасенсами и хоть это не совсем правильно, но в том, что такие люди существуют, я никогда не сомневался. Легенда про Китеж гласит, что не получив нижегородский обоз, который оказался на дне озера, Батый разгневался и наказал ведьму Зильгу тем, что заставил её сторожить этот обоз до лучших времен и никого к нему близко не подпускать. А так как действовала ворожба ведуна Лесьяра, то получалось, что никто из живых не мог дойти до озера, ну если только его не проведет кто-то из не живых.
– Ничего не понимаю, тут без стакана не разобраться! – Потапов выжидательно посмотрел на деда.
– Нет, никакой выпивки, – мотнул он головой. – Слишком серьезные вещи обсуждаем.
– Получается, чтобы мне туда попасть я должен договорится с каким нибудь трупом?! – засмеялся Потапов.
– А я разве сказал, что провести туда должен мертвый?
– Ты сказал – живой туда попасть не может.
– Не живой и мертвый, это не всегда одно и тоже, – дед посмотрел на Потапова таким взглядом, что тому стало немного не по себе.
– Ничего не понимаю…
– Я так и думал, – дед тяжело вздохнул и казалось, потерял интерес к продолжению беседы. – Попасть туда ты попадешь, но больше сорока дней там не оставайся. Не надо тебе на себе проверять, врут сказки или нет. Обещаешь?
– Обещаю, – неуверенно пробубнил Потапов, испытывая острое желание сбегать за водкой.
* * *
Мир населен неудачниками. Никчемными, пустыми, не понимающими своего предназначения людьми. Многим, правда, и понимать нечем и незачем. Человек, лишенный смысла жизни – не человек. Двуногая амеба, организм, ошибочно наделенный плевком мозга, обезьяна, нечаянно заскочившая на более высокую ступеньку эволюции.
Примерно так думал Лёвкин, наблюдая из окна своей «копейки» за пестрой, суетливой, вечно куда-то спешащей московской толпой. Что движет всеми этими людьми? Что заставляет их прыгать в троллейбусы и автобусы, размахивать сумками, оттаптывать друг другу ноги, однотипно и плохо одеваться и говорить на ужасном русском языке, большая часть которого состоит из лагерной «фени» и мата? Почему они приняли эту жизнь, где им уготована роль мусора, так и не постаравшись ничего в ней изменить?
Лёвкин презрительно усмехнулся.
Жалкие муравьи, обменявшее самое дорогое, что у них есть – собственные жизни – на бестолковую, недостойную нормального человека суету.
Какое счастье, что он не такой! Лёвкин на секунду представил себя просыпающимся в шесть утра, по быстрому глотающим отдающий веником чай и прущимся на работу в переполненном вагоне метро, зажатым со всех сторон потною толпой аутсайдеров…
Хотя, если быть до конца объективным, такое с ним тоже было. И подъемы в шесть утра, и давка в метро, и бесконечно длинные рабочие будни, работа за копейки, субботники, партсобрания, безверие и медленное угасание интереса к жизни. Но какой может быть интерес, если нет самой жизни?!
Первой это заметила жена. Женщина взбалмошная и привыкшая постоянно чего-то от Лёвкина требовать. Словно он ей был чего-то должен. Впрочем, это «сокровище» недолго отравляло ему жизнь: после того как прошла влюбленность, а супружеский долг превратился в редкую возню двух абсолютно равнодушных друг к другу тел, хороший, смачный пинок под толстый зад развёл их лучше любого ЗАГСа. Он остался один, свободный и независимый, а она пропала где-то в безвестности. Одиночество лишь отчасти облегчило положение Лёвкина. Тупая, бессмысленная работа, лишающая его времени, по-прежнему не давала вздохнуть полной грудью. А ведь он всегда, с детских лет чувствовал свою особенную суть. Не раз и не два посещало его странное чувство, некое таинственное прозрение – мир ждал от него чего-то большего, чем жалкое прозябание на постылой работе.
Спасло его, как это ни странно звучит, увлечение его детства – маленькие монетки, которые он, будучи еще совсем несмышленым пацаном, собирал в красивую, подаренную бабушкой хохломскую шкатулку. На шкатулке был изображен Иван-царевич, вскинувший руки вслед улетающей Жар-птице. Маленький Боря подолгу любил разглядывать как саму шкатулку, так и ее содержимое – монетки с непонятными словами и гербами неведомых стран. Манящий, волнующий, полный ярких красок мир скрывался в этой шкатулке.
Юность, со всеми ее соблазнами, заботами и новыми увлечениями отодвинула монетки сначала на второй план, а затем они и вовсе исчезли в круговороте повседневности. Исчезли для того, чтобы неожиданно появиться спустя много-много лет…
Нумизматический, впрочем, как и любой другой, рынок был в Москве всегда. Конечно, официально его не было, как и любого другого чуждого социализму явления, но реально он существовал десятилетиями. Власти, со свойственной им привычкой давить всякое проявление свободы, рынок зажимали и третировали, а иногда даже шли на крайние меры, подводя наиболее ярых нумизматов под уголовные статьи. Но запретный плод тем слаще, чем труднее до него добраться.
Вечерами, после работы, Лёвкин не спешил возвращаться в свою пустую квартиру, а садился на троллейбус и, проехав две остановки, оказывался на знаменитой нумизматической толкучке близ Киевского вокзала. Разглядывая монетки и прочие редкости, он чувствовал, как медленно и неотвратимо просыпается в нем его детское увлечение.
Это был совсем другой мир. Гораздо более светлый и обширный, чем тот вакуум, где он прожил последние несколько лет. Люди, толкущиеся вокруг него, разумеется, не все были нумизматами, преданные монеткам и душой и телом; хватало среди них и обычной «фарцы» и «кидал» и прочей неизбежной на любом рынке шушеры, но это не смущало Лёвкина. Он принимал любые условия игры именно потому, что стремился в эту игру играть.
Пути назад не было. Он понял это не скоро, но понял с каким-то странным облегчением. Всё ещё посещая свою осточертевшую до зубовного скрежета работу, он все больше и больше отдалялся от нее, постоянно, мыслями, душой, пребывая там, на крошечном клочке асфальта, зажатом с одной стороны гранитным берегом Москва-реки, а с другой, таким же гранитным боком хмурой сталинской многоэтажки…
А потом, на несколько лет, этот пятачок асфальта стал его основным местом работы. Увлечение, как того и следовало ожидать, переросло в бизнес. Знакомства – в прочные деловые связи и, в результате Лёвкин стал тем, кем стал. И теперешнее его положение лишь подтверждало то, что он всегда знал и во что, сначала смутно, а затем и всерьез поверил – он другой. Он не бессловесный рабочий муравей, он понимает смысл жизни и у него есть в этой жизни цель. И почти сбывшаяся мечта…
Громоздкая корма «мерседеса» замерла прямо перед облупленным носом его «копейки». «BRABUS» прочитал Лёвкин еле заметную, но много говорящую, надпись на крышке багажника. «Надо же!» приятно удивился он: люди, раньше стоявшие с ним бок о бок на пятачке, разъезжают теперь на таких вот машинах. Простой, не тюнинговый, «мерседес» они уже и за машину не считают.
Не спеша выйдя из своей «копейки» он уверенно потянул на себя плавно распахнувшуюся дверцу и погрузился в царство дорогого дерева и пряно пахнущей кожи. Там его уже ждали…
* * *
– Смотри, – Соломатин веером разложил перед Потаповым пачку долларов – Процесс пошел!
– Надо же, – улыбнулся Потапов, – не обманул твой Лёвкин.
– Что он, дурак что ли нас обманывать?! Он же озолотится теперь.
– Думаешь, эта фитюлька больше стоит?
– Раза в два, как минимум. Иначе, стал бы он с нами связываться.
– Может, мы дешево отдали? – неуверенно предположил Потапов.
– Может и дешево, – согласился Соломатин. – Но, с другой стороны, в Лёвкине я уверен, он человек проверенный, поэтому лучше работать с ним. С ним, понимаешь, спокойнее.
– Он готов еще брать?
– Готов.
– Много?
– Говорит, что готов забрать всё.
– Как?! – перепугался Потапов. – Ты, что, все ему рассказал?
– Нет, конечно, – Соломатин нервно хохотнул. – Даже если и рассказал бы, он все равно не поверит. Да и не хочу я заранее ничего обещать. Вдруг мы не нароем ничего?
– Нароем.
– Тогда надо начинать. Пока деньги дают.
– Без проблем, – Потапов достал сигарету и закурил. – С дедом я все утряс, так что, я, в принципе, готов хоть завтра.
– Готов-то ты готов, но не все так просто, – Соломатин понизил голос. – Я тут подумал… вдвоем, понимаешь, как-то… несолидно. Дело серьезное, даже очень серьезное, а нас только двое. Если кто пронюхает, зароют нас с тобой в шесть секунд. Надо нам ещё кого-нибудь, для прикрытия. Желательно из наших.
– Из твоей бригады, что-ли?
– Да нет, – отмахнулся Соломатин. – Там народ гнилой, они и за меньшее продадут. Я имею в виду кого-нибудь из афганцев. И желательно из тех, кто еще служит.
– Кто еще служит? – удивился Потапов.
– Ну конечно!
– Почему?
– А потому, что у них, наверняка, стволы найдутся. Сам понимаешь, лезть в такое дело и не иметь ничего за душой…
– А кто из наших еще служит?
Соломатин некоторое время задумчиво смотрел в потолок.
– Чернов и Ковалёв.
– Господи, я их сто лет уже не видел. Думаешь, они подойдут?
– Подойдут. Они мужики проверенные. Да ты и сам знаешь.
– Делиться с ними придется.
– Лучше с ними, чем с воронами, – философски изрек Соломатин.
– А где они сейчас?
– Под Серпуховом.
– Так близко?
– Ну, в общем, недалеко.
– Тогда, поехали! – Потапов решительно встал со стула и привычно поморщился от тупого покалывания под коленом.
– Прямо сейчас?
– А чего ждать? Второго пришествия?!
– На «козле»?
– Нет, на моем «мерсе»!
– Поехали, – после секундного раздумья согласился Соломатин. – Только он ломается.
– На то он и козел, чтобы ломаться
* * *
Года два назад Соломатин решил купить машину.
«Гробиле», как и любому другому, кто обрабатывает землю, нужна машина. Неприхотливая, рабочая лошадь. На которой можно и пахать, и возить все что угодно и куда угодно. Иначе никакой толковой работы не получится.
В идеале он мечтал приобрести пикап; настоящий, полноприводный американский пикап, какой-нибудь «форд» или «шевроле», на которых в Америке разъезжают все кому не лень – от простых фермеров до голливудских кинозвезд.
Пикап был удобной и практичной машиной. В него можно положить громоздкий миноискатель, лопаты, пилы: в общем, всё то барахло, без которого невозможно обойтись и которое раньше всегда приходилось таскать на себе. Кузов пикапа можно засыпать картошкой и, по несколько недель сидя в новгородских и псковских лесах, не думать о еде. В эту же картошку можно спрятать и оружие и весь добытый «материал». К тому же американские пикапы обычно являлись упрощенным вариантом джипов, следовательно имели хорошую проходимость и прочную, рамную конструкцию.
Но у всех них был один недостаток – слишком броская внешность и высокая цена. Американский пикап посреди псковского леса смотрелся бы также, как, например, НЛО и привлекал бы ненужное внимание. А внимание, тем более не нужное, категорически противопоказано любому «гробиле», чья работа любит тишину и относительное одиночество.
Поэтому Соломатин решил подыскать что-нибудь попроще.
На солнцевском авторынке он нашел старый, восемьдесят пятого года выпуска, армейский «уазик». Машина хорошо ему знакомая еще по армии.
За «уазик» просили достаточно большие деньги и Соломатин поначалу решил его не покупать, пока случайно не заглянул ему под днище. То что он увидел, сразу же напомнило ему его прошлую жизнь.
Двойное дно. У «уазика» было двойное дно, и, скорее всего, богатое афганское прошлое. Соломатин много видел таких машин в Афгане. Двойное дно там имела практически вся техника, возвращавшаяся в Союз: бээмпэшки, бэтээры и даже танки.
Когда Сороковая армия выходила из Афганистана, помимо горючего, запчастей, боеприпасов и прочего имущества, вывозимого обратно в Союз, она, в тоже самое время, ввозила «наркоту», оружие, шмотки, электронику и многое другое. Ввозила, разумеется, тайно, под днищами своих танков, бээмпэшек, бэтээров и таких вот «уазиков».
Конечно, особисты были не дураки и техника проверялась. Но не вся и не всегда. Попробуй проверить всю технику целой армии! Несколько тысяч боевых машин! Не считая походных кухонь, грузовиков, автобусов и штабных легковушек, которые тоже нередко имели двойное дно.
Так что этот «уазик», похоже, бегал по тем же дорогам, что топтал когда-то Соломатин.
Конечно же он его купил. И в любой «гробильной» «командировке» они были неразлучны. Правда допотопное, еще «волговское» сердце «уазика» все чаще и чаще давало сбои, но Соломатин всё равно не хотел расставаться с машиной – она его устраивала полностью. Плевать на мотор, главное двойное дно. Штука, надо признать, крайне полезная, а где-то и вовсе незаменимая.
* * *
Через час «уазик», весело урча мотором, бодро катил по залитому солнцем Симферопольскому шоссе.
Хорошая погода всегда настраивала Потапова на мажорный лад, и он уже начал жалеть, что не взял с собой в дорогу пару-тройку бутылочек пивка. С пивком, как говорится, любая дорога не дорога, а прогулка.
– Давай, за Подольском пива возьмем, – предложил он, – ехать долго…
Его прервал судорожный кашель мотора, после чего наступила мертвая тишина; «уазик» вяло съехал на обочину, противно скрипнул тормозами и остановился.
– Я же говорил, что он ломается! – Соломатин долбанул кулаком по рулю. – Сиди теперь и кукуй до ночи!
– Что, так серьезно? – Потапов вылез из машины.
– Да хрен его знает! Может и серьезно,
– Тогда давай на буксир и обратно.
– Ну уж нет, – Соломатин напялил на себя старую гимнастерку без рукавов и решительно, словно дрессировщик крокодилов, рывком открыл капот. – Возвращаться нельзя – плохая примета.
– А ты починишь? – спросил Потапов с интересом наблюдая, как Соломатин, встав на бампер, погружается в моторный отсек.
– А куда нам деваться? Починю, – Соломатин почти лег на двигатель, снаружи остались только его ноги. Со стороны было похоже, что «уазик», широко распахнув пасть, заглатывает своего хозяина.
– Ну точно! – донесся радостно-злой голос. – Бензонасос, мать его!
– Это надолго? – Потапов с тоской посмотрел вслед проносящимся мимо них автомобилям.
Вместо ответа Соломатин разразился такой витиеватой матерщиной, из чего Потапов заключил, что застряли они надолго.
* * *
«Нет, уж, дорогие мои», лицо Чернова скривилось в презрительной улыбке, «я в ваши игры больше не играю. Хватит! Всю жизнь только и делаю, что свою задницу под пули подставляю и ради чего?»
Он с тоской посмотрел на пустую бутылку и настроение, и без того поганое, стало еще хуже.
Старые, мерно тикающие часы испуганно пробили час.
Два часа, с момента заступления на дежурство, Чернов пил и не пьянел. Так с ним уже бывало в Чечне. Пытаясь залить водкой очередной кошмар, он только больше мрачнел, оставаясь при этом безнадежно трезвым. Вот и сейчас: целый пузырь выдул и никакого эффекта, никакого облегчения…
Итак, решение принято. В Чечню он не едет. И не потому, что сдрейфил, нет, просто с какой стати он должен подыхать за чьи-то, принятые явно с тяжелейшего похмелья «судьбоносные» решения? И ладно бы эти решения высшего руководства касались увеличения надоев, сбора урожая или строительства дорог, но они касались жизней, десятков тысяч жизней. И как показало двухмесячное пребывание Чернова в Грозном, на эти жизни высшее руководство клало с прибором. Причем ежедневно, ежечасно и ежеминутно.
В январе 1995 года практически вся Объединенная группировка и лично Чернов, матерились так, как никогда в жизни. Он прекрасно помнил как воевала армия в Афганистане, хотя и там бардака и «косяков» хватало, но за это, как правило давали по шапке, срывали погоны, могли и под трибунал «накосячивших» командиров отдать. Но в Чечне бардак принял такой размах, общее руководство операцией было настолько бестолковым, что многие солдаты и офицеры задавались вполне резонными вопросами – а мы точно сюда воевать пришли или нас тупо сдают и предают свои же начальники, включая измученного нарзаном царя-теннисиста Елбона?
Во Вторую мировую войну Красная Армия грамотно штурмовала города, в кратчайшие сроки взяв отлично укрепленные Кёнигсберг и Берлин, но вошедшая в Грозный армия воевала так, как будто не являлась наследницей той армии-победительницы и понятия не имела о том, как надо воевать в городах. Приснопамятный «Новогодний штурм» превратился в почти безнаказанное избиение Майкопской бригады и Чернов только диву давался – как же можно так бездарно планировать и проводить операции? Столько ошибок не сделал бы даже зеленый лейтенант из «пиджаков», то есть студент с военной кафедры института. Таких чудовищных потерь, какие армия понесла всего за полтора новогодних дня 1995 года, она не несла полвека, когда добивала сильно огрызающийся вермахт в многочисленных фестунгах-крепостях, а затем штурмуя Берлин. А там и город был побольше и противник посерьезнее, как никак, кадровая опытнейшая армия, да ещё с танками, артиллерией и авиацией, а не иррегулярные чеченские формирования с гранатометами и стрелковкой, да ещё понятия не имеющие, как надо оборонять большие города. И как же им облегчили задачу по уничтожению вошедших в Грозный подразделение некие «стратеги», загнавшие в город колонны бронетехники с плохо сколоченными экипажами. Чернов результаты их «блестящей» штабной работы лично наблюдал на грозненских улицах, испытывая непреодолимое желание ущипнуть себя и проснуться, потому что увиденное казалось ему страшным, бредовым сном, а не реальностью.
Но увы, это была реальность.
Как и недавний майский, так называемый, «мораторий» на ведение боевых действий. Армия, обливаясь кровью, взяла все крупные населенные пункты в Чечне, выдавила боевиков в горы, казалось бы, до победы осталось всего полшага, но перепивший нарзана царь Елбон внезапно объявил мораторий, что позволило боевикам перевести дух. Армии приказали наступательных действий не вести, огня не открывать, в общем спустили ошарашенным солдатам и офицерам вполне конкретный «стоп-приказ».
В Москву, на юбилей Победы к Елбону приехали дорогие западные друзья, которых решено было не нервировать новостями из Чечни. Они должны были спокойно наслаждаться гостеприимством Елбона, попить с ним водки, дружески похлопать по плечу и выразить восхищение ходом демократических преобразований, полюбоваться прекрасными видами майской Москвы и парадом, а солдатам и офицерам в Чечне оставалось только бессильно скрипеть зубами, наблюдая как все их, оплаченные большой кровью труды, идут насмарку.
И вот после всего того, что Чернов видел и что пережил в первую командировку, после предательского моратория, ему сообщают, что надо опять отправляться на Кавказ наводить «конституционный порядок».
А почему он должен это делать? Потому что военный человек обязан выполнять приказы и не рассуждать?
Да хрен вам всем! Это слишком хорошо и удобно, иметь под рукой послушных, покорных исполнителей. Надо парламент из танков расстрелять – пожалуйста! Надо взять Грозный – да не проблема! Надо сдохнуть неизвестно за что – да ради Бога, всегда готовы! Армия превратилась в подтирку – правители гадят, а армией подтираются. Конечно, приятно, когда за тебя убирают твое же дерьмо, только вот не очень приятно, когда в тебя стреляют. И ладно, стреляли бы конкретно за дело, но ведь все эти войны, в которых участвовал Чернов лично ему были нужны так же, как корове седло.
Это сейчас только, видите ли, выяснилось, что Афганистан был ошибкой. Намолотили там трупов неизвестно сколько, не то полмиллиона, не то миллион, своих пятнадцать тысяч потеряли, а потом вздыхают – извините, дескать, ошибочка вышла, не надо нам было туда соваться. Не готов был феодальный Афганистан к социализму.
И Чечня, скорее всего, тоже окажется ошибкой. Впоследствии какой-нибудь сладкоречивый прощелыга, наверняка начнёт сокрушаться и заявлять, что решение чеченской проблемы лежало в плоскости дипломатии и не имело военного решения. Только кому от этого станет легче? Тем пацанам-срочникам, убитым и брошенным на расклев воронью? Или их матерям?
Долг, присяга? Да, раньше был долг, но он давно отдан, даже с процентами. А что касается присяги, то давно уже нет той страны, которой Чернов присягал. Сейчас и страна другая, и флаг другой, и герб, да и всё остальное тоже другое.
От мрачных мыслей его отвлек резкий телефонный звонок.
– Дежурный слушает, – скороговоркой пробормотал Чернов.
Звонили с КПП. Несмотря на час ночи, к Чернову, да, да, к нему лично, пожаловали гости.
– Кто такие? – строго спросил Чернов.
На другом конце провода некоторое время слышалась какая-то возня потом дежурный солдат запинаясь, неуверенно ответил:
– Генерал-майор Потапов и генерал-лейтенант Соломатин.
– Что?! – удивился Чернов.
– Так точно, генерал-май…
– Пропустить!
Выглянув в окно Чернов увидел, как во двор, лениво мазнув фарами по пустынному плацу въезжает армейский «уазик». Порычав какое-то время двигателем и пару раз моргнув фарами, прежде чем выключить их совсем, он замер перед входом в корпус. Две трудноразличимые в темноте фигуры вылезли из машины и не спеша поднялись на крыльцо.
* * *
– Затягивай туже! Еще туже, твою мать! – перекрывая автоматную трескотню орал Соломатин. Чернов, в каске налезшей на самый нос, изо всех сил затягивал жгут на ноге Потапова. Рваная, мокрая штанина, неправдоподобно белый, острый обломок кости, вылезший наружу, прямо из кирзы сапога – от всего этого Чернову было дурно. Сверху нависала многотонная туша бэтээра, сбоку шипел пробитый пулями пыльный разлапистый скат и со всех сторон истерично трещали автоматы. Откуда-то извне, прессуя воздух, вполз надсадный рев крупнокалиберного пулемета; на землю, в пыль, прямо перед носом Соломатина обрушился водопад новеньких, блестящих, словно елочные игрушки, гильз.
– Сорок седьмой, прием! – орал за Черновым радист. – Сорок седьмой, как слышите, прием!
Радист орал недолго: несколько пуль, противно визжа, раскрошили рацию у него на спине и, похоже, задели его самого, он повалился набок и спешно, загребая руками и ногами пыль заполз под бэтээр, испуганно бормоча:
– Ну не х… себе дела, ну дела, б.., ну дела…
– Вертушку вызвал, деловой? – крикнул ему Соломатин.
– Кажись, успел!
– Кажись, успел! – передразнил его Соломатин. – А если не успел?!
Глухой раскат танковой пушки они восприняли как праздничный салют.
– Наши! – радостно завопил радист с интересом разглядывая свои перемазанные в крови пальцы – Кровь! У меня кровь!
– Удивил, – отозвался Соломатин. – Повернись.
Радист послушно перекатился на другой бок, явив Соломатину мокрую, черную спину.
– Твою мать! Твою же в душу мать! – остервенело выругался Соломатин.
Потапов отрешенно наблюдавший за происходящим почему-то испугался, увидев стремительно промокающую гимнастерку радиста, хотя собственная изуродованная нога его не взволновала нисколько.
Ему повезло больше чем радисту. Несмотря на то, что два танка пытались сбить «духов» с гребня близлежащего холма ещё почти час, затем по холму ударили НУРСАми прилетевшие «крокодилы» и обработали его из пушек, он всё таки дождался «вертушку» и уже вечером того же дня лежал на операционном столе. Радиста, обмотанного окровавленным бинтом и укрытого куском брезента положили на дрожащий стальной пол вертолета, в ноги к Потапову, рядом с еще двумя такими же «двухсотыми». И пока Ми-8 тащил в своем чреве живых и мертвых солдат в знойном афганском мареве, Потапов тупо разглядывал выглядывающую из под брезента руку радиста, с бурыми пятнами крови и черными ногтями и постоянно задавал себе вопрос – почему он, а не я? Почему не я, а он? Почему…
* * *
– Ну, что, господин капитан, водочку пьянствуем? – приветствовал Чернова Соломатин.
– А вы, господа генералы, чего-то рано сегодня, – отвечал Чернов, – я вас раньше трех не ждал.
Они поочередно обнялись.
– Ты бы и нам чего-нибудь оставил – Потапов щелкнул по пустой бутылке. – Так вот гостей встречаешь?
– Водку организуем, – Чернов подвинул к столу два стула. На одном стуле висел короткий, десантный автомат со связанными изолентой рожками.
– Старая привычка? – кивнул Потапов на автомат.
– Нет, уже новая, – Чернов перевесил автомат на спинку своего стула.
– Чечня?
– Она самая, – Чернов снял телефонную трубку и набрал номер. – Кондратьев? Сидорчука ко мне, срочно. Что? Спит? Так разбуди!
Чернов убрал со стола пустую бутылку, вытащил из облезлого шкафчика два мутных граненых стакана, дунул в них на всякий случай и поставил на стол.
– Ну, рассказывайте, зачем пожало… – начал было Чернов, который сколько не пытался, так и не мог сам себе объяснить, чем вызвано появление старых сослуживцев в его части, да ещё в такое неурочное время, но тут открылась входная дверь и на пороге появился заспанный солдат, в трусах, майке, но в сапогах и почему-то с ремнем в руках.
– Вызывали, товарищ капитан?
– Вызывал. Вот что Сидорчук, ситуация такая – надо две бутылки и закуси какой-нибудь. Организуешь?
– Организую.
– Когда?
– Ща, пришлю салабона, – Сидорчук зевнул и почесал живот.
– Давай, ждем.
– Это кто? – удивленно спросил Потапов, когда дверь за Сидорчуком закрылась.
– Полковой барыга, – Чернов закурил.
– Срочник?
– Срочник, – подтвердил Чернов. – Но не простой срочник. Папа у него в Генштабе сидит, в управлении военного строительства, поэтому сынка никто не то что не трогает, а наоборот, чуть ли не пылинки с него сдувают.
– А может у него еще и девочками разжиться можно? – засмеялся Соломатин.
– Не исключено.
– Правда, что-ли?
– А ты думал? – Чернов повертел в руках пустой стакан. – В наше чудесное время всё возможно. Всё что хочешь, только плати.
– Я думал, хоть в армии такого бардака нет, – Потапов тоже закурил.
– Бардак есть – армии нет, – грустно констатировал Чернов
Словно в подтверждении его слов в дверь постучали:
– Можно?
– Заходи.
На пороге появился еще один солдат, с двумя бутылками водки, батоном черного хлеба и тремя банками кабачковой икры.
– Кто в нос дал? – строго спросил Чернов.
– Никто! – испуганно ответил солдат, поспешно вытирая запекшуюся под носом юшку.
– Упал?
– Так точно, упал!
– Я смотрю, что-то ты часто падать стал, – Чернов ловко скрутил пробку с бутылки. – Сидорчук, небось, дал?
– Да нет, я правда, упал.
– Ну ладно, упал, значит, упал. Свободен.
Солдат, шмыгая носом, поспешил скрыться за дверью.
– Дедовщина? – спросил Соломатин.
– Это еще ничего. В Чечне хуже было. Там если всерьез обижались, то морду никто никому не бил, там стреляли.
– Как это? – не понял Потапов. – Свои в своих?
– Ага, и в дедов, и в молодых. Даже офицерам иногда доставалось. Думаешь, такие потери только из-за чеченцев? Да не фига! Свои тоже постарались. Там все просто было – чуть что не так, сразу за автомат хватались, особенно контрактники по пьяни. Были случаи что в бою, якобы случайно, пуля в спину прилетала. Война, она всё спишет.
– В наше время такого не было, – удивленно качая головой сказал Соломатин.
– В наше время много чего не было, – отозвался Чернов, разливая водку в три разнокалиберных стакана, – ну так, чего…
– Давайте, – перебил его Потапов поднимая стакан. – За встречу и за… все, что впереди!
– Не понял? – Чернова удивил такой странный тост. – А что впереди?
– Пей, – улыбнулся Соломатин, – сейчас узнаешь. Думаешь мы просто так к тебе посреди ночи приперлись?
* * *
Нет, он больше не нумизмат. Старого нумизмата Лёвкина больше нет. Он умер.
Вместо него появился бизнесмен Лёвкин. Да, да, настоящий, серьезный и что самое главное, уникальный, в своем роде, бизнесмен Борис Аркадьевич Лёвкин. Прошу любить и жаловать.
Почему уникальный?
А у кого еще можно приобрести то, что предлагает Лёвкин?
В том то и дело, что приобрести то, что предлагает Лёвкин, можно только у самого Лёвкина и ни у кого больше. Во всем мире нет больше человека торгующего подобным товаром. Впрочем, нет, еще остается Соломатин, но он заключил с ним соглашение, своего рода устный договор, по которому Лёвкин имеет, так сказать эксклюзивное право на «распространение» соломатинских монеток. Вот почему он, Лёвкин, с полным правом причисляет себя к уникальным бизнесменам. Он один – следовательно, он уникален. Как и те монеты, что сейчас лежат перед ним. Восемь маленьких невзрачных кругляшей.
Сегодня утром он отвез Соломатину тугой сверток с пачками долларов и забрал эти монеты.
Монеты Соломатин небрежно завернул сначала в газету, а затем в пищевую фольгу, словно какой-нибудь пошлый бутерброд с вонючим сыром.
Где-то на окраине Москвы, до которой Лёвкин около часа добирался на своих раздолбанных «жигулях», в тоскливом, панельном рабочем гетто, в тесной, маленькой квартире проворачивались сделки, которым могли бы позавидовать самые престижные аукционы мира. Типа «Сотбис» или «Кристи». Уникальный товар скупался в сущности за копейки – в свертке, который Лёвкин отдал Соломатину было шестнадцать тысяч «зеленых», цена скромной корейской малолитражки.
Другое дело Лёвкин. Он оперировал совсем другими суммами. Раз подвернулось такое дельце, надо выжать из него максимум. Но в то же самое время – не спугнуть потенциальных клиентов и не погореть на собственной жадности. В бизнесе есть одно очень хорошее выражение «продавая – покупай». Продавай что угодно, но покупай всегда только одно – репутацию. Репутация стоит дороже любых денег, хотя многие из тех, с кем Лёвкин долгие годы провел на нумизматической толкучке, этого так и не поняли. Что всегда оборачивалось против них.
А вот сам Лёвкин всегда дела вёл гибко, не жадничал и спокойно нарабатывал, как это сейчас называют, «клиентскую базу». Точно также работал он и сейчас, прекрасно понимая, что как только он станет широко известен в узких кругах, цену он поднимет и клиенты это проглотят. Потому что он – монополист и отсутствие конкуренции дает ему все карты в руки. Хочется того или нет, но уважаемые ценители глубокой старины и раритетов будут играть по его, Лёвкина, правилам. Вот почему будущее обещает быть безоблачным и ярким, как небо над калифорнийскими пляжами. Куда Лёвкин, вне всякого сомнения вскорости отбудет. Не сейчас, а годика эдак через полтора-два, когда будет с чем отбывать, дабы достаточно уютно себя на этих самых пляжах чувствовать.
Сколько же у него будет к тому времени?
Лёвкин пожевал губами и довольно улыбнулся – по его самым скромным подсчетам, получалось что-то около двух миллионов. Да, да, около двух миллионов долларов.
Два полновесных «зеленых» миллиона – это очень хорошие деньги. Это конечно, относительно небольшие деньги, если речь идет о нефти или алмазах, но, тем не менее, это очень неплохие деньги для маленького, незаметного человека. А в его положении всегда нужно оставаться незаметным. В его положении светится крайне нежелательно и крайне опасно. Лучше жить тише, но дольше. Таковы правила его теперешнего бизнеса.
Лёвкин посмотрел на часы. Уже скоро, минут через двадцать должен подъехать клиент. Лёвкин не знал его, точно так же как клиент не знал Лёвкина. Зато оба они знали, что именно продается и покупается. И сколько это стоит.
Лёвкин был хитрым и осторожным. Специально ради этой встречи он снял квартиру. Хозяин квартиры, тихий алкоголик неопределенного возраста, решил, что Лёвкину квартира нужна для небольшой интрижки и поэтому милостиво оставил не застеленной свою кровать. Тощее одеяло, засаленная подушка и дырявая простыня, видимо, должны были настроить Лёвкина на интимный лад. Из всей мебели, помимо кровати, еще имелись два стула да колченогий стол. Все предельно просто и бесхитростно – сначала за стол, а затем в койку. Иначе, для чего же людям снимать квартиру на пару-тройку часов?!
Правда, сейчас вместо закуски и выпивки на столе перед Лёвкиным лежал недавно купленный «вальтер». Небольшой и даже какой-то несерьезный пистолет, но, как его заверил продавец, «пушка» безотказная, проверенная временем, мировой войной и одна из лучших в своем классе. Якобы, точно такой же «вальтер» был у Джеймса Бонда, который, как известно, с фуфлом не связался бы.
Лёвкин, разумеется не Джеймс Бонд, но тем не менее, его бизнес не менее опасен, как, впрочем и любой другой, связанный с большими деньгами. Поэтому гораздо спокойнее, когда «вальтер» под рукой. Будущее слишком прекрасно, чтобы жертвовать им в настоящем.
Противное дребезжание дверного звонка вернуло Лёвкина в реальность. Сунув «вальтер» в карман брюк, он осторожно подошел к двери и посмотрел в глазок – на плохо освещенной лестничной клетке проглядывали две тени.
– Кто? – спросил Лёвкин.
– Это насчет дивана, – донесся из-за двери тихий голос. – Мы по объявлению.
Пароль, если его можно так было назвать, был правильным и Лёвкин открыл дверь.
– Я же просил чтобы вы были один, – сказал он в полумрак лестничной клетки.
Вместо ответа он успел увидеть маленькую голубую молнию, вспыхнувшую у него перед глазами и в следующую секунду грузное тело Лёвкина, парализованное ударом электрошокера, безжизненно рухнуло на пол. Сильные руки схватили его и быстро втащили в квартиру.
Когда Лёвкин очнулся, было еще светло. Еще пели птицы и яркая полоса заходящего солнца застыла на стене, прямо перед его глазами.
– Очухался? – спросил его тихий голос откуда-то сзади.
– Тебя спрашивают, – его довольно-таки ощутимо ткнули в спину.
– Очухался, – еле ворочая языком ответил Лёвкин.
Он сидел привязанный к стулу лицом к стене. Сидел он, по-видимому достаточно долго, так как руки и ноги затекли, и он их почти не чувствовал. Еще он понял, что сидит совершенно голый и это его испугало.
Стул противно заскрипел, стена с полоской заходящего солнца поползла прочь, и Лёвкин оказался лицом к лицу с двумя молодыми, лет тридцати-тридцати пяти мужиками. Один из них сидел за столом, второй стоял прямо перед Лёвкиным. На столе Лёвкин успел заметить свой «вальтер» и разорванный сверток пищевой фольги.
– Короче, ситуация такая, – начал один из них, коротко стриженный блондин с пронзительными голубыми глазами. – Мы тебя спрашиваем, ты нам отвечаешь. Сразу тебя предупреждаем, времени у нас мало, поэтому отвечай быстро. Расскажешь все сразу, сильно поможешь и себе, и нам. Так что постарайся не затягивать. Понял?
– А что я должен… – Лёвкин только открыл рот как в ту же секунду сильный удар ногой в живот отбросил его вместе со стулом обратно к стене.
– Я же тебе ясно сказал – вопросы задаем мы. Понял?
– По… – попытался ответить Лёвкин, но задохнулся от боли. Вместо ответа получилось какое-то невнятное всхлипывание.
– По моему, ты плохо понял, – человек не спеша встал из-за стола и, подойдя к Лёвкину, быстро и коротко ударил его в челюсть. – Если еще раз ты нам не ответишь, или ответишь неправильно, я лично отрежу тебе ухо и заставлю сожрать. Понял или ещё раз повторить?
– Понял! – поспешно выдохнул Лёвкин, но это не спасло его от еще одного удара в живот.
– Где ты взял это? – Лёвкину показали одну монетку.
– У одного знакомого.
– Как зовут знакомого, адрес, телефон?
Лёвкин быстро отвечал, опасаясь хоть раз ошибиться. Все его ответы записывались на диктофон.
– Сколько ты продал монет?
– Одну.
– За сколько?
– Семь тысяч долларов.
– Кому?
Лёвкин на секунду задумался. Он, конечно же, знал, кому продал первую монетку, но раскрывать своего клиента, достаточно серьезного человека, он не хотел.
– Кому?!
– Я не знаю, – обреченно сказал он. – Я продавал через посредников…
В следующую секунду, еще не поняв что произошло, он почувствовал резкую, острую боль и одновременно с этим, провалившись всем нутром в ледяную бездну первобытного ужаса, увидел у себя перед носом собственное ухо. Маленькое, сморщенное, окровавленное и жалкое. По спине противно и страшно потекло что-то теплое.
– Я тебя предупреждал, – цепкие пальцы схватили его за лицо, пытаясь разжать челюсти. Лёвкин, обезумев от боли и страха, догадался, что сейчас за этим последует и тоненько, словно кабанчик на бойне, завизжал. Тут же на него обрушился град ударов. Он вместе со стулом повалился на пол, сильно ударившись о стертый паркет и так уже разбитым лицом. Удары продолжали сыпаться на него со всех сторон, по голове, по лицу, по спине, по ребрам, между ног; били толково, со знанием дела, специально выбирая самые болезненные места. Избиение продолжалось недолго, но для Лёвкина этот коротенький, до предела заполненный болью, промежуток времени показался целой вечностью. И еще он никак не мог поверить в происходящее, вернее, его скомканный, смятенный рассудок отказывался принять эту реальность – неужели это правда, а не дурной сон? Неужели это все происходит с ним, с Лёвкиным? И как вообще такое возможно, что его, немолодого уже, убеленного сединами человека, с плохим сердцем и вообще неважным здоровьем, так бьют?! Вся его предыдущая жизнь гарантировала, что такого быть не может, просто потому что не может, но оказалось, что может, очень даже может.
В конце концов он не выдержал; вернее, не выдержал его действительно слабый организм.
– Ах ты засранец, – услышал он над собой радостный смех – Такой большой дядя и обделался!
Его оставили в покое. Тоненько запищал сотовый телефон и кто-то быстро пробормотал фамилию и адрес Соломатина. Рядом с собой, на полу, Лёвкин увидел свое ухо, растоптанное, раздавленное и превратившееся в противную кожистую лепешку с неправильными краями. Как те самые монетки…
От боли, от стыда, от бессилия и безысходности Лёвкин заплакал. Сначала тихо, а затем все громче и громче, понимая, что теперь стесняться нечего и некого. Все кончено, так и не успев толком начаться.
– Молчать! – прикрикнули на него, но он уже ничего не слышал. Когда его опять начали бить, он уже не пытался хоть как-то увернуться или защититься – единственным его желанием было поскорее дождаться того самого удара, который поставит на этом кошмаре точку. Но вместо этого, внезапно, откуда-то извне, из другого измерения, из другой жизни донесся легкий шорох вставляемого в дверной замок ключа. Слабая искорка надежды вспыхнула в охваченном мраком сознании Лёвкина, на секунду вернув его к жизни.
– Кто это? – его быстро перевернули на спину.
– Я не знаю, – с трудом сказал он, давясь кровью, соплями и слезами.
– Кто это может быть?
– Наверное, хозяин квартиры, – Лёвкин вспомнил тихого, безобидного алкаша.
Входная дверь осторожно скрипнула и тут же послышалась какая-то суетливая возня: глухие удары, растерянный мат, приглушенный стон, один из мучителей метнулся обратно в комнату, схватил со стола «вальтер» Лёвкина и подушку с кровати. Сухо, словно переламываемая ветка, щелкнул выстрел, и все стихло. В комнату, за ноги, втащили безжизненно обмякшее тело хозяина-алкаша и бросили его у противоположной стены. Дымящуюся подушку бросили на окровавленное, изуродованное выстрелом лицо.
– Будет знать, падла, как без стука входить! – пошутил тот самый, с голубыми глазами, направляясь к Лёвкину и передергивая затвор.
– Ну а ты вылупился? Тоже пулю хочешь?
– Не надо… – только теперь Лёвкин понял всю серьезность своего положения.
– Что не надо?!
– Я все скажу… – стараясь не смотреть на подергивающееся в конвульсиях тело хозяина квартиры, спешно выдохнул он. – Все скажу!
– Конечно, скажешь. Куда ты, б… денешься.
– Я все… все сам скажу…
– Ну давай, мы слушаем, – перед Лёвкиным опять появился диктофон.
Следующие полчаса, пока не кончилась пленка, диктофон исправно записывал быстрое, мокрое бормотание Лёвкина, часто прерываемое внезапными рыданиями…
* * *
– Такие вот дела, – Потапов разлил остатки водки и заглянул в пустую банку из-под кабачковой икры.
– Это правда? – спросил Чернов.
– Нет, это шутка, – Соломатин, пьяный и оттого веселый опрокинул свою стопку. – Мы специально, в час ночи, пошутить приехали.
– Но если это так, то это же … – далее Чернов коротко выругался.
– Да, именно так, – подтвердил Потапов.
– А зачем вам я? Вы что, вдвоем не справитесь?
– Не справимся! – мотнул головой Соломатин. – Без тебя никак не справимся.
– Почему?
– Потому, что нам стволы нужны.
– Что?
– Стволы.
– Стволы?! – удивился Чернов. – Какие еще стволы?
– Такие, – Потапов кивнул на десантный «калашников» Чернова. – Или что-нибудь посерьезнее. РПК или «плетка».
– Да вы что?
– А ты как думал?! В такое дело лезть и не иметь ничего за душой?
– Где ж я их достану?
– Ты где служишь-то? В детском саду, сторожем?
– Но как?
– Да вы из Чечни, небось, столько неучтенки приволокли, – Потапов презрительно хмыкнул. – Из Афгана стволы таскали, а из Чечни и подавно небось натащили.
Потапов был прав; после окончания чеченской командировки, оружия привезли предостаточно. В основном трофейное и поэтому неучтенное. Вернее, была составлена какая-то смешная опись, но где она и кто конкретно за это оружие отвечает – не знал никто. Оружие, несколько десятков стволов, в беспорядке сваленное на складе, по большому счету, было бесхозным.
– Короче, есть два варианта, – Соломатин достал сигарету. – Либо мы у тебя стволы просто покупаем, либо ты входишь с нами в долю и помогаешь их достать.
– Это, конечно, криминал, – продолжил Потапов. – Но без стволов впутываться в такую историю… в общем, сам понимаешь.
– Подумай, раскинь мозгами, – Соломатин выпустил густое облако дыма. – И еще мы хотим поговорить с Ковалёвым.
– И с ним тоже?
– И с ним. Нам нужны проверенные люди.
– Хорошо, я подумаю.
– Двух дней хватит?
– Одного хватит.
– Тогда, – Потапов достал ручку и на краю газеты написал свой номер телефона. – Если что надумаешь – звони. В любое время.
– Хорошо, – Чернов оторвал клочок газеты с телефоном и спрятал в нагрудный карман. – С Ковалёвым днём поговорю.
Чернов почему-то вспомнил, как этой зимой, в Грозном, Ковалёв ловко, словно всю жизнь только этим и занимался, обшаривал карманы убитого боевика.
– Я думаю, он согласится, – добавил он.
Глядя как в серых, предрассветных сумерках, поблескивая мокрыми от росы боками, «уазик» медленно выезжает за ворота части, Чернов уже знал, что завтра он наберет оставленный Потаповым номер. Знал он, что армия, с которой он, как верный, преданный муж, был неразрывно связан столько лет, уже осталась в прошлом как вчерашний день, и что теперь его жизнь потечет по другому руслу, в совершенно ином направлении.
Знал он, что и Ковалёв, в эту минуту мирно спящий в офицерском общежитии, пока сам того еще не ведая, живет уже другой жизнью. Другой и не похожей на предыдущую.
Не знал Чернов только одного – хорошо это или плохо и чем закончится?
* * *
– Вот что, – Лёвкина отвязали от стула и поставили на ноги. – Бегом в ванную подмываться, сейчас поедешь с нами.
– Куда?
– Куда надо.
На подламывающихся ногах, с трудом сдерживая подкатывающую к горлу тошноту, Лёвкин поковылял в ванную. Закрыв за собой дверь и включив воду, он бросился к унитазу, вцепился в него, словно утопающий за спасательный круг, и минут пять корчился в рвотных спазмах.
Вытирая выступившие на глазах слезы, он, пошатываясь, встал, умылся холодной водой и посмотрел на себя в зеркало.
Когда-то, в молодости, он был интересным мужчиной. По крайней мере, женским вниманием он не был обделен никогда. Чего скрывать, себе он тоже нравился. Благородный, породистый профиль, умные глаза, высокий лоб, аккуратные, ухоженные усы; все это выгодно отличало его от серого, невзрачного, вечно пахнущего перегаром и не стираными носками простого мужичья. Годы не испортили его, а наоборот, добавили ему солидности. Глядя на него, никто не посмел бы сказать, что Лёвкин похож на неудачника и аутсайдера. Наоборот, он производил впечатление респектабельного, уверенного в себе человека, идущего по жизни также непринужденно, как океанский лайнер по спокойному морю.
Такое впечатление он производил раньше, но точно не сейчас.
Сейчас он был жалок. Настолько жалок, что Лёвкин, глядя на свое страшное отражение, вновь расплакался. Он не узнал себя. Сине-бурое месиво, увиденное им в зеркале, не имело с ним ничего общего. Глаза, заплывшие и потухшие, были чужими.
Плакал Лёвкин стоя под душем, плакал перевязывая себе голову, плакал одеваясь и замолчал лишь при выходе из квартиры, получив сильный тычок под дых.
Его усадили в его же машину и куда-то повезли. Москва, пролетающая за окнами, казалась чужой и зловещей.
– Другана твоего мы найти пока не можем, – доверительно сообщили ему. – Поживешь пока на хате вместе с нами.
– На какой хате? – напрягся Лёвкин. Мысль о том, что он не вернется к себе домой, почему-то сильно его испугала.
– На своей хате.
– То есть… дома?
– Дома. Он же к тебе домой ходит?
– Обычно он мне звонит.
– Куда звонит? Домой?
– Да.
– Ну так в чем проблема, б…!? – рявкнули на него.
– Нет проблем, – быстро ответил Лёвкин.
Впервые за эти несколько кошмарных часов Лёвкин успокоился и взял себя в руки. Ситуация слегка прояснилась и это было уже значительно лучше, потому как нет ничего хуже пугающей неопределенности. Теперь надо собраться с мыслями, хорошенько все взвесить и попытаться найти выход.
Лёвкин верил в себя и надеялся, что он обязательно выпутается из этой истории. Он всегда добивался того, чего хотел, добьется и на этот раз. В конце концов, в жизни бывают вещи и пострашней. Главное – он жив, в отличие от несчастного алкаша. А раз он жив, то способен шевелить мозгами. И именно эта способность всегда была его наиболее сильной стороной.
Не надо отчаиваться. Как сказал кто-то из великих, в жизни не бывает безвыходных ситуаций.
Лёвкину так хотелось в это верить.
* * *
Когда позвонил Чернов, Потапов еще валялся в постели и размышлял об одной непростой вещи – опохмеляться или нет? Идти за пивом, или не стоит? С одной стороны идти было лень, но с другой стороны организм настойчиво требовал исцеления…
– Я готов, – просто и буднично сказал Чернов.
– А Ковалёв? – поинтересовался Потапов. – Ты с ним говорил?
– Говорил. Он согласен. Так что приезжайте.
– Когда?
– Сегодня после двадцати трех.
– Уже сегодня?
– Завтра будет поздно.
– Почему? – Потапову такая спешка не очень понравилась. В любом деле он привык действовать не спеша и обстоятельно.
– Не по телефону, – ответил Чернов.
– Понял. Тогда ждите.
Повесив трубку, он, по старой армейской привычке, начал быстро собираться. Хотя собирать особенно было нечего – чистое белье, старая форма, сапоги, полотенце, два куска мыла, зубная щетка; все это давно было уложено в рюкзак и ждало своего часа. Который, похоже, наступил.
Все еще размышляя о пиве, Потапов набрал номер Соломатина.
– Сегодня, – только и сказал он ему.
– Когда? – Соломатина это известие, похоже, не сильно удивило.
– Они ждут после двадцати трех.
– Они? – переспросил Соломатин.
– Ковалёв тоже. Как твой «козел»? Проблем не будет?
– Постучи по дереву. Ты сам-то готов?
– Готов.
– Тогда жди, сейчас заеду.
Потапов тут же набрал номер деда.
– Дед, я уезжаю, – вместо приветствия сказал он.
– Уже?! – удивился дед.
– Да.
– Ты ничего не забыл?
– Нет, ничего.
На несколько секунд повисла пауза. Дед, по-видимому, хотел что-то сказать на прощание, но кроме банального «ни пуха, ни пера», Потапов ничего от него больше не услышал.
– Береги себя, Андрюша, – грустно добавил дед, – и… возвращайся!
– Не волнуйся дед, все будет хорошо. Давай, до скорого!
– Надеюсь, что до скорого…
Повесив трубку, Потапов, поразмышляв с минуту, почти бегом кинулся вон из квартиры – места в рюкзаке оставалось еще много, голова болела, дорога предстояла длинная, короче, без пива никак не обойтись.
Что Потапову всегда в самом себе нравилось, так это умение в самый ответственный момент принять правильное, единственно верное решение.
Как сейчас, например.
Соломатин, так же как и Потапов был человеком военным. Был, правда, в прошлом, но это не помешало ему быстро собраться и загрузиться в свой «уазик».
Рюкзак набитый всем необходимым на заднее сиденье, миноискатель под брюхо машины – вот, собственно, и все сборы.
Присев «на дорожку» он окинул прощальным взглядом свою квартирку. Тесная и не знавшая ремонта уже лет двадцать, но, тем не менее своя, родная. Уезжая в командировки, Соломатин всегда испытывал легкое чувство грусти от расставания с квартирой, словно оставлял любимого человека. Здесь он родился, здесь прожил почти всю свою жизнь, из этой квартиры он уходил в Афган, и опять он оставляет ее, ввязавшись в очередное приключение с сильным душком авантюры.
Выезжая из двора, он чуть было не столкнулся с большим, серебристым «гранд-чероки», который на большой скорости пытался во двор заехать. Два джипа резко, тревожно заскрипев тормозами, остановились, потом медленно сдали назад и благополучно разъехались. Обычное, на первый взгляд, ничем не примечательное событие, коих каждый день в любом московском дворе происходит великое множество.
Объезжая «гранд-чероки» и вполголоса матеря его водителя, коротко стриженого парня с цепким, неприятным взглядом, Соломатин и не предполагал, что именно сейчас решилась его судьба, как, впрочем и судьба всего предприятия в целом. И уж совсем не мог он предположить, что отныне его жизнь, а так же еще несколько десятков жизней, окажутся связаны меж собой невидимыми, но очень прочными нитями.
* * *
Серое, в бесчисленных заплатках и трещинах полотно дороги быстро бежит прямо под колеса «уазика» и, раздавленное, так же быстро уползает прочь.
Соломатин недовольно покашливает и периодически бросает на Потапова быстрые, завистливые взгляды. Ему хочется пить. Ему хочется пива.
– Сегодня градусов тридцать, – без всякой задней мысли говорит Потапов и делает большой глоток из четвертой уже бутылки.
Соломатин ничего не отвечает и лишь сильнее давит на газ, заставляя «уазик» мчаться на пределе своих сил. Где-то внизу, под днищем, на неровностях дороги гулко погромыхивает миноискатель.
Потапов любит дорогу. Любит огромный, неохватный, распахнувшийся во всю ширь простор, бесконечную, манящую неизвестностью ленту дороги, перелески и поля, разрезанные этой лентой надвое, задумчивые, медленные речки, быстро пролетающие за ограждениями мостов, села и деревни, появляющиеся на миг и так же быстро исчезающие.
Дорога – это событие. Встреча с другой жизнью, которая городскому жителю почти незнакома.
А эту дорогу, текущую сейчас у него под ногами, он любит вдвойне. Потому, что ведет она его к тому, о чем, боясь сглаза, и подумать-то страшно. И поэтому радостно смеется Потапов над хмурым, недовольным Соломатиным, над очередной кочкой, на которой, гремя всеми суставами подвески, «уазик» жестко «козлит», над толстым гаишником, с трудом вылезающим из своей патрульной машины. Все вызывает у него умиление и почти детский восторг.
Удивительно, но жизнь иногда действительно бывает прекрасна!
Едва стемнело, Чернов и Ковалёв, тихо, по-воровски проникли на оружейный склад.
Часовой, разумеется, их заметил, но особого любопытства не проявил. За полтора года службы он хорошо усвоил одно железное правило – чем дальше от начальства, тем легче жизнь солдата. Раз господа офицеры пошли на склад, значит им это для чего-то нужно. А для чего, так это не его, часового, ума дело. Может, им выпить больше кроме как на складе негде. Может, они инвентаризацию решили устроить. Может… Короче все может быть.
Заперев за собой огромные зеленые ворота с облупленной красной звездой, Чернов с Ковалёвым быстро, по-хозяйски, принялись обшаривать длинные ряды стеллажей.
– Вот оно, – возбужденно прошептал Ковалёв.
Из складской полутьмы на незваных гостей угрюмо уставились хищные рыльца пулеметов, тонкий хоботок снайперской винтовки, носатые дула обычных «калашей» и подозрительные глазки дюжины пистолетов. Все это была «неучтенка» – трофейное оружие, вывезенное из Чечни и сваленное за ненадобностью на складе.
Ковалёв стащил со стеллажа пулемет и ловко начал его разбирать, складывая детали в разложенную на полу плащ-палатку. Чернов то же самое проделывал со снайперской винтовкой. Лишенные своих основных частей, разобранные до хребта-основания, пулемет и винтовка утратили свой законченно-грозный вид, превратившись в две жалкие, исхудавшие, похожие на берданки «пукалки».
Потом очередь дошла до двух автоматов; к ним присоединились четыре пистолета Стечкина. Чернов ухватил было гранатомет РПГ-7, но Ковалёв не одобрил его идею.
– Ты бы еще пушку взял.
– Может пригодится? – Чернов с сомнением посмотрел на гранатомет.
– Для чего? Рыбу глушить?
Гранатомет лег обратно на свое место, но Чернов на этом не успокоился и накидал в плащ палатку с дюжину «лимонок». Ковалёв покачал головой, но промолчал. А вот ящик с тротиловыми шашками он одобрил. Да и не мог не одобрить, будучи сапером. Ведь в умелых руках тротиловая шашка становится универсальным и эффективным оружием и об этом много могли бы рассказать те, кто познакомился с «подарками» Ковалёва в Афганистане и Чечне. Правда, получив «подарки» они стали навсегда бессловесными.
Потом, с другого уже стеллажа они притащили два цинка с патронами; один для пулемета, другой для автоматов. Для пистолетов они набрали патронов в мешок из под противогаза и все собранное барахло оттащили к дверям склада. После чего, придав себе спокойный и непринужденный вид, вышли наружу.
Часовой, едва завидев покидающее склад начальство, тут же повернулся к ним спиной и проявил живейший интерес к забору и опутывающей его колючей проволоке.
– По сторонам смотри, боец! – прикрикнул на него Ковалёв проходя мимо. – Эдак у тебя из-под носа полсклада упрут.
Вернувшись в офицерское общежитие они, стараясь не привлекать внимания, быстро собрали необходимые им вещи и, написали рапорты об увольнении, по старой привычке сверив часы, разошлись каждый по своим делам.
Чернов разыскал Сидорчука и отправил его за водкой, а Ковалёв, наплевав на все, завалился спать.
* * *
Маленький Виталик Ковалёв был задиристым, злым и упрямым мальчиком. «Весь в отца!» горестно говорила мать каждый раз, когда Виталик, приходя из школы, гордо демонстрировал новый синяк под глазом или разбитую губу.
Дрался он постоянно. В школе со старшеклассниками, во дворе с чужими «залетными» ребятами, нередко сам делал вылазки в чужие дворы и даже в другие районы. И хоть драки не всегда оканчивались в его пользу, его это не расстраивало. Виталик следовал олимпийскому принципу, где главное, как известно, не результат, а участие.
Так уж получилось, что мать воспитывала его в одиночку. Отец Виталика, военный советник, без вести пропал в Анголе. Не погиб, не попал в плен, а просто пропал. Его сослуживцы, пряча глаза, говорили, что может быть всё скоро проясниться, мол, тела никто не видел, значит, есть надежда. Но мать прекрасно понимала, что все это пустые слова: ее исстрадавшееся сердце давно уже знало, что мужа нет в живых. Тела, конечно, никто не видел, но любой дурак знает, что бывает с сапером, ошибись он хоть раз. Там не то, что тело, шнурки от ботинок и то не найдут.
Загадочна судьба отца, естественно, не оставила Виталика равнодушным; в тринадцать лет он твердо решил стать сапером. Не десантником, ни летчиком, ни моряком, а именно сапером. К тому времени двор, класс, да и вся школа уже лежали поверженными у его ног. Виталика манил другой, непокоренный еще мир. Мир приказов, уставов, кирзы и едкой пороховой гари. Мать сопротивлялась до последнего, но куда там…
Упрямство, по-видимому, было фамильной чертой Ковалёвых.
Виталик, бывший до этого хроническим троечником, внезапно подтянулся, прошел в девятый класс и к удивлению учителей, да и своему собственному поступил-таки в военное училище.
Утверждаться он начал в первый же день, накостыляв первому встречному курсанту лишь за то, что тот «косо посмотрел». Затем, освоившись, он по старой школьно-дворовой привычке принялся «покорять» старших товарищей, которые просто-напросто растерялись. Обычно «молодняк» так себя не ведет: поджав хвост и скучая по мамке, они становятся легкой добычей старших курсантов, безропотно выполняя все их требования и приказы. От стирки носков, до посылки за пивом. Но Ковалёв решил перестроить годами сложившийся порядок. Кто-то из старших попросил его сбегать за сигаретами, за что тут же был зверски бит. Никто, ни одна живая душа не смела помыкать Ковалёвым. Мало того, такую же неуважительность Ковалёв проявил и по отношению к офицерам. Получив наряд вне очереди за растрепанный внешний вид, Виталик просто послал дежурного куда подальше. И быть бы ему отчисленным в первый же месяц учебы, если бы не новые друзья.
