Путь Счастья
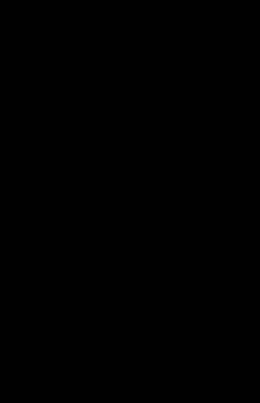
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р25-502-0025
© Протоиерей Карташев П., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025
Вступление
Моя Москва
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу…
Е. Баратынский
Москва моего детства – начала и середины 1960-х годов – внешне не сильно изменилась с дореволюционных времён, когда маленькими были мои бабушки и дедушки. И хотя советская власть вносила в облик столицы перемены немалые, но всякие архитектурные опыты и новшества долго не проникали в тихие улочки и дворики, не покушались на благородные фасады скрывавшихся в переулках домов. А в коммунальных квартирах этих домов и во дворах, где бегали, играли и дружили дети середины века, – там-то и сохранялся мой город, там подрастало поколение тех, кто видел и осязал бывшую Россию. Мне даже казалось, что я слышу минувшее, если вдруг захлопывалась тяжёлая дубовая дверь на втором этаже, и от этого торжественно гудело с первого по пятый во всём прохладном подъезде. Такое эхо, мелькнула мысль, слышала Ирина Терентьевна из восьмой квартиры – в ней родилась и до сих пор живёт, – когда по лестнице мчалась на улицу, лет семьдесят назад, ещё девчонкой. А ступени лестничных маршей из золотистого песчаника, с гладкими углублениями от тысяч и тысяч ног – что они повидали за целый век и даже больше? По ним проходила непоколебимая Россия при Александре III, пробегали восстания, шаркала разруха. Помнят лестницы самоуверенный шаг Советов, и торопливые перебежки Отечественной войны, и весенний говор конца пятидесятых. И вот в свой срок вступали и мы в дорогое наследство: перил, витых решёток, вытертых ступеней, высоких филёнчатых дверей с блестящими медными ручками.
Да, иным из моих родных суждено было, без усилий с их стороны, всю жизнь провести в тех же домах, в которых они ещё детьми, в Российской империи, жили с родителями. Но остались у себя дома только единицы. Большая часть родни погибла или пропала в тридцатые и сороковые в лагерях или во время войны. Некоторых выживших просто разметало по миру: кто-то оказался поблизости, в московских новостройках, иных унесло в Казахстан, в Мурманск, одна семья осела на Кубани. Совсем редкие – эмигрировали.
Москва, её центральная часть, та, что в пределах Садового кольца, на всех почти картах напоминает паутину: вот прямые нити от центра к окружности – это улицы; а между ними поперечные ниточки, лучики или штрихи – это переулки. Переулки связывают улицы и поддерживают их, не позволяют им ни сблизиться, ни разойтись. Они – рёбра города. Я в детстве жил в той части Москвы, в Уланском переулке, где между главными улицами – сплошные рёбрышки.
Близкая к нам Сретенка до сих пор является опорным столбом, позвоночником, к которому переулки крепятся и от которого расходятся. Если повернуться лицом к далёкому Кремлю, к сердцу города, а спиной к Сухаревской площади и пройтись по Сретенке, то справа один за одним пойдут Сухарев, Мясной, Головин, Пушкарёв, Сергиевский, Колокольников и Печатников переулки. А слева – Даев, Селивёрстов, Просвирник, Луков, Ащеулов и Рыбников. Какие имена-названия! В таком-то месте селились пушкари, поблизости – колокольщики. У нас же здесь, в нашем родном Уланском, квартировали уланы. А в этой улочке просвирни пекли просфоры для множества московских церквей. В Печатниковом и Колокольниковом жили наши родственники, а в Ащеулове и Головине – мои одноклассники. Во многих дворах, а между Костянским и Уланским – точно, мы по трещинкам в земле, раскапывая аккуратно бугорок руками, находили белые крепкие шампиньоны, очень вкусные, настоящие. Они там неспешно созревали. Чисто было в городе. И тихо: где-нибудь на Садово-Спасской, пропуская прохожих, на светофоре в час пик стояло три-четыре машины.
Играли мы обычно своим тесным кругом, но иногда двор против двора: в партизаны и в войну. А ещё девочки и мальчики, все вместе, с утра до позднего вечера играли в дочки-матери: строили из кирпичиков и фанерок квартиры (без крыши, этакие макеты) и в них устраивали всякий уют; нянчили – кормили кашками из песка, пеленали в тряпочки – своих будущих детей.
А в нашей булочной, которая помещалась в нарядном доме, облицованном по цоколю тёмно-коричневым кафелем, и ещё в кондитерской на углу Сретенки и Большого Сухаревского переулка, и только в них, продавались сдобные булочки с хрустящей корочкой удивительного вкуса и аромата, по восемь копеек, обсыпанные воздушной сахарной пудрой. Такой сдобы я так нигде и не встретил с тех пор. А таких точильщиков, ходивших по дворам со своими ручными станочками, созывавших хозяек криком «точить, чинить, посуду лудить», забиравших кастрюли и чайники в починку и ещё чинивших всякую домашнюю мелочь и продававших детям за копейки самодельных лошадок и матрёшек и крохотные свистульки… Таких я, конечно, тоже нигде уже не увижу.
А однажды майским утром бабушка открыла в первый раз после зимы окно. Отлепила бумажные полоски от щелей и распахнула его настежь. По радио в эти минуты передавали что-то очень нежное и великое, солнце сверкало в верхних стёклах дома напротив, и я почувствовал, как раскрывается широко, не обнять взглядом, будущее. Я буду расти, и у меня всё будет получаться, и все люди на свете будут любить друг друга. Позже я узнал, что передавали Мусоргского, рассвет на Москве-реке: птицы взлетают, ветер качает верхушки елей, плещет волна о небольшой струг, и впереди золотятся купола Кремлёвских соборов и колоколен. С годами для меня Москва Сретенки и Мясницкой, от Трубной площади до Покровских ворот: переулки, дома, близкие соседи, все дети наших дворов, и Тургеневская снесённая читалка, палисадники за невысокими оградами, бульвары, булочные и кинотеатры – а не один лишь Уланский, знакомый до каждой ямки и деревца, – вся эта Москва стала глубоким фоном, заданным на будущее тоном и ритмом, углом зрения и почерком мысли.
Псалмопевец царь Давид благодарит Бога за все Его дары. Он, пророк, великий поэт древности и вообще всех времён (нет языка на планете, на который не были бы переведены его стихи-псалмы и на котором не читались бы они и не распевались доныне), благословляет Бога, очищающего тебя, – здесь он обращается как будто со стороны к себе самому и в своём лице к любому другому человеку – от беззаконий, исцеляющего все недуги твои, избавляющего от истления жизнь твою, венчающего тебя милостью и исполняющего твои благие желания. Тем более удивительно это, что мы, по его словам, – прах земной, мы подобны траве, быстро отцветающей. Зачем же Господь так заботится о траве? Не напрасно ли Его внимание? Ведь отлетает от нас дух наш, и место наше уже не узнает нас, и мы тоже не узнаем своих мест. Да, так и есть – на земле. Внешне всё меняется до неузнаваемости. Но внутренняя связь не рвётся. Сохраняется замысел Божий – он проходит невидимой нитью, пронизывает могучей силой времена и пространства, сшивает в целое части, которые без помощи свыше забыли бы себя и то, что они всего лишь части.
И я решил, пока это верное слово Псалтири ещё напоминает мне, что невидимые связи не рвутся, походить по своим дворам и переулкам. И ногами побродить, и душой прикоснуться. Постоять, вглядеться в то, что не сильно изменилось или что в памяти не изменилось вообще. Я пытался вообразить, что бы я подумал несколько десятилетий назад, когда бы мне открылось будущее и передо мной, мальчишкой, встал бы я, но пожилой. Конечно, я не узнал бы себя, ведь изменился сильно. Всё же не камень и не чугун, чтобы долго держаться без морщин и ржавчин. Пронёсся над жизнью ветер, лопнули мыльные пузыри важных и неотложных проектов, растаяли пугавшие миражи. И всё?
Нет, не всё. Лишь только пророк Давид сказал, что «человек – как трава, дни его – как цветение полей», как тут же продолжил, не позволяя впасть в печаль: «Милость же Господня во все века на боящихся Его». Она, эта милость, – питательная и просвещающая среда. Я непременно узнаю и место, и время, если пребуду в свете Божией милости и заботы. Проникну сердцем сквозь наслоения и перемены в своё собственное начало. И оно в ответ как будто зашевелится, вздохнёт, узнает во мне всё того же радостного, собирающегося вечно жить человека. Я на этой городской земле вырос, и мне выпала честь, среди других многих, живших рядом, за неё благодарить. Унести её с собой, в сердце – в нетление. Нетленна же и бессмертна только она – милость Его. И я увидел свои дворы и переулки в каком-то особенном свете; его отдалённо напоминает свет начинающегося солнечного дня, когда вокруг ещё тихо, а сердце обмирает от предчувствия большой счастливой жизни, которая вот-вот проснётся.
Как же я умру – меня мама любит!
Встретил небо, встретил небо… Очень знакомое что-то, откуда это? Каждый год читаю, торжественно, лицом к Церкви, ко всем стоящим в ней людям, на Пасху. Они тоже пришли на встречу с Небом, с воскресшим Богом. Эти слова из Слова огласительного в день преславного Христа Бога нашего Воскресения святителя Иоанна Златоуста. Святитель описывает, нет, возглашает красиво и вдохновенно, как огорчился ад, встретив Христа не мёртвого, а угасившего смерть своею смертью. Ад низвергся, умер. Потому что пленил его Сошедший в него. Ад принял тело (бездыханное тело снятого с Креста Иисуса) – и коснулся Бога, принял землю и встретил Небо. Встретил Небо.
Встретить небо можно – чаще всего так и бывает, наверное – совсем неожиданно. Как вообще люди, в древней Церкви, обращались в Христианство? Я этот вопрос задаю, среди прочих, на беседах с родителями и крёстными перед Крещением. Как? Да и в наше время тоже. На глубине, в таинственном механизме обращения всё главное совпадает. В древности и в наше время. Услышали что-то, запало в душу. Прочитали книгу или отрывок из статьи в журнале. А ещё важнее, точней: стали свидетелями самоотверженного поступка, христианского мужества, как несколько лет назад в Сирии, например, в маленьком городке, где монастырь святой равноапостольной Феклы. Жили себе сёстры монастыря, принимали паломников, молились Богу. Всё было размеренно и мирно. И не предполагали они, что придут люди без сердца и дадут им возможность засвидетельствовать свою верность Христу даже до крови. А в раннехристианские времена публичные казни мучеников (то есть дословно – «свидетелей») обращали ко Христу многих зрителей, пришедших «на позор сей».
Один знакомый рассказывал, что в двадцать пять лет был ещё не крещён, и вот однажды его поразила, пленила чистота девушки православной. Это происходило в начале 1980-х годов – время советское, государство тогда продолжало бороться с христианством. И знакомый мой потянулся к тому, что было для той девушки дорогим. Достал Евангелие, прочитал. Говорит, что, перевернув последнюю страницу Евангелия от Иоанна, надел ботинки и поехал в Елоховский собор (другой церкви не знал), подошёл к человеку в подряснике (выяснилось позже – к пономарю) и сказал ему громко и решительно, чем немного напугал его: «Я креститься приехал, верю в Бога. Что мне сейчас нужно, куда идти?» Его крестили, конечно, но не в этот день. И, заботясь о нём, о том, чтобы он с хорошей работы не вылетел, не в соборе, а в Удельной, под Москвой, в деревянной церкви, и скромно крестили, без записи.
Вот встретился обыкновенный человек с таким же человеком, во всём подобным ему, только один в глазах другого увидел что-то не повседневное, какое-то небесное отражение. И задумался. Или фильм посмотрел, музыку услышал. В храме на службе оказался. Как одна девушка в Нью-Йорке – про неё мне недавно рассказали – перешагнула случайно (не случайно?) порог Никольской церкви и увидела Христа распятого. Приблизилась к Нему, с ужасом всмотрелась и замерла. Стала приходить, а языка не понимает – ни церковнославянского, ни русского, но идёт служба, поют, кадят ладаном, горят свечи. И люди вокруг, она это чувствует, тоже потрясены тем же, чем и она: страдает кто-то на Кресте, Кто не должен страдать. Но поверх этого чувствуется, что все вместе они что-то знают, нечто невидимое им открыто, и это делает их собранность не безотрадной, не безнадёжной, внутренне светлой. А что здесь царит, что их соединяет? Она тоже потянулась, не отдавая себе отчёта в своём порыве, к выяснению. Что здесь пребывает такое невидимое, сильное, ни с чем не сравнимое? «Я тоже, – она потом улыбалась счастливо, – хотела знать, желала в этом главном быть, как они». Человек смутно ищет лучшего, хочет быть высоко, надёжно счастливым.
У Бунина есть сонет «Вечер». Конечно, он не по этому поводу, но почти, но близко и красиво. Удовольствие просто переписать его. Получает же удовольствие играющий на фортепьяно: смотрит в ноты, и осторожно играет, и удивляется, какая чудесная музыка возникает под руками.
- О счастье мы всегда лишь вспоминаем,
- А счастье всюду. Может быть, оно —
- Вот этот сад осенний за сараем
- И чистый воздух, льющийся в окно,
- В бездонном небе лёгким белым краем
- Встаёт, сияет облако. Давно
- Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,
- А счастье только знающим дано…
Да, встречи. И есть главная встреча, которая без труб и огласки. Господь Бог пришёл в мир незаметно. О встрече как таковой хочется неторопливо подумать, под этим углом зрения взглянуть на все вещи.
Человек ли нащупывает, чего-то ища. Он и сам порой не знает, чего ищет. Только о чём-то желанном и неведомом томится, тоскует душа. Света ищет, чистоты, высокого и обновляющего всё его существо дыхания настоящей жизни, весны, любви. Может быть, это всё сосредоточено в Боге, от Него исходит, Им даруется? Или, за очередным поворотом судьбы, нежданно-негаданно для нашей беспечности, Бог нас через кого-то окликает, касается ума, сердца? Так или иначе, встреча происходит. А что всё-таки чаще бывает в начале? Скорее всего, ни то и не другое, но и то, и другое, и всё одновременно. Только вне времени. Втайне. Время загудит потом: этапы, ступени.
Прежде чем человеку откроется окружающий мир как неслучайный узор, продуманный, кем-то с любовью и мыслью вычерченный и расцвеченный; и прежде, чем он научится прислушиваться к голосу своей души, всматриваться в себя, рассуждать и в чём-то важном убеждаться – он встретит другого человека, знающего и любящего.
О! Как неоценимо ответственна эта встреча. Мать и отец – вселенная для ребёнка. Один молодой мужчина, очень серьёзный, до тридцати лет прошедший всякие суровые испытания, и горькие падения, и страшные опасности, осознанно и радостно собирался в монастырь. Я его спросил, давно ли он верует и что его побудило выбрать такой путь к Богу.
«Мне мамаша, – ответил он, – года три мне тогда было, показала крестик и сказала: это Господь. Я с тех пор не сомневаюсь. Вот так врезалось в ум, я и не забывал никогда, даже когда водку пил и людей обижал. А чтобы не мучиться, пил. А потом перестал, решил: буду с Богом».
Как же остро и нежно, наверное, были сказаны эти слова, что они, живым зёрнышком упав в самую тёплую глубину сердца, смогли там отлежаться, окрепнуть, возрасти и расправиться – и вдруг оттереть всю муть с души…
Над ребёнком склоняется мама, как над человеком зрелым, думающим, склоняется небо. Маленький человек ещё неба не понимает – что оно такое; ещё звёзд не видит, не различает их путей и сочетаний. Но в его маленьком небе горят свои солнца: лица родителей и других самых близких людей. И вот мама говорит малышу, что у него и у неё есть ещё Кто-то, Кого она тоже очень любит, и не меньше, чем своё дитя, и Кто над всеми людьми. И это же малышу говорит не кто-нибудь, а сама жизнь, то есть мама.
Андрей Платонов, русский писатель, написал рассказ «Ещё мама». Он – о расширяющейся любви и заботе взрослых о детях. Учительница обняла и начала успокаивать мальчика, который испугался чёрного быка с кровавыми глазами, подступившего к окну школы. Артём, так звали мальчишку, от страха закричал: «Мама!» Учительница схватила его и прижала к своей груди: «Не бойся!.. Сейчас я тебе мама!»
Стадо племенных быков погнали дальше, Артём успокоился и спросил у Аполлинарии Николаевны:
– А ещё у меня есть мамы?
– Есть, – ответила учительница. – Их много у тебя.
– А зачем много?
– А затем, чтоб тебя бык не забодал. Вся наша Родина – ещё мама тебе.
Был у меня такой период в моей священнической жизни, когда я года два подряд, а то и три (честное слово, точно не помню) ходил по пятницам к четырём часам, перед разбором детей по домам, в детский сад. Собирали детишек в зале, группы две или три, от подготовишек и ниже, и я рассказывал им сказки. Да, в основном это были сказки, причём трёх родов: прочитанные накануне или давно и сейчас пересказываемые, с выражением и всякой иллюстративной мимикой и жестикуляцией; во-вторых, придуманные мною дома, за письменным столом; и, наконец, сочинявшиеся прямо на месте. В голове, как правило, несколько образов и назидательная идея, и я начинаю плести из них сюжет.
Но чаще я пересказывал классику и хороших современников. Ещё немного рисовал с ними и просто рассказывал о природе, о мире взрослых людей. А однажды попытался даже адаптировать Книгу пророка Ионы. Слушали с раскрытыми ротиками; особенно запомнились мне их глазки, когда я описывал волну разбушевавшегося моря высотой «вон с тот пятиэтажный дом за окном», тёмно-зелёную, пенную, готовую проглотить кораблик и всех пассажиров вместе со спящим пророком Ионой.
Ну конечно, с пророком и с большим городом Ниневией, в котором было много детей, а также осликов и овечек, всё кончилось хорошо. Чтобы плохо – недопустимо. Дети должны жить во свете и радости. И вот помимо сказок, историй и всяких рукоделий, для закрепления нравоучения, которое содержалось в сказке, я с ними иногда беседовал. О чём? О самых главных вещах. Разумеется, с мыслью о душевной пользе. Например, о любви к родителям, воспитателям, друзьям, собачкам и кошкам, цветам и травкам, ко всему миру. Задавал вопросы, подсказывал ответы. Как-то речь коснулась будущего: вот мы вырастем, станем большими. Девочка одна, с огненно-рыжими кудрями, очень сообразительная и быстрая, вдруг сообщила:
– А у нас в подъезде бабушка умерла!
Я сочувственно закивал головой. И слышу, сбоку:
– А что эта – бабушка умерла?
– Как что? – отвечаю я машинально. – Наверное, время пришло, стала старенькая.
– А что умерла?
Я снова о том же. Но через минуту мне стало совершенно ясно (впрочем, я всегда об этом догадывался), что дети смерть воспринимают не так, как мы, то есть неискажённо. В принципе, они о ней не думают. В их душах царит настроение расцвета, пробуждения. Но если разговор всё же зайдёт о том, что для нас – кончина, то дети обнаруживают подлинное, не испорченное взрослыми чувство жизни.
Та самая, что всё спрашивала, что да как умерла, вдруг поворачивается к рыженькой и говорит:
– А ты тоже умрёшь?
Пауза длилась совсем недолго, но мы все притихли в ожидании ответа: заведующая, две воспитательницы и я. А рыженькая умница, которую переполняли чувства, так что она не могла их сразу и высказать, даже ручками всплеснула:
– Как же я умру – меня мама любит!
Мама для неё – любящая вселенная; мудрый, всемогущий и нежный мир. Вечный, так как времени впереди – не охватить взором и умом! Если она меня любит, то она меня не отпустит – бояться нечего!
Когда поймёт мыслящая душа (а ей понять – значит увидеть сердцем, поверить), что её действительно знает и любит Бог, тогда даже онемеет на миг от счастья. Потому что вечный Бог её никогда не забудет, не бросит, не отпустит. Как же я умру, когда меня Бог любит!
Четыре маленькие истории, которые вытекают одна из другой
Не плюй в колодец
«– Можно с вами не знакомиться? Вы не ослышались. Я не буду с вами знакомиться, понятно?
– ?
– Прошу вас, не ищите моего внимания. Это некрасиво. Вы от самого вокзала интересно вздыхаете, посматриваете в мою книгу, роняете всякие вещи. Я еду сдавать экзамены, и мне надо отключиться от всего, что этому мешает.
– Мне кажется, у вас мания…
– Самообожания, да? Несбывшегося желания? Пожалуйста, да что угодно! Смотрите в окно, там перспективы. Спасибо.
Я лёг на незастеленную скамью и повернулся к ней, мягко говоря, спиной».
Весь этот разговор мне передал Леонид К.: так он познакомился со своей будущей женой. Он ехал в Москву из родного Симферополя в 1975 году поступать в университет. В четырёхместном отсеке плацкартного вагона вместе оказались бабушка с внучкой, которые во время этой тирады раздражённого абитуриента находились где-то у бака с кипятком, Лёня и хрупкая городская девушка. Она тоже ехала в Москву, возвращалась домой после короткого отдыха в Крыму, и тоже сдавать вступительные.
В приёмной комиссии Лёня посмотрел краем глаза на особу, подошедшую к столику с заполненными, как и у него, бумагами, и… замер. Первым его желанием было стать невесомым и прозрачным. Он начал тихонечко отступать. Но оказалось поздно: их взгляды встретились.
– Так густо, – признаётся он, – я не краснел в жизни ни до, ни после. Стою пунцовый и про себя возмущаюсь самим собой: а что, собственно, произошло-то? Ну чего я так разволновался? И ей, я вижу, тоже неловко. Но, ещё раз взглянув на меня, она улыбнулась сочувственно. Как будто извиняясь, что всё время попадается мне под ноги и сбивает с пути.
И эта улыбка её во мне что-то произвела раньше, чем я осознал происшедшее, чем успел внутри себя эту ситуацию проговорить. А проговорил что-то пошлое:
– Это судьба?
Она подняла брови, сказала взглядом: «Не знаю». Но промолчала. Подала свои бумаги и документы, её о чём-то спрашивали, она отвечала. Я всё это время стоял в стороне. Потом они раскланялись с преподавателем, она щёлкнула своей сумкой и пошла, не обернувшись. Я догнал её, забежал вперёд, даже не представляя, чего хочу, и говорю антикварными словами:
– А вы меня более не удостоите взглядом?
Она в первое мгновение как будто прислушалась к моему вопросу, потом смех начал переполнять её, но она изо всех сил сдерживалась. Теперь у меня, как у неё когда-то в вагоне, нарисовался на лице вопрос. И тут она приветливо, не как я неделю назад, ответила:
– Вы не поверите, как интересно: мне дедушка часто повторяет, что жизнь – стечение совпадений. А я как раз вчера читала про картинки, помещённые в Невском альманахе, к Евгению Онегину. Вы не читали? Поищите.
Я что-то смутно припоминал. А она кивнула мне и пошла к выходу. Я сдал документы и пулей побежал за ней. Догнал в метро, вбежал в вагон, и за мной захлопнулись двери. И вот так всю жизнь её догоняю. И в учёбе, и диссертацию она раньше защитила, и в Церковь раньше меня пришла. А я дышу ей в затылок.
– А что там у Пушкина про картинки? – спросил теперь я у Лёни, пытаясь вспомнить.
– Ой! Да там прямо не в бровь, а в глаз: стоит Пушкин с Евгением Онегиным на набережной Екатерининского канала, и оба они, герой и автор, опёрлись о гранитный парапет. И хотя Петропавловская крепость от того места далеко, но никогда нельзя забывать, где она вообще находится. По крайней мере, не стоит демонстративно пренебрегать грозной крепостью, поворачиваясь к ней спиной в любой части Петербурга. Пусть она и не видна сейчас, пусть за домами или шпиль её в тумане – превозноситься не следует. И два мосьё, Александр Сергеич и Евгений, – отчего и засмеялась Аня – стоят и беседуют, «не удостоивая взглядом твердыню власти роковой». И вот Пушкин «к крепости стал гордо задом» и сам себя предупреждает: «Не плюй в колодец, милый мой».
Фотография святого
Написал о знакомстве в Крыму. О счастливой супружеской жизни, начавшейся странно, с неприятия. Но продолжившейся так хорошо, так хорошо. Эти замечательные люди, умные, красивые и… не найдёшь никаких иных слов, кроме избитых: созданные друг для друга – Леонид Константинович и Анна Николаевна – ныне здравствуют, у них внуки, они известные преподаватели, учёные.
Одно воспоминание тянет за собой другое, подобное. Хотя бы одна деталь в том, о чём думаешь, перекликнулась с похожей в совсем другой ситуации, но первая тогда властно привлечёт новую. Чудесный полуостров Крым, поезда, море, рождение семьи. Обыкновенная и всегда новая история. Та, что сейчас развернулась в памяти, меня всегда волновала и удивляла. Но в ней – никаких приключений. А только что-то внутреннее, радостное и важное. Впрочем, как взглянуть: чудесное в ней есть, есть. Тем более эта история лично для меня важна и волнительна, что я эту ещё одну счастливую московскую семью, овеянную Крымом, и Москвой моего детства, а их молодости, дом Алексея Андреевича и Ольги Григорьевны, знаю много лет. А уникальная фотография, сделанная молоденькой Олей в 1958 году, у меня всегда перед глазами. Фото уникальное в первую очередь своей историей, но и фигурой, конечно, запечатлённой на плёнке.
Теперь по порядку. Алексей Андреевич после учёбы в институте поступил инженером на работу в Метро-гипротранс. В комнате, где располагалось его рабочее место, спустя какое-то время появилась новая сотрудница, самая юная в коллективе. Молодые люди, Алексей и Ольга, обратили друг на друга внимание. Алексей Андреевич внимательно и целомудренно стал ухаживать за Олей. Они дружили, встречались, были женихом и невестой три года, при этом отношения между ними, как и положено было среди правильно воспитанных людей, всегда оставались сдержанными, чистыми.
Работая в метростроевской организации, Оля и Алексей пользовались бесплатными билетами на поезд (на одну-две, наверное, поездки в год). Олина мама очень любила море и уговорила дочь поехать в Крым. Им посоветовали Алушту, местечко тихое. Туда, в Крым, в июле 1958 года к Оле с мамой, уже отдыхавшим в Алуште несколько дней, приехал жених. Выезжая из Москвы, выслал телеграмму.
В тот год в середине июля погода в Крыму стояла нежаркая, небо часто заволакивалось облаками, дул ветер с моря. Но для прогулок всё равно хорошо. Если стоять лицом к морю, то от Алушты направо идёт дорога к Черновским камням, несколько километров вдоль побережья. По ней часто гуляли наши москвичи. Ольга Григорьевна носила с собой фотоаппарат «Смена-2».
И вот однажды случилось нечто загадочное, непонятое сразу, но оставившее след на всю жизнь. Навстречу молодым людям шёл величественный старик в льняном белом одеянии, в белой шапочке, с седой бородой и в чёрных очках. Он опирался на руку худенькой невысокой женщины. У Оли сразу сработал инстинкт фотографа:
– Давай снимем, – сказала она, взявшись за аппарат.
– Что ты! Нельзя, не надо. Вот так в лицо нехорошо, – отговорил её Алексей Андреевич.
Человек прошёл мимо притихшей пары. «Я, – вспоминает Ольга Григорьевна, – была тогда ещё некрещёная. Но семья моя пострадала от сталинского режима. И глубокое уважение, даже благоговение к вере у нас хранилось. Тогда, в конце 50-х годов, нечасто можно было увидеть священнослужителей в рясах. И мы даже подумали, что это какой-то иностранец. Когда он проходил… я не могу передать, что я почувствовала: у меня мурашки пробежали по коже. Что-то невыразимо могучее и духовное исходило от его стати, от всего его облика. А шёл человек пожилой, в тёмных очках. Позже-то мы узнали, что он почти совсем ослеп к тому времени. Он поравнялся с нами, и вот уже уходит, а впереди его ждёт автомобиль. Там на снимке видно: стоит и ждёт его “Победа”. А я всё-таки не удержалась, быстро настроила аппарат и щёлкнула. И самое удивительное – дальше: получился отчётливый снимок. А ведь это был последний кадр в плёнке. Последние обычно выходили или чёрными, или совсем пустыми. А этот не засветился. Плёнку потом мы свернули рулончиком и не выбросили, а положили в мешочек и забыли о ней лет на тридцать пять».
Алексей Андреевич и Ольга Григорьевна поженились в 1960 году, в апреле, на Красную горку.
Пришли девяностые годы. Алексей Андреевич, поступивший когда-то на работу простым инженером, стал генеральным директором своей организации. И Ольга Григорьевна отдала Мосметрогипротрансу всю свою рабочую жизнь. А когда наступила свобода для души, когда начала возрождаться Церковь, вся семья сочувственно откликнулась на эти перемены в обществе. Появились книги, можно было заняться своим духовным образованием. И Ольга Григорьевна прочитала про архиепископа Симферопольского и Крымского Луку (Войно-Ясенецкого). И фотографии в книге внимательно рассмотрела. И дочери своей, с замиранием сердца, уверенно говорит:
– Катя, я видела этого человека.
Когда же в книге дочитала до того места, где сказано, что любимой дорогой для прогулок святителя был путь от Алушты к Черновским камням, сомнений не могло и остаться. Порылись в шкафу, и нашли мешочек с плёнкой, и проявили… Все кадры оказались засвеченными, кроме последнего, на котором священноисповедник Лука уходит величественно, мощно, тихо, согнувшись от праведных трудов, вдаль…
В 2010 году супруги отметили золотую свадьбу. Там где-то, в начале их пути, как таинственное благословение, светит им и становится с годами всё теплее и дороже встреча со святым человеком.
Архиепископ Лука причислен к лику святых. Подумать, сколько тысяч жизней спасли его руки, руки выдающегося и универсального хирурга, умевшего делать операции в самых невероятных условиях. А сколько десятков тысяч жизней спасли его труды учёного-медика, автора «Очерков гнойной хирургии», за которые он получил высшую премию в СССР. Он, прошедший через сталинские тюрьмы и пытки конвейером (следователи сменяются – подсудимому не дают спать и есть), и ссылки, и травлю. А сколько сотен тысяч жизней спасала и спасает его проповедь Слова Божьего, его молитва, вся его цельная, могучая, святая жизнь! Такой чистый и сильный человек только мимо пройдёт – и простого встречного проберёт до сердца. Почему, каким образом? Трудно объяснить дремлющей душе.
Удар
Приезжал человек к нам в храм на службу. Исповедовался несколько раз. Однажды попросил меня об отдельном разговоре.
– Вы кому-нибудь расскажите о моём опыте. Семейной жизни. Я не просто разрешаю, а даже и хотел бы.
– Кому рассказать? Дело всё-таки деликатное.
– А чтобы попалось на глаза такому же, как я. Как я был когда-то. Влюбчивому. Только имени моего не упоминайте. Я не скрыть чего-то там хочу. Просто из-за родственников жены. И моих тоже. Их трогать не нужно, ворошить. Нам иногда кажется, что то, что мы переживаем, вот в таких вот именно тонкостях и особенностях, не испытывал никто и никогда. И в общем, это так и есть, потому что меня второго нет. А с другой стороны, мы все родные, у всех сердце, и совесть у всех есть, и душевные боли. Короче, у меня сердце болит. Поэтому хочу вам рассказать подробнее, с начала.
Я с женой в какой-то период нашего совместного существования (вы, может быть, предполагали это, когда меня слушали на Казанскую) как-то неладно стал жить. У нас вообще брак ранний, ей было восемнадцать, мне двадцать. Любовь такая бурная – кино. Однажды под забором прокопал лаз, чтобы незаметно цветы на террасе поставить, на рассвете. У неё на даче. Ухаживал лихачески, с подвигами. Поженились. Я перевёлся на вечерний, ну и работать устроился. Дочка родилась.
Очень мечтал о богатстве, из кожи лез. Потом как-то пошёл, пошёл по карьере. Ничего, небедно стали жить.
Недвижимость прикупал, вертелся, но не об этом сейчас… Дочь выросла, непослушная стала. Короче, к сороковнику дело, а мне моя семья о-го-го как в тягость. Познакомился с женщиной.
– Понятно!
– Ну да-да. Всё как всегда, и у нас ничего оригинального. Я уверял себя, что вот такая душевная, отзывчивая мне и нужна была с самого начала. Встречался с ней год, а жена, конечно, чувствовала. Дома я придирался ко всему, всё меня раздражало и в ней, и во всякой мелочи. Потом пропадал по неделям и не звонил. И тут вдруг дочь исчезла на целых три дня. А появилась с хорошего похмелья. Говорит вызывающе: мне восемнадцать, ухожу к парню. Я ей в ответ нравоучение, а она мне матом. И козлом меня назвала блудливым. Кричит: «Вот скажи, скажи маме, что у тебя нет бабы! Соври, давай!» А я в запале и скажи:
– Ну есть женщина, и что?
Дочь смеётся, а жена устало махнула рукой и ушла на кухню.
Потом Юля, дочка, чего-то прихватила, какие-то шмотки, и убежала. Я через час захожу к жене, а она сидит спокойно. Нет ни сцен, ничего, молчит. Ещё через неделю я, всё обсудив с моей подругой, сообщил жене, что решил по-честному уйти, что я её больше не люблю.
– Спасибо тебе, Катя, за прожитые годы, но общего у нас ничего нет, даже поговорить как будто не о чем.
Она меня вроде так мирно отпустила, даже собраться помогла. И тоже говорит:
– И тебе спасибо.
Вы не поверите, мы на прощание обнялись. И я ушёл. Как будто через себя ушёл.
Прошло месяца два, а может, меньше, точно не помню. Звонит Юля, дочь:
– Пап, – говорит, как ни в чём не бывало, – знаешь, с мамой чё-то не то. Ездит куда-то, наверно, в больницу. Похудела.
– Переживает, – отвечаю. – Время залечит, так бывает.
– Да? А мне кажется, тут серьёзно.
– Слушай, это не она тебя подослала?
Я отключил телефон с досадой. Разозлился, даже хотел набрать Юльку и наговорить ей. Что как же это она на отца матом кричала, а тут ни здрасте, ни прости. Но спустя минуту остыл. И места себе не нахожу.
На следующий день поехал. Ключи от дома я сохранил, вошёл – никого нет. И всё как прежде, даже беретка моя, которую я не забрал, на полке, где и была. И кружка моя чайная на том же месте, на столе. Она пришла, и мне показалось, что не очень удивилась, ну или вида не подала.
– Юля звонила, беспокоится о тебе. Чего там у тебя стряслось?
А она так безучастно, будто не о ней:
– Рак.
Я посмотрел на неё и понял, что да. И глупо спрашиваю:
– Как же это?
– Не знаю, – отвечает мне покорно, – очень вдруг заболело. Начала проверяться, и вот сейчас поставили.
– И что, операцию теперь?
Она пожала плечами:
– Говорят, попробуйте. Деньги всё-таки. Она уже большая, опухоль.
Мне всё так противно стало, тошно. В моей тогдашней жизни. Я помню, как-то растерянно прошёлся по комнатам, чего-то переложил. Потом говорю ей:
– Я сейчас.
Приехал к своей гражданской подруге, вещички собрал, написал записку коротенькую, что жена больна, и вернулся домой.
Операцию сделали через неделю. Когда я в больницу ездил, мне казалось, как я сейчас уже припоминаю, что я никуда и не уходил. Просто видел сон. Даже сейчас кажется, что не уходил. А ведь дело успел сделать, удар-то я нанёс, и какой!.. Потом её выписали, и вроде надежда появилась.
С работы я нигде не задерживался, потому что колоть её надо было по часам, утром и вечером. Из-за пробок машину сменил на метро: опаздывать нельзя было. Иду к дому, это всегда без пятнадцати семь, а она в окне стоит (у нас квартира на седьмом этаже) или, если я минуты на три-четыре раньше, то нарочно замедляю шаг, а она подходит, отодвигает занавеску и смотрит, как я иду. Зима пришла, я стал её видеть ещё отчётливей: силуэт её в окне. Потом она перестала вставать. Я помню, она мне неожиданно сказала, незадолго (я подвожу столик с инъекцией, спиртом, ну там всё, что нужно):
– Ты знаешь, я почему-то всё думаю, что ты однажды придёшь, что-нибудь узнаешь новое – и сделаешь.
– Катенька, я делаю. Всё, что нужно, мы делаем.
– Нет. Что-нибудь такое, что я поправлюсь. Конечно, глупо. Начинаю думать и сама удивляюсь, что так могу забываться. Но когда тебя жду, то всё думаю, что ты обязательно что-то сумеешь.
Через неделю, да, или… Дней через восемь она уснула, у меня на руках.
Михаил посмотрел на меня твёрдо, прямо в глаза. Я ничего лучшего не нашёл, чем спросить:
– Давно она скончалась?
– Три года было в апреле, двадцать шестого. Знаете, как вчера.
– А дочь?
– А с дочерью нас это примирило. Хотя мы и не ссорились серьёзно. Как будто оба виноваты. Она сразу присмирела, смягчилась. Но она-то что? Она ни в чём не виновата. Это совершенно ясно. Всё зажёг я. Мы отвечаем за детей, дети отвечают нам. Тут ещё недельку назад объявилась моя старая подруга, та самая.
– И что? – в моём голосе послышалась, наверное, тревога.
– Да что вы! Ничего. Я ласково её попросил больше не звонить. Два раза предавать…
Как красиво…
Я теперь вспоминаю, в связи с записанным выше, другой разговор. Многодетный отец, верный и любящий супруг, ударял себя слегка по голове – не картинно – и искренне повторял:
– До сорока пяти дожил, балбес, и только недавно начал понимать, что вся задача в браке – не домогаться всё время какого-то удовольствия, наслаждения, кайфа или хоть скромного утешения, удовлетворения амбиций, хоть в детях. Или, как многие рассуждают: «Да я уж ничего не требую, только оставьте меня в покое». Нет! Вся задача – другого человека сделать счастливым!
Да… Во как! Прочитает иной скептик или насмешник такую пафосную декларацию и заметит с иронией: «Боже мой! Как же он додумался до этого?»
А вот если раненым сердцем, побаливающей, обнажённой, как голый нерв, совестью взглянуть на свои реакции, всплески, да даже на свои тяжёлые, как топор в воздухе, молчания… Тогда? Тогда один вывод: да мы просто несчастны. Потому что все поголовно живут для себя.
Не все, не все! Счастливых много. По-настоящему счастливых. Мудро счастливых. Хорошо, когда положено хорошее начало. Когда чистое и глубокое чувство в основе будущего. Но вино в Кане Галилейской – ты же хорошее вино сберёг доселе – ясно показывает, что любовь, как доброе вино, не растраченное до срока, в незрелости, с годами становится сильнее. Хранить вечно!
Самый красивый брак, какой мне довелось… Неужели? Прикинуть хорошенько, так все браки – самые. И не самая красивая пара, которую мне довелось венчать… А просто одно из самых необыкновенных венчаний, которое мне дал Бог совершить, было вот какое. Прошло с тех пор немало лет. Шло лето, 1996 или 1997 год. Точнее даже, и это очень важное уточнение, был последний разрешённый для венчания день перед началом Успенского поста. Пора – жаркая, и в целом время было такое, что я целыми днями бегал по строительным и хозяйственным делам. Я служил тогда в посёлке санатория имени Герцена, мы восстанавливали Пантелеимоновский храм рядом с замком князей Щербатовых, ставшим санаторием. И ещё рядом располагался Центр реабилитации – больница, и ещё Кубинский аэродром – лётчики, асы. А я всё время отъезжал куда-то: то на рынки, то на завод, который нам помогал, то к военным, которые давали нам технику и солдат. За Минским шоссе, подальше, служили ещё десантники и танкисты. Одним словом, на приходе днём застать меня было трудно.
И вот приезжает в храм молодой человек. Походил, посмотрел на всех: все носятся вдохновенно, чего-то перетаскивают, кричат. Один только терпеливо сидит на месте. Это был Костя Завиралин, художник, иконописец. Человек моментами резковатый, нелакированный, зато творчески могучий. Или вообще-то вполне обыкновенный человек, просто художник. Сидит он почти неподвижно, но не мёртво: от таких сидящих, как будто ветром, сквозит невидимой энергией. Молодой человек к нему с вопросом:
– А венчаться у вас в храме можно?
– Нужно, – отвечает Костя сурово, не отрывая глаз от большой, в полтора человеческих роста, бетонной раковины, в которую он щипчиками терпеливо вкладывает кусочки мозаики (эта раковина вскоре вошла иконой Пресвятой Богородицы между окнами в алтаре, на горнее место).
– А как?
– Есть на ком?
Молодой человек растерялся:
– Естественно.
– Где она?
Костя всё выкладывает разноцветные камешки и на него не смотрит.
– То есть? Ну здесь, рядом.
Тут Костя как будто проснулся, поднялся – словно раскладушка разложилась во всю длину – со своей низенькой табуреточки, повернулся к нему и оказался головы на две его выше:
– Тогда пошли в храм. Сейчас отца Павла найдём, и повенчает вас. Вы того, как его, расписаны, нет?
– Да.
– Так где она?
– Кто?
– Да жена твоя, кто!
– Её здесь нет, рядом нет. Я приехал в принципе выяснить, можно или нельзя. Например, на выходные? Нам бы очень хотелось на выходные. У меня весной командировка была, по службе, и перед ней мы расписались на скорую руку. Я ей железно обещал: если вернусь живой, поженимся красиво, со свадьбой, по всем правилам, с батюшкой. Она сейчас платье в Москве покупает.
Костя выслушал его с некоторым нетерпением:
– Так ты офицер?
– Так точно.
– Десантник? Давай-ка сейчас, быстрым рейдом, разыскал и привёз. Хочешь, из-под земли достань. Учти, у тебя впереди часов восемь, даже чуть меньше. Потому что сегодня последний день, когда венчать можно. Ты понял?
– Так точно. И сюда приехать до двадцати трёх? Форма одежды – парадная, – добавил он себе вполголоса. – Жена в свадебном платье.
Костя даже с некоторой едва уловимой тенью ласки взглянул на него как на способного ученика, которому не надо повторять два раза.
А надо ещё учесть, что в те годы мы мобильными телефонами не пользовались. Это сейчас легко: «Оль, Лен, ты где?» – «Я где? Платье выбираю». А тогда? И вот наш офицер мобилизует друзей-однополчан, и они стремительно и тотально прочёсывают свадебные салоны-магазины Москвы. Майор этот, Сергей, потом рассказал, как он летел в Москву – и пробок тогда почти не было, так, чепуха, в сравнении с теперешними, – и на молодую жену напал не какой-нибудь друг его, а он сам. Она как раз платье меряет, говорит, где убрать, что подшить. Он ей: «Привет! Сколько стоит? Дома подошьём. Не снимай, времени нет!» Расплачивается, выносит её на руках к машине прямо в платье, бережно опускает на сиденье, дорогой объясняет, что у них как раз десять минут добежать до канадской границы.
А мы в церкви, часов с восьми или с девяти вечера, ждём. Только недавно, месяца три назад, сняли внутренний второй этаж – перекрытие, и церковь у нас стала высокая, красивая. Заложили дыры от швеллеров в стенах, оштукатурили и повесили четырехъярусное паникадило. И хотя она и нерасписанная тогда стояла, и иконы по стенам маленькие, и иконостаса настоящего тоже не было, но для нас, помнящих недавнюю тесноту и сумрачность, – красота!
Ждём. Все устали за день. Через час я отпустил и Костю, потом и двух девушек, собиравшихся петь. Оставил одного Шурика, бывшего афганца. Он тоже весь день вкалывал и сейчас сидел на лавочке и дремал. Рядом с ним лежал Апостол с закладкой. Отрывок из послания апостола Павла к христианам юной Церкви города Ефеса читается во время совершения Таинства Брака, на венчании. Там о том, чтобы жена слушалась мужа, и я в Слове к молодым после венчания часто уточняю: но не любого мужа, и не всё равно какая жена, а такого, который для своей жены как Христос для Церкви. И мудрый, и заботливый, и любящий до самоотвержения. Такого слушаться – счастье. И такому мужу любить свою жену, свою половину, неотторжимую свою часть, естественно и радостно. Поэтому и говорит апостол: никто никогда не имеет ненависти к своей плоти (если с головой всё в порядке), но питает и греет её, как и Господь Церковь! И вот поэтому каждый нормальный муж любит свою жену как самого себя, а рассудительная и чуткая жена боится разрушить это нежное равновесие, этот сокровенный мир семьи (у апостола сказано коротко: да боится своего мужа).
Ждём. Время критическое: почти одиннадцать. На подшив и ушив платья в домашних условиях ушло часа полтора-два, как выяснилось потом. Небыстро собирались и сослуживцы жениха. За окнами ночь, вся церковь пылает огнями: и паникадило, и все светильники по стенам. Я хожу, гашу догорающие свечи, ставлю новые. Подхожу в который раз к окну. Вот они наконец, сверкнули по деревьям лучи от фар. Сколько же их, целая армия? Даже как-то разволновался. Вышел в облачении ко входу в храм, словно на встрече архиерея. И тут только понимаю, что Шурик мой как пришёл на венчание от дневных трудов, так и не успел сбегать к себе, чтобы немного приодеться. Стоит в разбитых сапогах и в продранном ватнике, из ворота которого проглядывает тельняшка. Это его, конечно, роднит с десантниками, но… Шурик!
– Сгонять?
– Да поздно.
Они входят. Молодые офицеры в голубых беретах, которые снимают на пороге, в блестящих сапогах, в кителях с широкими отворотами и в ярких, как морские волны с гребнями белой пены, тельняшках. И в серебряных аксельбантах, и с боевыми орденами на груди. Это я сейчас так описываю. А на самом деле первой из всех я увидел невесту, и не платье её восхитительное, и не чудные локоны, а глаза, в которых встретилось и засияло всё. Исполнение всего, о чём мечтало сердце. В них горел свет, из них лучилось тепло; она подняла глаза к нашему сияющему паникадилу и тихо сказала: «Как красиво…» Словами я затрудняюсь рассказать о том, что я отметил, вернее, что почувствовал в те минуты. Как хорошо, что от этого венчания не сохранилось ни видеосъёмки, ни фотографий. Посмотрел бы я или любой другой участник того полуночного венчания глянцевый мгновенный светослепок – и убил бы в себе светлую память о том ночном дне, что теперь хранится в душе. У каждого о том дне – своя память. И при этом – наша общая.
Венчаю. Спрашиваю об их решениях, благих и непринуждённых, соединить свои жизни в одно могучее согласное течение. Вот уже венцы над ними вознеслись, парят в воздухе… Шурик читает отрывок из апостола, а в конце как закричит истошно и протяжно, от усталости, наверно: «А жена да боится своего му-у-жа!..» Смотрю, никто глазом не моргнул, не улыбнулся. Ну и хорошо. Потому что царила атмосфера общего доверия всему, что здесь сейчас совершается. Верное такое чувство, что совершается нечто важнейшее в жизни, а жизнь дана, между прочим, для осмысления того, что в ней совершилось. В процессе не всегда ясно, а вот улеглось – и осознал: было счастье. И текущие переживания и страхи понимаются спустя время совсем по-другому. И пожалеешь ещё – это я о себе говорю, – что смотрел вроде бы даже пристально, а лучших минут своих в упор не видел.
Невеста есть?
Получил недавно письмо по электронной почте: некто Андрей Васильевич случайно зашёл на наш сайт и спрашивает, не работал ли я в Алжире в конце 70-х годов XX века. Ответил, что да, работал. У нас завязалась переписка, я его тоже вспомнил. Он был молодым специалистом по внешней торговле, а я – переводчиком; оба приписаны были к Эль-Хаджарскому металлургическому комбинату, неподалёку от города Аннаба. Комбинат строил Советский Союз, а часть цехов и отдельных производств – Франция. А.В. приходилось по службе часто летать в столицу, в Алжир. И мне тоже, но реже. Встречались в полётах, разговаривали о том о сём. Вот мы в Афганистан ввели ограниченный контингент, и отношение арабов к нам явно изменилось. Вражды не было, но исчезла симпатия, тепло. И мы переживали. Или американцы призвали весь мир бойкотировать Олимпиаду в Москве, и мы это обсуждали. Потом, спустя месяцы, умер Высоцкий. И эта новая (да ещё какая!) тема для разговоров вытеснила прочие! Я лично помню 64-й или 65-й год: узкая комнатка в коммунальной квартире в центре Москвы, взрослые внимательно слушают чудо техники – магнитофон «Астра», вращающиеся бобины с тонкой плёнкой, и оттуда необычный, хриплый голос артиста с Таганки: «Возле города Пекина ходят-бродят хунвейбины…»
Но обсуждали и переживали мы с А.В. сдержанно, с инстинктивной оглядкой на вездесущие уши, да и друг на друга – это свойство воспитала в нас «семья и школа», то есть страна.
А.В. спросил, не припомню ли я NN, секретаря партбюро. Он тоже часто летал из Аннабы в Алжир и в Оран, и обратно. «Да вроде был такой, – отвечаю я, – но мы с ним пересекались пару раз, не больше». Всегда неторопливый, замедленный; про него говорили ещё: вечно смурной. Да мало ли их, партработников, кэгэбистов, на нашем пути встречалось: лица малоподвижные, плакатные, словечка непродуманного не скажут. Хотя разные попадались: в институте у нас трудился один «свой парень», так тот ошарашивал бесстрашными вопросами. Ну и пусть их. Нам-то что? Они сидели всюду – государство бдело.
«А вот что, – отвечает мне А.В. – не в малой степени благодаря ему я задумался о жизни, и о душе, и о вере. Между прочим, первый отрывок из Евангелия, притчу евангельскую о нечистом духе, что вышел из человека и ходил по безводным местам, ища покоя, но не находя, я услышал от NN. Сойдя с самолёта, через два часа купил в книжной лавке в Алжире Новый Завет на французском и начал эту притчу искать, но найти долго не мог и, пока искал, успел прочитать от Матфея и от Марка. Проглядел её, не заметил в первом Евангелии, Матфея.
Однако я его, товарища NN, – пишет А.В. – так и не перестал опасаться до конца нашего знакомства, и он это чувствовал, но не обращал внимания и в разговоре позволял себе некоторую свободу. И всё же, попривыкнув и включив дурака – после его очередного “озадачивающего” замечания, – я осмелился спросить: “NN, вы как партийный руководитель, по должности обязаны быть таким эрудированным?” А он мне: “Ты, наверное, хочешь сказать: или вы меня на прочность проверяете?” Потом сделал паузу, посмотрел на меня грустно и устало, и говорит: “Расслабься, Андрюш, я всего-навсего бюрократ. Отец семейства. Когда-то, после института – учитель истории. А в юности… Впрочем, кто в юности не писал стихов, не играл на гитаре девушкам. Во мне романтизм никак не пройдёт. Ха-ха”».
Как обычно, – вспоминает А.В., – мы поднимались по скрипучему трапу, занимали места, наш толстый дребезжащий, гоняемый в хвост и в гриву боинг разгонялся и отрывался от земли прямо над полоской прибрежного песка, набирал высоту над морем, делал над ним крутой вираж и брал курс на столицу. NN неспешно отстёгивался, доставал пачку хороших сигарет, мне предлагал – тогда разрешалось курить в салоне – и говорил что-нибудь этакое. Например:
– Невеста-то есть?
– Есть.
– Уверен?
– В каком смысле? – переспрашивал я со страхом: может, ему по его каналам какие-то сведения поступили. – Ну как вам сказать, я в ней был уверен. А что?
– Ничего. Вера – дело хорошее. Вот ты как узнал, что буква «А» – это буква «А»? Две палочки, между ними третья. Что это именно «А», а не «Б»?
– Не помню. Может, мама сказала или бабушка.
– И ты поверил?
– Конечно.
– Вот видишь: всё на вере, на доверии, как на фундаменте. Вот невеста твоя далеко, а ты веришь, что она тебя не забыла. И правильно делаешь. А в это самое время…
– Вы что-то знаете? – не вытерпел я.
– Ну как же мне не знать! У меня работа такая.
– Тогда скажите прямо, что случилось. Что вы знаете?
– Мне известно, из весьма авторитетных источников, что без взаимного доверия семейного счастья не достичь. А семья – это дети, продолжение жизни. Видишь?
– Что?
– Жизнь начинается с доверия. Ты это запомни.
– А что «в это самое время»? Вы не договорили.
– Так ты мне не дал. В это самое время верит и она, что ты не забыл её.
– Откуда вы знаете?
– Верю. Страшная сила – вера. Верой подвиги совершаются. И открытия. Вера, как в древних книгах сказано, побеждает царства, угашает пожары, изгоняет захватчиков, преодолевает болезни. Вот вы почему друг другу доверяете? Потому что любите. Любовь и доверие идут нога в ногу.
Прошли годы, я теперь вижу, – пишет А.В., – что он мне доходчиво и вольно, не уличишь в пропаганде, пересказывал Новый Завет.
Или в другой раз – тема, как всегда, неожиданная.
– Представь себе, – начинает NN, – роскошный праздник, столы ломятся от жратвы, а выпивка… фантастика. – NN затягивается и с наслаждением вбирает в себя голубой дым и при этом посматривает на меня улыбающимися глазами. – Мягко играет музыка, дамы изящные, милые и благоухают такими тонкими духами, что голова кружится от влюблённости во всех сразу. Но если не нравятся духи и весь светский базар, не надо. Пусть будут друзья, самые дорогие, доверенные. Задушевная беседа. И вот тебе говорят, конфиденциально и совершенно точно, что праздник закончится в одиннадцать вечера, а в половине двенадцатого тебя расстреляют. А? Тебе каково? Кусок полезет в рот?
– Вряд ли, – соглашаюсь я.
– То-то! А ведь у всех лезет, и без проблем!
– ?
– Ну как же: какая разница, через три часа или через тридцать три года, если конец один: ешь, пей, веселись, всё равно умрёшь.
– Но если не напоминать… Жизнь течёт своим чередом, зачем её отравлять?
– А почему же отравлять? Может быть, этот праздник говорит о большем, чем еда на столе, ароматы и музыка. Может быть, это знаки, символы.
– Какие символы?
– Хорошие. «Остров сокровищ» читал?
– Да, кажется, в детстве.
– Написал Стивенсон. Он ещё был поэтом. Вот послушай, я про себя часто повторяю, когда смотрю на тихое море на рассвете или когда медленно еду по горному шоссе в Константину, после дождя. А вокруг такая густая свежесть, так всё зелено, буйно:
- Я говорю гадалке: «Что-то никак не пойму,
- Раз всем помирать придётся и вообще пропадать всему —
- Зачем этот мир прекрасен и как праздничный стол накрыт?»
- «Легко загадки загадывать», – гадалка мне говорит.
Жизнь, Андрюш, это праздник, который всегда с тобой. Никто нас не расстреляет, никто не уничтожит, потому что это невозможно.
Он произнёс последние слова еле слышно, но так уверенно и спокойно, – пишет А.В., – что я всей душой поверил ему в ту минуту. Не невозможности расстрела, но в невозможность конца.
Мы замолчали. NN смотрел в иллюминатор. И когда снова заговорил, то не повернул головы. Так и обращался к редкой, в просветах, пелене облаков и к Атласскому хребту вдали. Я вытянул шею между ним и передним креслом, чтобы его расслышать.
– А вот убийца Столыпина Дмитрий Богров после объявления ему смертного приговора, который приводился в исполнение через несколько часов, на вопрос о его последнем желании ответил, что заказывает обед из ресторана. Из какого-то хорошего киевского ресторана. Накануне покушения на Петра Аркадьевича в театре, он обедал с Троцким. Троцкий бесследно исчез. Не из того ли самого ресторана заказан был обед? Богров, можно предположить, оставался во время допросов и приговора во фраке. Взяли его сразу после выстрелов в зале, он направлялся по проходу к выходу. И вот он, во фраке, в уже несвежей манишке, повязав салфетку, весь этот привезённый дымящийся обед обстоятельно и неспешно съел.
NN взглянул на меня, лицо его выражало боль.
– Он был псих?
– Я думаю, все медкомиссии во всём мире сделали бы по его поводу одно единодушное заключение: практически здоров. Если в меня или в тебя будет целиться из пистолета актёр с экрана, обедать он нам не помешает. Неприятно, разумеется, но, в конце концов, не более чем иллюзия, мираж. Жить по-настоящему можно только в уверенности, что не прервётся жизнь.
Наверное, я посмотрел на него так задумчиво, что он спохватился. Почувствовал, что вещает уже не совсем коммунистом. И хотя он меня не опасался, но всё-таки попытался поправиться.
– У классика, – улыбнулся NN. – «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире // Мой прах переживёт и тленья убежит…»
Фу, – признался А.В., – я про себя облегчённо вздохнул: материализм всё-таки не рухнул. Но сердце моё снова проснулось. Как всегда просыпалось, в этих воздушных беседах».
Отвечая на очередную корреспонденцию А.В., я поинтересовался: а в связи с чем его попутчик поведал ему когда-то притчу о нечистом духе?
«Помню, – написал А.В., – в один из перелётов NN выглядел совсем утомлённым, выжатым. Я решил из вежливости и понимания молчать всю дорогу. Мой спутник действительно полчаса подремал. Потом как будто очнулся. Рейс длился недолго, и нам предлагали только леденцы и воду. NN спросил газировки, выпил, крякнул, взглянул на часы и сказал:
– Знаешь, Андрей, человека иногда мучают мысли.
– Мысли?
– Мысли, образы, тёмные желания. Кому-то кажется, что он разлюбил жену и другая женщина для него – единственная отрада и счастье. Но в доме дети, вокруг родные и друзья, работа, положение в обществе (в советское время разводы не приветствовались в эшелонах власти. – П.К.) и человек страдает. То он вдруг решает всё разрушить и уйти, но вслед за безумной решимостью чувство долга и совесть берут верх, и, ложась спать, в ночи, он даёт себе слово гнать, гнать в шею сладкий соблазн. Выгнать нечистого духа и вымести след из души. А толку? Не стало бы ещё в семь раз хуже.
– Почему хуже? И кого, вы сказали, гнать и гнать? – спросил А.В. – Да-да, – пишет он мне, – это я хорошо помню, что переспросил у NN. Иначе бы не последовало притчи.
– Новый Завет, Nouveau Testament. Слышал? Про духа, это оттуда. Дух нечистый выходит из человека, даже не выходит – скорее его прогоняют. Решают бороться. Запретить всю дрянь, всё нечестное, грязное, растленное. Коррупцию, проституцию, а ещё пьянству бой. Вышибли, короче. И вот этот дух ходит, ища покоя, по безводным местам. Присосаться не к кому. Не из кого кровь пить. И говорит себе: пойду обратно. А приходит: всё чистенько, убрано, никого нет, прямо красота. Готово к заселению. И объявление висит: место свято, от всего нечистого освобождено! Наверное, нечистый дух аж присвистнул от удачи: идёт, берёт с собой семь таких, что были злее его, и вселяется с компанией. Нет, запрещать, давать себе обещания, принимать меры, бесконечно очищаться, как йоги, или взывать к чувству долга – всё может кончиться злейшей катастрофой.
– Что же делать? – Я весь был сочувствие и участие.
– Нельзя освободиться от тьмы: нужно наполниться светом. Промежуточных состояний не бывает. Я, например, понимаю: вот это плохо. Ну а что же хорошо? Мало закрыться для лжи – надо открыться правде. Живой, любимой правде.
– Законной жене?
NN рассмеялся, но глаза остались грустными, а может, просто усталыми.
– Неужели ты думаешь, я тебе о себе рассказываю?
– А разве нет? – простодушно ответил А.В.
– Ну думай. Тебе полезно. Жизнь у нас большая впереди, придётся ещё бороться. Только не держи квартиру пустой.
Вышла из отделения экипажа стюардесса, сообщила, что самолёт через несколько минут совершит посадку в столице Алжирской народной Джамахирии, городе Алжире».
Перемена одежд
Могучее дерево высится по ту сторону улицы, и тени от его ветвей чётко рисуются сейчас в глубине комнаты напротив окна, на бежевой стене. Одна ветвь похожа на протянутую руку с ладонью ложечкой. Солнце вот-вот исчезнет за краем саванны, и в эти минуты оно смотрит сразу во все окна отеля. Светлая стена вся покрыта сеткой прозрачных трещинок, и они незаметно передвигаются вверх. Вот тонкая ветвь берёт в свою ладонь круглые настенные часы, потом переходит на циферблат и держит некоторое время цифру 1Л.
Часы вроде старинные. Но я знаю, что в них батарейка. Сделаны под антикварные, с какого-то образца, а те оригинальные были, может быть, не настенными, но высокими напольными, с блестящим маятником, с хриплым шипением и боем. Отбивали торжественно часы. Вот они били семь раз, и тогда через залу проходил старый слуга, одетый во что-то странное, в подобие ливреи. Он подходил к высоким белым дверям, чуть приоткрывал одну половину и, не заглядывая в кабинет, тихо говорил:
– Ваше превосходительство, чай подан. Прикажете свечи поставить?
– Поставь, дружок. И Наталью Фёдоровну…
– Пригласил-с.
– Ну и я сейчас.
Я представляю себе это здесь, в душной Африке, и мной овладевает сложное чувство, какое-то глубокое волнение, которое просится стать видимым, услышанным, на вольный воздух, к людям. Петь я не умею, рисовать тоже, а слова… Они почему-то не находятся. Те, что приходят на ум, кажутся фальшивыми. Но мне представился – не мелодией, не картиной, а в какой-то дымке, и сразу сжал сердце – господский дом в Тульской губернии, дорога к нему занесена снегом, морозно, и небо на западе ярко-оранжевое. А тонкая полоска над лесом, в которую погружается неслепящее белое солнце, пепельно-серая, и в двух окнах невысокого дома с деревянными колоннами появился свет. И мне дышать становится трудно, потому что всё это: зима, и те люди, и их разговоры – касается меня.
Конечно не потому, что я видел картинки и читал о похожем. О таком вот тихом доме, в котором потрескивают рассыхающиеся полы, а за окнами ночью свистит ветер, а солнечным утром на дворе под мягкими валенками громко скрипит снег. Читал? Наверняка. Но это не вычитано. Я просто знаю, примерно как знают язык, не уча его, а возникнув в нём и им дыша, весь этот быт и уклад изнутри. И куда бы ни занесла судьба, я живу ещё и там. Меня греет и утешает этот ясный просторный январь, я вижу грустную барышню в кофте у камина, её отца в тёплом халате с трубкой, блестящий самоварчик, и кувшин со сливками на столе, и корзинку с сухарями, и блюдце с колотым сахаром. И ещё я знаю хозяйку дома, которая сейчас не с ними в гостиной, но лежит у себя наверху, в спальне. Дремлет и кротко угасает. Глядит долгим вечером сквозь разрисованное инеем стекло на синие сумерки, вспоминает молодость, переполнявшее её тогда, давно уже, предчувствие бесконечной жизни впереди и сладкое ожидание любви.
Я припоминаю всё же и книгу. Она стояла на нижней полке левого шкафа: тёмно-зелёный вытертый корешок с двумя потускневшими золотыми полосами. Мемуары некоего Неклюдова, дипломата царской России. Впрочем, я могу ошибаться. Неклюдов писал уже в эмиграции, и его мемуары я читал позже, в библиотеке, а те, что на нашей полке, – это более ранние записки, начала века. Кого-то другого. А вообще-то всё это неважно. Вовсе и совершенно не принципиально. Я, например, точно помню, как утром играло солнце в красных и жёлтых листьях 1 сентября (осень наступила рано), когда я счастливый спешил в неизвестный новый мир, в институт, в который я – голова кружилась от счастья! – поступил. А какой день недели тогда был, и сколько именно было времени на часах, и какие на ногах у меня ботинки… Ну какое это имеет сегодня значение!
В наших комнатках, в узеньком переулке моего родного большого города, очень далёкого в эту минуту, когда я смотрю на стрелку часов на стене, книги стояли плотными рядами в шкафах за стеклом и на открытых полках: нарядные и внушительные, в коже и позументах, но и совсем бедно одетые, истрёпанные. И те, которые бедные, в них, мне казалось, была одна только суть, одна сдержанная и серьёзная речь в простом платье. А ещё книги лежали одна на одной на подоконниках, и верхняя быстро покрывалась пылью, и бабушка удивлялась – недавно же протирала; и ещё они спали в высоких стопах под столом, перевязанные верёвками.
Однажды из тесной квартиры мы переехали с книгами, шкафами и кроватями в другую, просторнее, мне исполнилось тогда десять лет. Уехали на новую неуютную землю, на необжитую окраину. Собирались-собирались – и вдруг пасмурным утром два грузчика вынесли почти всю мебель, а мы сняли со стен фотографии и несколько картин и оставили светлые квадраты на обоях. Сняли ещё занавески с карнизов, и открылись оголённые окна. Как будто внезапно их выставили средь бела дня на позор. И пока мы ещё несколько дней заходили в дом, окна смотрели на нас, мне казалось, изумлённо и скорбно: неужели можно вот так жестоко всё бросить? Со всем родным порвать? Я чувствовал вину перед ними. И перед кафельной печкой, нас согревавшей в дождливую осень, и перед вытертым до белизны паркетом.
А многие книги, которые поблёскивали, рыжели и зеленели на своих неизменных местах на полках, разметало время, переезды, разрешения почитать без строгого учёта… Ах, какой маленькой на самом деле оказалась наша комната. Просто удивительно, сколько в ней всего могло помещаться! Словно она была, пока мы жили в ней, безграничная как память, которой ежедневно пользуются. И вот я пытаюсь извлечь из запечатлевшегося прошлого случаи и разговоры тех дней, когда мы спокойно жили здесь и никуда ещё не собирались. Мне лет пять, сейчас меня повезут на троллейбусе в детский сад, и я сижу в бархатном вельветовом пиджачке и покорно жду. В груди страх и тоска.
На стене прямоугольный ящичек с закруглёнными углами – радио. Женщина-диктор рассказывает о какой-то встрече партии и правителей, которая состоялась вчера в Кремле. «А где она?» – спрашиваю я. «Кто?» – не понимает бабушка. «Эта тётя». – «Какая тётя?» – «Которая сейчас говорит», – и я показываю на приёмник. «А! – бабушка смеётся. – Не знаю. Она тебе не тётя, это диктор. Наверно, на Новокузнецкой, или на Качалова, в звукозаписи. Она сейчас сидит в маленькой комнатке у микрофона и читает, что ей написали, а мы её сейчас слышим». – «Она так далеко?» – я не могу поверить. «Ну и что! – недоумевает бабушка. – Она говорит, и её слова плывут по особенному воздуху, и так вот она сейчас пришла к нам сюда и разговаривает, но видеть её нельзя, она невидима». – «А почему она к нам пришла?» – «Она ко всем приходит, она сейчас везде, и даже если кто-то сейчас слушает радио в детском саду, то и там он этого диктора услышит».
Больше я не расспрашивал. Я понял, воображение мне это как-то позволило: если она, эта диктор, которую я почему-то тоже боюсь, как воспитательницу в саду, разговаривает из своего дома везде и со всеми, и с теми прохожими, которые идут по улице, и с ребятами в школе, и со взрослыми в министерстве, куда мама ходит на работу, – только поверни круглую штучку, и она заговорит, – то это потому, что всюду плывёт этот особенный воздух, прозрачный и неслышный, и попадается в такие, как у нас, ящички на стене. Это понятно, хотя и не очень. Но почему во всех радио и всюду одна и та же диктор, этого объяснить я себе не мог. Увидеть и понять, как же это далёкое и близкое, долгое и мгновенное может уместиться всё сразу в одном ящичке, – ребёнку невозможно.
Из своего нынешнего опыта я могу предположить, что если мысль, облечённая в голос, находится одновременно везде, и ранним утром звучит на экваторе, в кают-компании корабля в Атлантическом океане, и она же, с обратной стороны планеты, в то же самое мгновение ночью звенит в палатке альпиниста в горах Тибета, то всё видимое для неё – и океанские волны, и снега в горах, и сумерки, и рассветы – только воздушный тающий рисунок, фон, перемена одежд. Эта мысль одновременно находится везде. Для нас она пространна, огромна и длительна. Но не для бесконечности, по отношению к которой она вполне обозрима и нетяжела, умещается крошкой в ладони. И вот получается, что вся долгая и неохватная жизнь вырастает из одного зёрнышка, как будто из одной точки. Но если взглянуть с большой высоты, то вся эта ширь и глубина в эту точку, в зерно, или в замысел – легко и стремительно сворачивается. А развёрнута она и подробно объяснена для того, чтобы мы в ней постепенно вырастали и её узнавали.
