Сказания о руде ирбинской
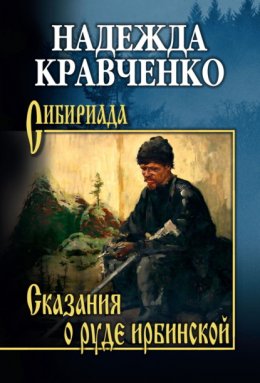
Сибириада
© Кравченко Н.А., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Предисловие
В некоторых событиях есть какая-то фатальная предопределённость. Вот и к написанию книги «Сказания о руде ирбинской», мне порою кажется, приложила руку сама судьба.
Во-первых, любовь к истории и литературе привил мне отец – Афанасий Еремеевич Матвеев. Имея всего два класса образования, он так знал русскую историю, что мог дать фору любому учителю-предметнику. Помню, как, читая тот или иной исторический роман, отец вдруг останавливался, досадливо крякал и начинал рассуждать о том, где и как автор, мягко говоря, уклонился от достоверного изложения тех или иных исторических событий. Зато понравившиеся отрывки произведения зачитывал вслух. Это были незабываемые домашние уроки.
Во-вторых, мои родители имели склонность к частой перемене мест. Трудно сказать, что было тому причиной. Во всяком случае, основная версия была такова: мой отец, заядлый охотник и рыбак, искал заповедные места, изобилующие дичью и рыбой. Но я склонна считать, что основной движущей силой была всё-таки беспокойная натура моей матери, Марии Михайловны Матвеевой. Мы так часто переезжали с места на место, что я по малолетству не запоминала названий тех поселений, куда нас заносило. Бывало даже, что на год мы дважды куда-нибудь переезжали. Но в перерывах между переездами наша семья неизменно возвращалась в Туву, в посёлок Хову-Аксы (Огнёвку по-русски), всё на ту же улицу Степную. Только дома менялись. Так что своей малой родиной я склонна считать именно это место.
Но однажды нас занесло на Ирбинский рудник. Здесь я проучилась целый учебный год в девятом классе. В семидесятые годы это был неприглядный посёлок. Сначала мы жили на берегу небольшой речки Ирбы, где стояли два ряда снятых с колёс железнодорожных вагонов. Спали на узлах, готовили на маленьком откидном столике на электрической плитке. Здесь же по очереди столовались. Время было летнее, поэтому мы, ребятня, пропадая на улице, особого дискомфорта не испытывали. С течением времени рудник развивался, вскоре здесь возвели два первых пятиэтажных дома. В одном из них дали квартиру и нам. Здесь мы зажили почти по-царски!
Школа в посёлке тогда ещё была маленькой, деревянной и одноэтажной. Здесь и произошла моя короткая, но судьбоносная встреча с увлечённой краеведением учительницей. К сожалению, ни её имени, ни отчества память не сохранила. Я записалась к ней в кружок и получила задание оформить краеведческий альбом. Данный ею материал меня очень увлёк, заиграло воображение, и я начала писать рассказ о затерянном в тайге руднике. И даже проиллюстрировала его рисунком. Моё творчество руководитель кружка забраковала. Она требовала от меня сухого изложения фактов. Литературные «выдумки» ей, как и моему отцу, были чужды.
Как бы то ни было, волшебный щелчок прозорливой судьбы прозвучал! Механизм моего интереса к истории рудника был запущен.
Закончился учебный год, и родителей потянуло на новое «кочевье», уже в Иркутскую область. Но это уже другая история.
Тем временем судьба подала новый знак. Однажды, работая в городском архиве Минусинска, я случайно наткнулась на интересный документ – «Дело по расследованию разбойного поведения рабочих Ирбинского железоделательного завода Мирона Петрова, Ивана Сиверцева и Тихона Широкова-Бекетова от 12 октября 1823 – 16 февраля 1825 г.». И я с головой окунулась в изучение истории рудника. А «разбойников» вскоре под своими фамилиями поселила в своём будущем романе.
Так и появился на свет этот необычный сборник, каждую историю которого я пережила заново, словно вернулась к родным истокам. Дорога к ним была долгой, но чрезвычайно интересной.
И я благодарна всем, кто разделил со мной этот нелёгкий путь и кому предстоит его проделать уже в качестве читателя.
ЯВЛЕНИЕ КЛИНКА
Сменялись эпохи, как кроны дерев.
И мир возрождался, едва умерев.
В прессованный мрак заточила гряда —
Железную твердь под названьем «руда».
Пришёл Человек и споткнулся о скол,
Огнём колдовал над железным куском,
Он плавил и правил упрямый металл,
И вот на ладони клинок заблистал…
Разбил тьму веков этот блеск, и всерьёз
Он радости горы и горя принёс.
Кому-то богатство, и власть, и балы,
Кому – стоны каторги и кандалы…
К несчастью, не ведал в тот миг Человек,
Что станет рабом «железяки» навек,
Что власти испив, «оружейная рать»
Научится Смертью легко торговать.
Вертел Человеком жестокий клинок,
И кровью его упивался, как мог.
Своё отмахав беспощадной рукой,
Однажды, ржавея, уйдёт на покой.
Земля похоронит. И вновь заблажит,
И новые руды свои обнажит…
Безмерно, увы, велика и крепка
Безумная тяга к явленью клинка…
Светлана Корнюхина
Книга первая
Явление клинка
Часть первая
Ворон ворону…
Пролог
В те давние, давние времена, когда на вершинах Саянского Камня[1] великаны-маралы рогами подпирали небо, однажды взвился ввысь, разрезая пронзительную синеву, красавец-сапсан. Широко раскинув серповидные крылья, он по-хозяйски осматривал дикую и прекрасную землю безмятежного Хонгорая[2] в поисках добычи. Там, внизу, спокойно и величаво несли серебряные воды смиренный Абакан и мудрый древний Кем[3], к мощной груди которого ненароком прильнула строптивая Упса[4].
Но вот один поворот, другой – и Упса отпрянула от старца, вильнула в сторону, как невеста, сбежавшая от богатого, но нелюбого жениха, и свободно устремилась в укромность Минусинской долины. Вольно разлилась среди скалистых отрогов, покрытых хвойным кедрачом, легко побежала через ковыльные степи и одарила светлой улыбкой бегущие навстречу ослепительно белые берёзовые рощи.
И сразу на её изумрудных берегах вспыхнули розовым облаком стаи сказочных фламинго, затрепетали белоснежными крыльями влюблённые пары лебедей. На шёлковых травах распушили веером хвосты цвета меди спесивые дрофы. Обольщая своих избранниц, петухи-дрофы нетерпеливо раздували шеи, лихо запрокидывали головы и страстно закатывали глаза. Наконец, стремительно распахнув крылья, обнажали «невестам» нежную белую опушку. Райские игры…
Зорко высматривал добычу царский сокол. Нет, не по силам ему такая крупная дичь. И он развернулся к скалам, где ютится-прячется дичь помельче. Но тут со стороны гор заклубилась пыль на дороге, послышалось ржание лошадей, стоны женщин и детей. Появились оборванные всадники на изнурённых лошадях, тяжело спешились и повалились ниц в дорожную пыль, громко благодаря Духов, что помогли им вернуться из джунгарского плена[5] на родные берега.
Почтенный старец Кечемей, мудрый предводитель рода, повелел установить юрты, а сам с трудом поднялся на вершину небольшого холма у реки, огляделся по сторонам и, выбив на ладонь из старой пеньковой трубки остатки табака, подкинул вверх едкие табачные крошки и просительно прохрипел: «Примите, Духи гор и леса, нашу жертву, ибо хоораи просят вас о защите и милости». Спустился к юртам удручённый, ибо понимал, что слишком скудным было его жертвоприношение для благосклонности «хозяев» этих мест. И вдруг приметил в небе сапсана, возрадовался и тайно достал из-за пазухи сизого голубя. Быстро привязал к лапке птицы алую ленточку, поцеловал влажный клюв и подкинул птицу в воздух. Негодующим взглядом провожали его измученные голодом взрослые и дети: «Как так? Еду утаил. Или с брюхом старик не дружит?»
Молнией ринулся на жертвенного голубя сапсан, сбил его когтистыми лапами, на лету оторвал клювом голову, отбросил и цепко понёс трепещущее тельце в своё высокое гнездовье. А на землю, рядом с худосочным парнишкой, вдруг упала в траву окровавленная головка сизаря. Не успел малой сцапать нечаянную милость небес, как на него ястребом налетел старец, резко выхватил добычу, развернулся к реке и бросил жертвенный кусок в тёмно-изумрудные воды реки.
И пал на колени перед народом – страдальцем седой Кечемей: «Да простят меня духи предков, и вы, сородичи, простите. Нет у нас сейчас достойной жертвы – ни быков, ни овец, ни коней. Остались одни клячи, без которых нам не выжить. А защитить род некому. Вы знаете, что жестокие воины китайского генерала Цэбэнджаба убили нашего шамана и почти всех мужчин. Лишь двадцать луков осталось. И только малый голубок, утаённый от вас и принесённый в жертву, мог бы умилостивить духов этой благословенной земли. Просите и вы, молите о возрождении рода. Пусть будет вечным хонгорайский народ и нескончаемым его скот!»
Вздохнул с облегчением старец и первым пополз до ближней берёзы, растущей на берегу. Прижался к стволу влажной от слёз щекой, начал вязать синюю и белую ленточки и молить Духа Воды, обещая в первый же праздник жертвоприношения – Сугтайыг – воздать сполна: спустить по течению на плоту из девяти брёвен более достойную жертву – годовалого бычка и трёх черноголовых ягнят. Всё как положено.
Надрывно всхлипнул старик и поднялся с колен уже не рабом, а законным хозяином окрестных владений.
С тех пор укрепились енисейские кыргызы на прибрежье реки Упсы, дав начало роду тоба. Роду, чем-то схожему нравом с гордой непокорной рекой и кряжистыми кедрами, что намертво вросли корнями в её крутые скалистые берега…
Глава первая
«Правая рука в жире, левая – в сале»
Это было в начале восемнадцатого века. Власть Джунгарского ханства ослабла, и набеги коварных врагов на лакомый Хонгорай ушли в прошлое.
Отступились от этих земель и Монголия с Китаем, потому что к этому времени над хоораями покровительственно распростёр мощные крылья двуглавый орёл самодержавной России. В Хонгорае воцарился благословенный мир. Покойно текла полноводная Упса. В прозрачной воде теснилась-играла икряная рыба. По берегам, богатым сочными травами, бродили тучные стада коров, отары овец и табуны лошадей. В таёжных предгорьях вдосыть кишела дичь. Хватало места и людям в щедрой долине, хотя улус от улуса стоял всего на расстоянии крика.
И всё бы так, да не так. Ушла напасть от внешней «хворобы», да не минула собственной «утробы»…
В одном улусе жил да властвовал наследственный князец Курага. Правителем он был жестоким, но не особо мудрым к своим зрелым годам. К тому же любил сладко и жирно поесть, вволю попить хмельной араки, мягко поспать. И желательно не одному.
Однажды князец, как всегда пополудни, сидел в юрте на своей мужской половине за низким расписным столиком, подогнув ноги в широких плисовых штанах, и шумно отхлёбывал наваристый мясной бульон из фарфоровой чашки. Вскоре он ослабил шерстяной шнурок розовой парчовой рубахи, и старшая жена угодливо поставила перед ним деревянное корытце с кусками отварного запашистого бараньего мяса. Сердце, печень, сычуг положила отдельно в большую глиняную тарелку. Но князь даже милостивого взгляда не бросил на жену. Только рыгнул в знак удовольствия. Не радовала его больше увядшая красавица Абахай, хоть и нарядилась ради него в своё лучшее ситцевое платье и украсила когда-то милые мужнину сердцу ушки затейливыми кольцами медных серёжек. Зазывно-печально позвякивали коралловые бусинки о полурублёвые монетки, несмело напоминая о том, что вот уже двенадцать лун сменилось, а в юрте Абахай супружеская постель оставалась холодна.
Курага обглодал смачно первый шейный позвонок и по обычаю пробормотал под нос: «Ты, вожак чёрной головы, самый младший из позвонков, защити в трудную минуту. Упаду – не покалечь. И от моровой[6] прошу сберечь».
Затем спохватился, положил в глиняную чашку лакомые кусочки мяса, кровяной колбасы, нежного печенья из жареного ячменя и других яств. Почтительно подполз на коленях к очагу, низко поклонился и умильно попросил:
– О, почтенная Мать-огонь! Кормлю тебя и почитаю тебя. Не оставляй дом мой и род мой в беде. Дай ему благоденствия в батырах. Благослови меня рождением сына, сильного и стремительного, как изюбр, храброго, как голодная росомаха, и мудрого, как его предок Кечемей.
И высыпал жертву в огонь. Бросил в сторону первой жены недовольный взгляд: «Кобыла нежерёбая! Тужилась, тужилась, а батыра мне так и не родила».
Вернулся к столу и алчно посмотрел на тарелку сметанной каши «потхы», пахучей, нежной, с обильным коровьим маслом наверху. Потянулся было жирными руками к ней, но Абахай предупредительно протянула мужу тряпицу. Супруг скривился на несвежую ветошь, свирепо глянул на жену и молча швырнул тряпку в сторону. Поняв, что оплошала, Абахай виновато протянула ему другую. Курага – ни слова, ни полслова. Только жадно хлебал и мысленно честил старшую жену: «Ссохшийся бурдюк с жёлтыми костями! Ишь, вырядилась! Да толку-то! Чадящая головня! Ни света от тебя, ни тепла». Вытер сальные пальцы, ещё больше сузил заплывшие глаза: «Нетель пустобрюхая! Только и сподобилась на девку и то на одну…»
Он покосился на свою дочь, что сидела на женской половине юрты. Шестнадцатилетняя Побырган внимательно наблюдала за отцом из-под пушистых ресниц, так похожих на крошечные беличьи хвостики. Карие глазёнки на милом личике лукаво зыркали то на отца, то на мать. Следила, чтобы тот ненароком не обидел мать, и не надсмехалась над ней юная соперница Айго. Кураге да не знать любимую доченьку? Потому-то в её присутствии крепко держал на привязи свой брехливый язык.
«Вот лиса! – размышлял отец. – Наверняка запомнит, улучит момент и исподтишка отомстит. И всё это с невинной улыбочкой. Не девка, а зловредный дух айна![7] Всем взяла, да всё одно не батыр. Ну и какой я без наследника бег?[8]»
Не удержался и с надеждой обласкал масляными глазками вторую, молодую, жену. При этом сытно причмокнул, облизав мясистые губы, и восхитился про себя: «Булочка моя сладкая, пышная, так бы и съел! Прелестница Айго! Заря моя, лунный свет ночей, услада чресл моих!» И запил сладострастное волнение крепкой аракой.
А заря его сердца, услада дряхлеющих чресл, сидела, капризно надув губки, и нежными пальчиками ковырялась в еде. Притворялась, что её прямо-таки воротит от пресного сыра. Имела право. Ибо под серебристо-голубым подолом шёлкового платья едва-едва, но уже наметился животик. И Айго пребывала в полной уверенности, что родит господину сына. Даже двух. Потому что сегодня утром ей попалось яйцо с двумя желтками, и она воровато его съела. Теперь, на правах беременной, требует себе то кровяную колбасу, то пенки варёного молока и даже запретное для всех женщин мясо с лопатки. Височные подвески на ней – не медные, как у Абахай, а серебряные, с двуглавыми рублёвиками и шёлковыми кисточками. И каждая соединяется на груди фигурной и тоже серебряной цепочкой. Особый знак благосклонности повелителя.
Сыт и доволен Курага. Возблагодарил за пищу высшие силы, тяжело поднялся и вышел из юрты, оборотив щёлки осоловелых глаз ласковым солнечным лучам. Чего ещё желать?
А как открыл глаза пошире, понял сразу – чего.
Глава вторая
Красному гостю – красное место
И увидел князец, что по дороге в аул бредут двое нищих. Впереди чумазый оборвыш лет двенадцати с древним чатханом[9] через плечо. За ним слепой старец, костлявая рука которого судорожно цеплялась за плечо мальца. Облачённый в запылённую, вытертую временем хламидку из лосиной шкуры, подпоясанную бечёвкой, старец едва волочил худые ноги в дырявых сагырах[10].
– О! Да это ж хайджи, народный сказитель! Вот кто мне нужен! – воскликнул Курага, вдруг вспомнив, что слышал об одном знатном чайзане[11], у которого прижился прикормленный хайджи и на всю степь славит благодетеля в своих сказаниях.
– Я, сиятельный Курага, не какой-то там чайзана, а наследный бег! Мне и почёт особый.
Повернулся, кликнул прислугу и приказал позвать сказителя в юрту. А сам занял хозяйское место.
Осторожно, с помощью мальца, переступил порог бродячий певец – высокий старик с грязными сивыми космами. Его впалые тусклые неподвижные глаза замерли на юной Айго. Та тихонько взвизгнула и прикрыла выпуклый животик ладошками, боясь сглаза. Дочь Побырган во все глаза уставилась на слепого хайджу, даже рот забыла закрыть. Курага повёл бровью, и покорная Абахай со вздохом приняла из рук оборвыша почерневший от времени чатхан. Бережно положила на сундук. Предложила омыть руки и пошла за кувшином.
Пригляделся князец, засомневался: «Поспешил я, однако. Больно дряхл старик. Поди, имени своего не помнит, не то чтоб героические сказания сочинять. Стоит ли тратиться? Понятно, что старый человек – убыль в пище, а ещё и голодранцы понабегут со всего улуса на дармовое угощение. Известное дело, имя гостя с желудками соседей повязано. Ну да делать нечего. Обычай предков! Прогонишь – мигом сплетня облетит степь: мол, скуп бег, не уважил хайджи, обидел почтенного старца».
Он повернул голову к очагу, закрыл на миг глаза, взмолился:
– Чалбах-тес, хозяйка очага, отврати меня от беды!
И перевёл взгляд на подростка. У того на рожице изумление. Ещё никогда не видал бродяжка такой огромной войлочной юрты, такого богатого убранства. На женской половине изящные буфетные полки, полнёхонькие китайской фарфоровой посуды. На мужской половине широкая деревянная кровать, покрытая тёплым собольим одеялом, с алым шёлковым покрывалом и вышитыми пуховыми подушками. А над кроватью яркий узорчатый ковёр и золотистый парчовый полог. А рядом кованые сундуки с байским добром.
«Да, да, – подстёгивал удивление оборвыша Курага, – и скота у меня великое множество, и земли немеряно. И клеймённых моим перстнем рабов тьма. Кошма богата, да не для твоего брата, серая кость».
И Курага стрельнул глазами в сторону мальчишки. Понятливая Абахай, брезгливо тыча пальцами в спину, выпроводила поводыря в юрту для слуг. Отдышливо пыхтя, бег поднялся навстречу уважаемому гостю и в знак особого почёта поприветствовал поднятыми вверх руками.
Елейно поинтересовался:
– Позвольте узнать Ваше почтенное имя?
– Я Ойдан, народный сказитель горловым пением хай[12], – едва слышно произнёс старец, точно корявый улусный осокорь прошелестел листьями.
«Ага, – прикинул в уме Курага. – Ойдан – мудрый, значит». И на всякий случай польстил:
– Называемое Вами имя прославлено в народе.
Бег услужливо, под локоточек, провёл старика на почётное место и усадил на белую кошму по правую руку. Любезно продолжил:
– Благополучен ли был Ваш путь и как Ваше здоровье?
А сам с ехидцей подумал: «Поди-ка, народный любимец, ты досыта только из собачьих чашек хлебал да лизал чёрную сажу у чужих очагов? Вон как глаза запали, а ноздри от голода слиплись. Видать, не сегодня-завтра где-нибудь в пути околеешь».
Хайджи, точно угадав его мысли, мягко улыбнулся:
– Спасибо. Больной крепок душой. А скрипучее дерево под ветром шатается, да не скоро валится.
У Кураги сердце захолонуло: «Слеп старик, а мысли читает! Знать, сам Эрликхан, правитель нижнего мира, ему помогает».
Струхнул бег и ещё угодливей пожелал прозорливцу:
– Да будет путь Ваш бесконечным!
Старец слегка поклонился:
– Да будет очаг ваш вечным! Пусть преумножится скот вашей земли!
– Надолго ли, уважаемый хайджи, в наши места?
– В месте, где голодал, не оставался больше суток, а в месте, где сытно кормили, задерживался и на девять, – намекнул сказитель.
Князец всё понял и преподнёс гостю чашу с лучшими кусками отварной баранины. Старик жадно вцепился редкими жёлтыми зубами в духмяное мясо. Он с наслаждением высасывал нежный спинной мозг из позвонков, облизывал жир со скрюченных пальцев. Бег налил пиалу араки и вложил в руку слепца, сухонькую, костистую, похожую на куриную лапку.
Но сказитель, принюхавшись к кислому запаху молочной водки, отстранил пиалу и покачал головой:
– Лучше воду пить, чем араку. Пусть имеет человек ясный ум и долгий век! Не угостишь ли, достопочтенный Курага, айраном?[13] Он для души и тела полезней.
Князец подал айран и осторожно спросил:
– Не порадуете ли вечером наш слух своим мастерством?
– Как пожелаете, высокородный господин. А сейчас позвольте прикорнуть где-нибудь.
Курага приказал слугам помыть старца и уложить отдыхать в юрте Абахай. А ей повелел исполнять все пожелания хайджи, иначе отведает гнева хозяйской плётки. Дочь и молодую жену он тоже отправил в свои юрты, потому что самому нестерпимо хотелось вздремнуть после сытного обеда. Свычка…
Глава третья
Путь нечестного сокрыт
Только собрался Курага возлечь на мягкую и такую желанную сейчас постель, как услышал у юрты топот копыт. Вспомнил, что кликнуть некого. Сам вышел навстречу новому нежданному гостю и оторопел: «Вот уж кого не ждал у своего порога, так это бодливого козла Адая! Уж лучше сразу на змею наступить, чем лишний раз встретиться с этим злыднем!»
Но тот, спрыгнув с коня, вдруг покорливо опустился в пыль у ног бега. И точно душистое масло пролилось на душу Кураге: «Сегодня поистине удивительный день! Видать, особое благоволение верхних духов с небес свалилось на меня за почтительный приём дряхлого грязного хайджи!»
И он гордо огляделся по сторонам: все ли улусцы видели, как спесивец Адай обметает чёрными бархатными обшлагами халата княжеские сапоги? И только после этого скрепя сердце пригласил бая в юрту к столу испить чаю. Сам кликнул слугу, чтоб тот принёс пресных лепёшек и сладких мучных шариков поорсах.
Трясущейся рукой принимал бай пиалу китайского голубого фарфора, прятал глаза. Сопел и молча дул на горячий чай Курага. Видел: совсем спал с лица Адай. Скулы, точно скальный плитняк, обтянуты тёмной кожей. Под узкими, как лезвие кинжала, недобрыми глазами – чёрные сморщенные мешки горя. Бородёнка совсем поседела.
«Да, – посожалел вдруг князец, – пролетело времечко. Как стриж небо крылом черканул. А ведь каким Адай батыром был! Статный, с широкими, как степь, лопатками. Крутые плечи – холмы Хонгорая. Чёрные волосы расчёсаны на пробор, заплетены толстою косой в девять прядей. Глаза как спелая черёмуха. Взор зоркий, ястребиный. Вспыльчивый, как необъезженный жеребец».
Взгрустнул Курага, вспомнив, что с баем они когда-то в молодости закадычными дружками были, не разлей вода. А вот поссорились из-за чепухи. Вздумалось им в шутку меряться богатством: убранством юрт и количеством скота. Кичливому Адаю недостало два десятка коней, чтобы восторжествовать над дружком. Пали в тот год во время весенней оттепели его наиболее ослабевшие лошади. Снега в тех местах, возле улуса бая, покрылись особенно крепкой ледяной коркой, и кони не смогли тебеневать[14]. Большой урон нанесла торопливая весна.
Над чёрной бедой посмеялся тогда Курага:
– С князем не соревнуйся, с бегом не спорь! Лбы подставляют только дурачки, привыкшие получать щелчки.
Сказанное слово разит, как стрела. Уязвлённый Адай прошипел ему в лицо:
– У паршивой шубы вши злобные, у плохого человека язык злобный. На твоё «дружеское» слово откликнусь эхом. Смех над чужой бедой – великий грех земной. Знать тебя больше не хочу!
Плюнул Кураге под ноги, вскочил на коня и ускакал в свой улус. И с тех пор стали они людьми, съевшими глаза одной коровы[15]. Один – задириха, другой – неспустиха!
«Сколько ж воды утекло с тех пор, как мы сидели за одним столом? – сумрачно размышлял светлейший бег, прихлёбывая душистый чай из узорчатой пиалы. – Крепко же тебя, бай, припекло!»
Его так и подмывало укорить, уколоть спесивца Адая, но держал язык в узде. Помнил, как опрометчивая невоздержанность в словах разрушила дружбу молодости. И молча слушал униженные просьбы Адая.
– Солнечный вождь, не возьмёшь ли моего Начина на службу сборщиком налогов? Пора соколёнку вручить серебряную нагайку власти. Почти зять он тебе ещё по глухому сговору[16]. Помнишь, мы заключили его на празднике первого айрана, когда дети ещё были в пояснице?
Морщится бег:
– Богат ты, бай, не менее меня. Родниться с тобой не в урон чести бега. – И тут не удержался, ужалил бывшего дружка: – А вот сынок-то твой, по слухам, совсем непутёвый. Говорят, безмозглый хохотун и беззаботный юнец. Да такой ленивый, что палкой побить дворовую собаку не встанет. А уж об отцовском добре вовсе не радеет. Ему бы только красоваться на гнедом скакуне перед красавицами аула да гоняться за косулями по склонам гор. Горечь отца, вопли матери. Не так ли, достойный Адай?
Тот ерзанул на месте, чтобы поперечить было, но сцепил зубы, только холмы скул ещё больше отвердели и потемнели. Потупил глаза, скрыв гневный высверк во взгляде.
– Норовистому коню нужна крепкая узда, – стал оправдывать сынка Адай. – Женится, остепенится. А твоя Побырган – девушка разумная, хозяйственная, крошке со стола зря пропасть не даст. Золотая невестка будет, с твёрдым характером. Внутри юрты – женщина, на улицу выйдет – мужчина. Ручки мягкие, а узду держит крепко, в седле держится прочно. Куда направит строптивого коня, туда он и повернёт. В такие ручки не страшно всё добро байское со временем передать. Всё сохранит, всё преумножит!
Задумался Курага: «Верно, Побырган не чета другим вертихвосткам. Без девичьего вздора в расчётливой головке. Не поперечит воле отца, коли брак будет выгодным. Тут уж хоть за пса её отдай – пойдёт! И собакой будет лаять. Лишь бы пёс тот охранял богатую войлочную юрту, а не берестяной чум». Слушая угодливые речи бая, князец размышлял и том, что у этих льстивых слов, как у шёлкового халата, есть потайная холщовая изнанка. Уж не дурная ли слава сынка заботит Адая?
И всё же снисходительно сквозь зубы процедил:
– Ну что ж! Отправляй Начина на службу. А там поглядим.
Глава четвёртая
Где клятва, там и преступление
В свисте степного ветра уловил Курага тихий шёпот сплетни: байский сынок Начин совершил грязный проступок. Во время охоты промахнулся в косульку, которую по своей глупости спугнула девчонка-подросток Изире, что бродила по степи с корнекопалкой и рыла ею мучнисто-сладкие клубни, копала кандыков. С досады байчонок сначала отстегал батрацкую замарашку нагайкой, а затем, разгорячившись, подмял под себя. Петухом отряхнулся и дальше поскакал, оставив в траве хнычущую в замурзанный подол соплюху. О содеянном озорник тут же забыл. Стряхнул память о нищенке, как засохшую грязь с копыт коня.
И смутно припомнил Курага, что дело-то совсем худо обернулось! Оказалось, отец Изире, его батрак Адос, недостойный даже лизать жир бараньих кишок с байского стола, посмел требовать за бесчестье своей замухрышки наказания для насильника.
«Ишь ты, шершень кусачий! И не надейся на мою заступу!» – решил для себя Курага.
Пока грех Начина тайным шепотком обсуждался в улусах, время шло.
Забрюхатела Изире. И по степному закону ответ теперь держать виновнику перед улусом, которым управлял сам Курага – бег. Мать Изире с плачем заплела косички дочери в одну жиденькую – в знак девичьего позора и родительского стыда. И в знак женского одиночества на остаток жизни. Кому нужна беднячка с суразёнком[17] на руках?
А байский сынок жениться отказывается и клянётся на клинке кинжала:
– Я не делал греха даже величиной с травинку. Я не совершал ошибки даже величиной с пылинку. Если я говорю неправду, то пусть моя красная душа обрежется красным вечером! Не я расщёлкнул этот кедровый орешек.
Но не ветер же надул пузо соплюхе? К тому же случайный свидетель байскому проступку сыскался. Чабан, пасший табун лошадей у склона горы, издали видел, как Начин лупцевал плетью девчонку и рвал на замухрышке тряпьё. Да только и сам чабан побыстрей убрался от греха подале, и скот в другое место перегнал. Однако сказанное слово сильнее богатства. Не избежать Начину порки в двадцать пять горячих плетей и штрафа. Ибо таков закон степи, его на коне не объедешь. Недостойную для своего знатного рода «добычу» забил байский соколёнок.
Но, как говорится, своё горе рождается от себя. Хоть и опозорил отцовские седины Адая сынок, а всё же родная кровь. Наследник. Выручать надо. Штраф для бая не беда. Много у него в табуне коней. Не моргнув глазом отдаст одного из них в полном убранстве отцу девчонки. И новую овчинную шубу в придачу пожалует. А вот прилюдно пороть байчонка – такого посрамления роду бай снести не сможет.
Глава пятая
Змея кружит вокруг тёплого места
И тут Адай решился. Ближе придвинулся к Кураге и, словно невзначай, опустил ему в карман увесистый кошель монет. Курага же сделал вид, что не чувствует, как приятно оттянуло карман халата. А гость следом преподнёс с поклоном ещё один дорогой подарок – поясной нож, стальной, в искусной узорной отделке из свинца и серебра. А чтобы бег по достоинству оценил подношение, на глазах князьца резко согнул лезвие, и – удивительное дело! – гибкий клинок не сломался, а невредимый, звонко, как тетива лука, распрямился. Курага восхищённо цокнул языком и подумал: «Что ни говори – подарок, достойный мужчины!»
– Откуда, почтенный Абай, такой нож у тебя? Редкой работы вещь! Отменное железо!
Адай оживился – сумел-таки угодить бегу. С нарочитой небрежностью сронил:
– Да так, у одного кочевого кузнеца по случаю прикупил. Сказывал он, что за рекой Ирба есть удивительная гора. Вся целиком из железа! Издавна хонгораи у ручья Железного роют ямки в земле да руду выкапывают. Железо пожогами выплавляют.
Бег тут же прикинул в уме: «Немалые выгоды сулит подарочек. Надо бы на ирбинских подданных ясак наложить не мягкой рухлядью, а железом. Железо в цене дороже собольих и беличьих шкурок. – И покосился на заклятого дружка: – Интересно, зачем это Адай проболтался о прибыльном дельце? Скаредней бая в степи трудно сыскать. Быстрей песок засыплет пустые глазницы черепа, лежащего в степи, чем его глаза насытятся видом денег и золота. Хитрый лис! Намеренно распустил свой язык. Как возле норки сурка кружит. Петли вяжет, силки расставляет… Ну, ну, охотничек, смелее!»
А бай между тем дальше вкрадчиво плетёт паутину словес:
– Негоже старым приятелям держать сердце друг на друга. Не пора ли в знак примирения породниться? Поставить новую юрту молодым да наделить множеством скота. Тут и раздору пустому конец.
От человеческого языка, говорят, даже камень может расколоться. Задумался Курага: «И впрямь, с чего бы им, двум богатеям, продолжать враждовать? Богаче жениха для Побырган всё равно в здешних местах не сыскать. Начин и собой не дурён – не противен будет. А то, что у парня ветер в голове гуляет, невелика беда. У моей хитромудрой лисоньки ума на двоих хватит. А нравом она и вовсе кремень! Живо приберёт молодца к рукам».
Видя, как взгляд бега помягчел, Адай, наконец, ступил на самую тайную тропу разговора:
– Приехал я, сиятельный бег, горе своё с тобой разделить, о родственной помощи молить. Не дашь ли своему наглому батраку укорот, чтоб навета на моего сына не возводил? Не дело, когда презренные рабы осмеливаются, как паршивые псы, брехать и клыки вонзать в благородное тело баев. Скоро, на второй день месяца заготовки бересты[18], твой дерзкий батрак Айдас призовёт на улусный суд моего Начина. Не попусти испачкать грязной сплетней светлое имя будущего княжеского зятя! Не позволь оскорбить его белого тела плетью! Власть бега грозная, тяжёлая, но и благотворная, как солнце на небе.
«И в самом деле, – согласился в мыслях польщённый князец, – разнесут потом аульные сороки по округе, что Курага дочь, как какую-то плешивую овцу, выпихнул на руки никудышнику с поротой задницей. Надо, надо сохранить достоинство байского сынка. Будет тебе, Адай, щедрый отдарок за подношения».
Но вслух ничего не посулил, отделался отговоркой:
– Если вдвоём поднимать бревно, оно легче вдвое. Да будут благосклонны к нам верхние духи, и с этой напастью справимся.
С тем и проводил из юрты озабоченного Адая. А сам велел тайно призвать к себе палача улусного суда – Чухула. С полнамёка тот понимал волю бега: то его плеть насмерть хлестала, срывая окровавленные лоскуты кожи со спины, то вдруг становилась шёлковой – не секла, а нежно гладила спинку провинившегося. Это смотря по размерам мзды, часть которой за догадливость бег жаловал приближённому батыру. И чем больше плата, тем нерушимей каменное молчание палача. Никакая арака не развяжет языка преданному служивому.
Вот и сейчас Курага на ухо шепнул Чухулу приказ и отсыпал в протянутые ладони половину серебряных монет из пожертвованного Адаем кошеля. Низко поклонившись, Чухул тенью выскользнул из юрты, а Курага наконец возлёг на шёлковое покрывало пышного ложа и, довольный собой, захрапел до вечера.
Глава шестая
Неволя птицу песням учит
Безмятежно спал князец, а над аулом уже плыли, дразнили ноздри ароматные запахи. Готовились вкусные сырцы с толчёной черёмухой и коровьим маслом. Булькал в больших казанах жирный бульон, приправленный диким чесноком. Казалось, что вечерний ветерок и степные травы пропитались запахом варёной баранины. А невидимые горные и лесные духи уже собрались у костров и вовсю сытятся, вдыхая в себя запашистые дымы. Сегодня все голодные рты улуса наполнятся мясом, а слух – звоном чатхана. И пусть чёрные людишки разнесут по всей степи весть о щедрости князьца.
Быстро прослышал народ о милости Кураги и о его госте-сказителе, мигом собрались у юрты Абахай. Готов и хайджи. Малец-оборванец трижды обвёл его вокруг изголовья чатхана с чашей айрана, и тот окропил брызгами священные девять струн. А затем слепец, пригубив чашу и сипло покашливая, стал цеплять своими «куриными лапками» волосяные струны, настраивая инструмент на зачин. В нетерпении дух – хозяин чатхана – щёлкал по струнам, будто просил певца быстрей начать сказание и показать своё мастерство.
А вот и сам бег. Заспанный и подкреплённый аракой. Курага важно плюхнулся напротив старца и разрешил впустить «серую кость». Но, глядя, каким жалким выглядит дряхлый хайджи на почётной белой кошме, бег снова засомневался: «Не опозориться бы! Как перекати-поле понесётся по улусам весть, что глупый бег пригласил никудышного певца! Что могут сыграть эти негнущиеся пальцы-царапки? Что может спеть этот сиплый голос?»
Однако он пересилил себя и вежливо напутствовал сказителя:
– Да будет сказание ваше наполнено битвами и богатырскими подвигами!
И – о чудо! – благосклонность духов преобразила старца. Пальцы его приобрели гибкость змеи и легко заскользили по волосяным струнам. Голос вдруг окреп, и мощный горловой хай заполнил пространство юрты.
Со всех сторон раздавались восхищённые возгласы.
Курага облегчённо вздохнул: «Правду говорят: к серебру ржавчина не пристаёт. Это настоящий мастер «конного скакания»![19]
Но то, что произошло дальше, заставило бега похолодеть.
Незрячие глаза певца раскалёнными кинжалами вонзились в оплывшее лицо богатея, а голос сказителя грозовым раскатом покатился над головами слушателей:
Яйцо, снесённое ночью,
Пусть станет птицей, порхающей в небе!
Глава народа Ханза-бег
Пусть станет демоном, ходящим ночью!
С гордостью повествовал певец о том, как подобно вольному степному ветру носился Ханза-бег с воинами по родной земле Хонгорая и разорял русские селения. Не покорился мятежный князь самодержавной власти русского Белого хана. И звучало это сказание в устах певца, как упрёк ему, бегу Кураге.
И сжалось сердце Кураги до ячменного зёрнышка и укатилось на самое донышко пяток. Горько в мыслях ругал он себя: «О глупец! Что ж я заранее-то не узнал, что будет петь этот бродяга? Чтоб правитель подземного царства Эрликхан утащил этого хайджи в нижний мир и проколол ему язык раскалёнными иголками!.. Кто ж не знает запрещённое сказание о бунтовщике Ханза-беге? И впрямь, мудрость в голове, а не в бороде. Мало было мне, что сам енисейский воевода жаловал за усердие? Так нет, захотелось славы! А вдруг прознает воевода, что я от себя вносил сбор деньгами, а потом драл со своих подъясачных[20] «долг» в двойном размере? Хорошо, если посмотрит на это сквозь пальцы. А ежели осерчает? А-а-а, скажет, щучья голова, мало того, что ты ожадобел без меры, так ещё крамолу в своём улусе разводишь!.. Нет, не для того я одним из первых бегов срезал косичку кеджеге в знак принятия русского подданства, чтобы из-за слепого смутьяна враз все блага утратить!»
Однако растерялся бег. Ведь стар обычай, что запрещает прерывать хайджи. Почувствовал себя князец бессильным сурком, попавшим в силок: «Не видать мне теперь жалованной именной сабли для усмирения непокорных и серебряной нагайки для наказания непослушных!»
Курага терпел и ёрзал на белой кошме, как будто ему подсыпали раскалённых углей. Испуганно озирался по сторонам и в немом бешенстве видел, как во все глаза глядели паршивые улусцы в рот слепому подстрекателю. Горели их щёки, сверкали глаза, сжимались кулаки, раздавались восхищённые возгласы.
– У-у! Какой доблестный богатырь! – ликовали слушатели, а у бега вся требуха в брюхе слиплась в малюсенький комочек.
Но наконец-то сказание подошло к концу: Ханза-бега отловили и повезли казнить по реке на плоту в русский город Томск.
Тюрьма, построенная казаками,
Имеет крышу, как у юрты.
Русский город возвышается,
Мои рёбра раскалываются…
Жалобно стонет чатхан. Закрыли лица руками женщины и рыдают. Мужчины, потупившись, нахмурились и сетуют:
– Жалко, хороший богатырь был.
Бег дрожащим голосом вместе со всеми похвалил певца:
– Хорошо пел, голос красивый, слушать было приятно.
А как иначе? Народ верит, что у человека, который не похвалил сказителя, голова становится плешивой, и дети тоже родятся плешивыми. А это бегу совсем ни к чему! Кисло улыбнулся князец слепцу, чтоб видели окружающие, а сам подумал: «Не нужен мне такой хайджи. Не сложит старый дурак в мою честь богатырского сказания».
Соблюдая заветы предков, всё-таки пригласил гостей к застолью. Скрепя сердце угостил сказителя почётным мясным блюдом – бараньей лопаткой. Щедрой рекой лилась арака. Пьян и весел был весь аул, только дряхлый усталый хайджи держал в «куриной лапке» пиалу с целебным айраном и молчал. Глаза его снова потускнели. Он медленно жевал редкими зубами мягкую овечью печень и напряжённо вслушивался в хмельной говор, шум травы, хлопотливый шелест тополиных листьев под порывами ночного ветра. Ему смертельно хотелось спать.
Мрачен был и Курага. Маятно было ему. Всю ночь ворочался с боку на бок. Не радовала сердце и сладкая Айго.
Глава седьмая
Клыкастый зверь питается мясом
Утром Курага поднялся пасмурнее тучи, отчего злился и мерил юрту тяжёлыми шагами. Всё прикидывал в уме, как бы это с соблюдением приличий избавиться от сказителя.
Вдруг на весь улус волчицей взвыла жена батрака Адоса: пропала их дочь, беременная Изире. Кинулся люд искать пропажу, гадая: «Поди, от стыда в бега ударилась несчастная!» Тогда призвал бег верного батыра Чухула и громко, чтоб слышали все, повелел ему с десятью воинами всю округу обскакать, под каждое дерево заглянуть, каждый куст разворошить, но найти беглянку.
Молча, с непроницаемым лицом поклонился судебный палач владыке и ускакал на поиски, а потом, по возвращении, с грязной ухмылкой доложил:
– Светлый вождь, легче у ящерицы пуп найти, чем отыскать эту негодницу. Должно быть, её подружник где-то прячет.
А на третий день выбросила стремнина полноводной Упсы на перекат сильно распухшее, пузатое тельце в синяках. Прибежал в богатую юрту батрак Адос, кинулся в ноги хозяину с воплями:
– Подлунный владыка, погубили мою бедную Изире бай Адай с сыном Начином! Их подлых рук это дело! Молю, прикажи наказать убийц!
Точно чёрные грозовые тучи надвинулись на лицо властелина, глаза полосонули табунщика молниями гнева. Ощерился Курага, склонился, ухватил работника за бородёнку, изо всех сил дёрнул и прошипел:
– Негодный! Завяжи болтливый язык в тугой узел и больше не развязывай! Суразница[21] не сама ли от стыда в реку бросилась? Мало ли как в стремнине тащило тело, о какие подводные камни било и трепало. – И швырнул ему под ноги горсть меди: – На, похорони дочь да скажи бабе, чтоб чаще пересчитывала свой выводок щенят. Их у тебя полный чум. Кабы ещё кого не досчитаться. А поклёпа на честных людей не возводи!
Съёжился табунщик под грозным взглядом господина, тихо завыл, трясущимися руками подобрал рассыпанные монетки и, пятясь задом, выполз за порог.
Тем же вечером Курага зашёл в юрту Абахай и почтительно обратился к хайджи:
– Простите, уважаемый Ойдан. Не до сказаний нам теперь. Страшное горе обрушилось на улус. Будем оплакивать несчастную девушку… А чтоб путь ваш не был труден, прошу принять от меня лошадь.
И одарил отдышливой и перхающей на ходу клячей. С виду лошадь, как лошадь, а на деле – шкура для подстилки, набитая навозом. Усадили воины старца с мальцом, вывели клячу под уздцы за улус и хлёстко огрели по тощему заду. Та лениво взбрыкнула и что есть силы затрусила по дороге.
Пристально глядел им вслед князец, и точила его душу червоточинка беспокойства: «Лишь бы у лошадёнки хватило сил подальше от улуса доковылять. Тогда уж ни одна сорока худого обо мне не растрещит. Наоборот, мол, с почётом встретил уважаемого хайджи, с почётом и выпроводил…»
Глава восьмая
Не наступай на хвост лежащей змеи
Неделю спустя надумал Курага ехать в строящийся Абаканский острог к енисейскому воеводе разведать, не донесла ли сорока худую весть до служивых людей. Мол, нарушил бег данную Белому хану присягу на верность, принимает у себя смутьянов-сказителей, мятеж готовит.
Пышно разодетый в парчу и соболя, со свитой из двадцати батыров прибыл сиятельный князец к устью реки Суды. Там сквозь лёгкий туманец в зоревом сиянии утра увидел на правом берегу Кема русский острог, что отделился от немирных земель глубоким рвом, оскалился клыкастыми каменными надолбами, ощетинился высоченными стенами. Сник и заробел бег.
Но вдруг им навстречу гостеприимно перекинулся деревянный мост. За воротами обрисовался стройный шатёр православной часовни. Точно пять юрт, поставленных друг на друга, возвысились бревенчатые крепостные башни. Едет Курага и дивится: только недавно крепость была заложена урусами, а уже избы-то, избы как грибы кучнятся, подле них амбары громоздятся, погреба глубоко в землю врылись.
А вот и терем! Двухъярусный, из огромных свежеошкуренных лесин, с покатой тесовой крышей, с высоким резным крыльцом. А на крыльце уже ждёт-поджидает именитого инородца дородный воевода Римский-Корсаков. Зовёт князьца в просторную избу.
Курага поклонился и улестил служивого связкой мягкой рухляди. Погладил воевода искристый мех чёрных соболей, остался доволен. Вежливо пригласил к застолью:
– Не побрезгуй, друже, нашими убогими яствами. Спробуй-ка, князь, наш русский харч. Вон тебе и севрюжья ботвинья, и капустка квашеная, и рябчики в сметане.
А на лавке под иконами уже сидел русоголовый с длинными обвислыми усами развесёлый мужичок в серой холщовой рубахе навыпуск и бурых льняных штанах. Сразу видно, лапотник! Менжуется князец: лестно Кураге сиживать с самим воеводой, да не по чину ему потчеваться за одним столом с низкородным русским.
Воевода, заметив его замешательство, ухмыльнулся в окладистую бородищу, панибратски хлопнул князьца по плечу и гулко забасил:
– Да нича-а-во! Эт не зазорно – сиживать за одним столом со моим давним знакомцем и тёзкой Михайлом Коссевичем. Он дока, рудознатец и по кузнечному делу зело горазд. Так што почитай за честь. За такими, как он, Русь-матушка казной полнится. – И спросил сермяжного мужика: – Удоволен ли ты, дорогой гостьюшка, застольем?
– Благодарствую, – куражится тот, в упор глядя на Курагу. – Я маловытен[22], с меня и хрена с редечкой довольно.
Хлебосольный Римский-Корсаков коротко хохотнул и воскликнул, как заздравную спел:
– А для знакомства сердешного давайте-ка, други, да под пельмешки, по малому ковшичку водочки хряпнем! И штоб по душе она, как барашек по лужочку, весело пробежа-а-лася!
И хряпнули. У Кураги глаза на лоб выкатились. А воевода с кузнецом перемигиваются: знай наших!
Лакомится князь незнакомой снедью и подвоха не чует. Воевода меж тем к кузнецу обернулся и говорит тихоречиво этак медовым голоском:
– Эх, друже Михайла! Веселы привалы, хде казаки запевалы. А не разодолжишь ли песней душевной, штоб сердцу стало горячо?
Тот давай отнекиваться:
– Што ты, Михаил Игнатьевич, рад бы, спел, да голос не смел.
Тогда воевода коварно прищурился на Курагу:
– А намедни я слыхивал, друже Михайла, што князь-то наш – знатный песельник. Шибко почитает сказителей. А повеждь-ка нам, князюшко, былину о Ханза-беге?
Страх опоясал князьца, пирог с зайчатиной поперёк горла встал. Дых спёрло, слова вымолвить не может. С перепугу судорожно вцепился в рукоятку поясного, дарёного Адаем, ножа. Блеснуло из богатых ножен на свету стальное лезвие. А эти ничего, ржут, глядючи на Курагу, как жеребцы в стойле. Наконец Римский-Корсаков умилосердился:
– Не пужайся, князь. Хошь и обдираешь ты свой народец, как коза липку, а верю: преданный ты русскому царю-батюшке.
– Ладно тебе пенять, воеводушка, чего не бывает? – вступился за знатного инородца Коссевич.
– Верно, бывает. Бывает, и мужик вместо бабы рожает! – сердито рявкнул воевода. – Я не буду тебя, князюшко, как дитя малое шпынять. А славь-ка ты бога своего нерусского, што я нынче такой веледушный. И всё же впредь, князь, поопасайся якшаться со всяким сбродом. И боле такой промашки не делай! А то болтаться тебе, как вашему бунтарю Ханзе-бегу, на виселице.
Курага с ужасом втянул голову в плечи, словно пеньковая верёвка уже ласково обвила ему жирную шею.
– Дай-ка, князь, на ножичек глянуть, коим ты нас запороть было собрался, – попросил приметливый кузнец. Подивился: – Мастеровитая ковка, знатное железо. Откель такое?
Возрадовался бег, что разговор в другое русло потёк, выболтал и о ручье Железном, и о горе из чистого железа. А кузнец-хват вцепился клещом:
– Дозволь, князь, в Ирбе подселиться, руду добывать да железным скарбом торговать.
– Эт дело надо хорошенько обмыслить! – подливал Кураге водку воевода.
Недолго колебался Курага: пусть выгодное дело из рук уплыло к кустарю-одиночке, а шкура всё же дороже! Да и воевода взглядом давил. Душа русского – каменная скала, а душа кыргыза мягче печени. Но уступил с оговором, что треть доходов с продажи Михайла без лукавства ему отдавать будет, как плату за прожитьё на его владениях. С тем и убрался князец восвояси, радёхонький, что легко отделался.
А вскорости дочь Побырган выдал за Начина. Адай поставил молодым новую юрту. Хотел Курага дать приданое скромное, но дочь приласкалась и, потупившись, напомнила ему об их прежнем соперничестве с баем. Мол, будет повод Адаю похвастаться богатым калымом. И бег расщедрился на стадо коров и множество овец.
Молодуха быстро прибрала к мягким рученькам непутёвого муженька и понукала им по своему разумению. На людях – покорная жена, а в юрте – полная хозяйка. Доволен невесткой Адай: все приличья ею соблюдены, и сыночек день и ночь крутится по хозяйству, как будто ему постель шиповником устлали.
В месяц жёлтого листа[23] Айго, вторая жена Кураги, родила. Девчонка вышла некрасивая, хлибая. Роженица залилась слезами и в сердцах назвала её Пада – лягушка. Злобно оттолкнула протянутый ей пискливый свёрток. Абахай доложила Кураге, что молодая мать не даёт метить лоб ребёночка молозивом и не желает прикладывать младенчика к грудям. Когда же Курага, хоть и был в гневе за приплод, пригрозил своей усладе плетёным кнутом, та не смирилась, и только злорадная улыбочка змейкой скользнула по её недовольным губам.
Князец с отчаяния стал часто гостевать в тех байских юртах, где молодухи славились особой плодовитостью на мальчиков. Приглядывал себе третью жену. А в остальном жизнь в Хонгарае текла, как прежде, неизменно и спокойно, как река Упса, что несёт изумрудные глуби, никогда не изменяя своему руслу.
Долго ли, коротко, но однажды мимо войлочных юрт и берестяных чумов удивлённых инородцев, по краю глухого лога да по охотничьей таёжной тропе, под охраной сорока солдат, гремя кандалами, пробрела в Ирбинское ущелье первая партия каторжников. Туда, где никогда не селились кыргызы, потому как место это считали нечистым, гиблым. Здесь, у подножья Железной горы, тяжёлая болотная вонь задурманивала головы охотникам, что забредали сюда в погоне за непуганой дичью и потом пропадали в топи. А в укромных скальных пещерках злобные духи крали беззащитные сонные души ночёвщиков. Птицы сюда не летели, змеи скользили прочь в потаённые таёжные впадинки, даже клюква и та не росла на ржавых кочках.
Сюда и гнали солдаты первых двести каторжан. Убивцы-варнаки, беглые монахи-расстриги, лихоимцы и должники, бывшие рекруты, намеренно калечившие руки, упорствующие упрямцы-бородачи, крепостные, попавшие в немилость к помещику, – все они по царскому указу отправлялись в Сибирь на вечную каторгу.
Полуденное знойное солнце беспощадно палило понурые макушки, едучий пот заливал слезящиеся глаза, кровососущий гнус роился тучами, забивая рот и нос, разъедая до неузнаваемости измученные лица. Шли где толпой, где вразброд, раскачиваясь из стороны в сторону, и хрипло, протяжно выли-стонали, выворачивая наизнанку души таких же недавних крепостных и подневольных солдатиков:
Нагрелися це-е-пи от жарких лучей
И в тело впилися змеями.
И льётся по капле горячая кровь
Из ран, растравлённых цепями…
А по ночам из болот к таёжной тропе приходили не упокоенные души утопленников и манили, манили колодников бесплотными руками в вязкую топь забвения и освобождения от страданий. Солдаты всю ночь крестились с перепугу, без толку палили в туманных воньких призраков и жгли спасительные костры. И чуть утро – гнали, гнали без роздыха дармовую силу строить плотину для будущего Ирбинского железоделательного завода.
Так нечаянно черкануло по истории острое лезвие стального ножа Кураги.
Позднее обнесли эти земли глухим забором со сторожевыми башнями и вышками. Казаки и местный замордованный люд стали рвать пупы и наживать килу на строительстве дороги до Курагина. Застонали под топорами вековые ели у отрогов Восточных Саян, натужно заскрипели подводы приписных крестьян, доверху гружённые землёй для плотины.
Здесь же, на болотных кочках, слегка присыпанных привезённой почвой, и возникло поселение Малая Ирба – каторжанская околица Сибири. И поселились там по царской воле колоднички, злыдари клеймённые, «рваные ноздри». А среди них гремела цепями «подлая чернь» – сообщники Емельки Пугачёва. И были они для каторжан – народца буйного, лихого и без того к побегу и бунтарству склонного – как тлеющий пепел в ворохе гнилой соломы, готовой вспыхнуть в любой момент. Но это уже другая история…
Часть вторая
Рыцарь случайного ломбера[24]
А. Поуп. «Похищение локона»
- Три воинства числом до девяти
- Готовы бой отчаянный вести.
- …чтобы вести за ломбером судьбу
- Двух рыцарей, вступающих в борьбу,
- Выходит вся сверкающая рать
- На бархатное поле воевать.
Глава первая
Буран
Пара понурых коренастых лошадёнок еле тянула на первый взгляд лёгкий рогожный возок с лубяным верхом и рваной дырой в кожаном переплёте ремней. Правил каурками неповоротливый густобородый извозчик в огромном собачьем тулупе, мохнатом волчьем треухе и в рукавицах-шубинках[25]. Боясь сбиться с пути, он, на чём свет, клял лихую непогоду и безотрывно буровил прищуренным взглядом снежную свистопляску на дороге. Буран свирепел и вскоре разбойничал люто и беспредельно. Даже широкие полозья возка не выдержали, шатко заскрипели, натужно застонали. Сильные порывы ветра били и зверски трепали в разные стороны задубевшую рогожу лубяного верха, грозя опрокинуть хлибкий возок в любой момент. Не прошло и получаса, как санный путь окончательно перемело. Возница запаниковал, рванул поводья и тут же въехал в невидимый сугроб. Возок наклонился, завис на минуту и рухнул набок. Лошади осели назад и отчаянно заржали. Бранясь и барахтаясь среди мешков, корзинок и саквояжей, из-под рогожи едва выполз ничего не понимающий, заспанный путник:
– Еремей, чёрт косорукий! Дубина стоеросовая! Править разучился? Зря я на тебя понадеялся. Брёвна тебе таскать по руднику на твоих клячах, а не в столицу извозом…
– Не моя провинка, Егор Михалыч, – озлился извозчик, помогая барину подняться, – зря грешите на мя! Ишь кака некать[26], аж полозья скособочило. Да и ветер прямо в рожу дует, все зенки снегом залепило.
И, вымещая на животине своё раздражение, больно огрел одну из каурок мёрзлым кнутом. Та вздрогнула, взбрыкнула и в ответ хлестанула хвостом извозчика наотмашь, прямо по глазам. Ерёма взъярился ещё пуще и заругался матерно и длинно.
Заводской управитель Егор Михайлович Арцыбашев, державший путь в российскую столицу, рассмеялся от души. Давненько он не слышал такой отборной брани. Шутя выгреб из-под воротника неприятно колючий снег и нацепил на голову свалившийся при падении лохматый малахай[27], длинный рыжий мех которого скрывал горячие угольки смешливых глаз, но нрав выдавал добродушный густой бас:
– Уймись, охальник. Лучше скажи, долгонько ли до Петербурга осталось?
– Да в прошлой станции смотритель сказывал, ишо версты три волокчись, – тут же утишил свой гнев возница и забубнил угодливо: – Не сумлевайся, барин, щас я обухом полозья-то выправлю, да гамузом[28] враскачку возок и поставим. Мешкать неколи, дотемна к месту добраться не худо бы. А то опеть от волков отбиваться, язви их…
Вскоре плечистый заводской управитель и дюжий ямщик вместе поднатужились, подняли повозку на полозья и погрузили заново поклажу. Разгорячённый барин полез внутрь выстуженного возка с опаской:
– Как бы не прозябнуть. Покрой-ка ты меня, Ерёма, ещё одной рогожкой.
Ерёма исполнил барскую просьбу и, взбираясь на облучок, тяжело выдохнул остатки ворчания в заиндевелые усы:
– Эх-хе-хех! Вам-то што? Барское дело какое? Полёживай в тепле да жуй барчу[29]. – Он зло потянул поводья. – Но! Растележились тут, вашу… А мне-то каково? От самого Ирбинского рудника сопли на хиусе морожу. Брюхо к хребту прилипат.
Кони прибавили ходу, и Ерёма вроде как оттаял, но продолжал занудливо бурчать:
– Токмо и радости, што барин деньгу справно платит да еду на станциях не жадобит. Но, родимые! Ужо и вам будет…
Арцыбашев и впрямь пошарил рукой в холщовом мешочке, перекусил сушёной маралятиной, пригрелся под рогожкой, закемарил и провалился в тяжёлый глубокий сон. И виделось ему, как там, в оставшихся далеко позади диких неприступных сибирских горах, стонали вековые кедры под мужицким топором. Хрипели покорные крестьянские лошадёнки и волокли из тайги по гнусной болотине тяжеленные стволы могучих дерев. Надсадно горбатились приписные крестьяне и каторжане, обгораживая новый рудник острыми кольями. Без роздыху рубили сторожевые башни, бараки, караульные избы, контору, мельню, пекарню и даже баню. Спешили до зимы поднять плотину и расширить устье реки, чтоб способней было сплавлять на баркасах руду до будущего завода. Прикованные к тачкам кандальники с ранней весны до седых заморозков корячились, таскали землю из тайги, укрепляя болотные зыби. И всё бы ничего, да приключился в тех местах великий мор. За каких-то девять дней все каторжане повымерли от сибирской язвы. Куда деваться? Батюшка отпел горемык всех скопом и освятил первый, без крестов и памятных знаков, погост колодников, что разместили в скальниках по правому склону Железной горы. И теперь ни работной силы, ни денег, отпущенных на вольный наём, не осталось. И Указа о заводе нет, как нет…
От беспокойства проснулся заводской управитель, выглянул наружу, окинул взглядом спокойную белую равнину и вздохнул: «Слава богу, быстро унялась непогода. Так бы дела государевы вершились. Ан нет, незнамо какой пургой, в каких чиновьих кабинетах наши-то бумаги кружит-метелит».
Свёл хмурые брови, прикинул в уме. Оказалось, уж пять годов минуло, как рудознатец Андрей Сокольский, узнав о кузнечном промысле Коссевича, открыл богатый железом Ирбинский рудник и отправил бумаги на высочайшее рассмотрение об учреждении там завода. Покуда ждали царскую печать, царёв советник Татищев, радетель за силу государства российского, взял и втайне отправил его, горного инженера Арцыбашева, на подготовительные работы. Пять лет! Сколько трудов, сколько жизней положено. А Указа нет как нет. Намертво остановилось дело.
Вспомнил, как в унылости напутствовал его Андрей Сокольский:
– Спознай, Михалыч, об чём они там наверху-то думают? Осталось дело за малым, начать и кончить строить завод. Чего с бумагами канителятся? Аль Расее железо без надобности?
И вот теперь Арцыбашев второй месяц добирается из Хонгорайской земли в Петербург, до управляющего Сибирскими заводами Василия Никитича Татищева. Потому как одна надежда на честь государева мужа. Уж он-то придумает, как сдвинуть дело с мёртвой точки да с мёрзлой кочки…
К полночи путники подъехали к городской заставе. Полусонный в вязкой дремотной тьме Петербург встретил их тяжким затаённым молчанием. Угомонились и отдыхали от суетного будня горожане. Лишь изредка взбрёхивали в глухих проулках одичавшие стаи бродячих собак, да кое-где на подоконниках подслеповатых окон скудно теплились лампы-маслёнки и жировки. Чай, не праздник огни лить да шумно гомонить. Только по великим торжествам, по высочайшему требованию императрицы Анны Иоанновны, и то нехотя, обыватели выставляли в окна домов по три-четыре толстенные восковые свечи и жгли до самой полуночи. В будни же петербуржцы обычно скаредничали, приберегали запасец. Рассуждали так: торжеств у государыни много, а разоряться на царскую прихоть приходится из собственного кармана. Но Зимний дворец, Адмиралтейство и потешный театр неизбывно блистали множеством ярких огней. Столица как-никак…
У дворца извозчик приостановил возок. Арцыбашев сдёрнул с головы лисий малахай и поклонился сверкающим царским чертогам и дворцовой страже, а Еремей облегчённо перекрестился:
– Слав те, Господе! Сохранил боженька живот наш! Домыкались до места.
Крикнул караульному:
– Служивый, а хде тута буде артиллерийска слобода?
Караульный неопределённо махнул рукой в сторону вдоль Невы. Ямщик уже веселее понукнул каурок, и они, предчувствуя скорый тёплый кров, легко затрусили к просторному рубленому дому с высокими деревянными колоннами.
Глава вторая
Татищев. Дела семейные
А в это время в опрятной, но не очень уютной петербуржской квартире пожилой вислобровый денщик Афанасий укладывал в постель хворающего барина, того самого управляющего Сибирскими заводами, царского тайного советника Василия Никитича Татищева. Он заботливо, по-бабьи, замотал болезного в собачью вязаную шаль и завалил тёплыми одеялами. И пока хлопотал вокруг него, безостановочно и сварливо выговаривал:
– Ишь каков! Все баре, как баре. Лежат себе на диванчике, калёны орехи грызут. А энтово всё носит куды-то по морозу и носит. Всё чевой-то хлопочет и хлопочет. Ни людям, ни себе спокою не даёт. Истинно говорю, бездомовник ты, Василий Никитич, и безбабник. Супруга твоя, разлюбезная Авдотья Васильевна, и та бездомовья твово не сдюжила. Потому и с игуменом Раковского монастыря снюхалась, блудом блудила. Пока ты по Сибири околачивался, она всё хозяйство твоё порушила, в прах раструсила. Одёжу не токмо твою распродала, а и деверя Ивана Никитича разнагишала. Видано ли сие дело? Хорошо, бабу отженили и под зад мешалкой наладили, а инако пузо от попа нагуляла бы? То-то посмеху было б!
– Полно тебе, Афонька, бабу гнобить. Лучше помоги хворь одолеть. Я великой старости ещё не достиг, а вся моя крепость уже изошла. Ткни – в прах рассыплюсь. Вон глянь, как язык к гортани прилип.
И он выпятил вялый, обложенный белым налётом язык, задышал натужно, в груди хрипло забулькало.
– Святые угодники! Страсть-то какая! Накось, похлебай малинова взвару с медком да пропотей как следоват. А как жар спадёт, в баньке тя пропарю. Глядишь, Бог помилует и на энтот раз, – загоношил ещё сердобольней денщик, но укорять барина не переставал: – Так скоко можа по чужим землям шастать? То в иноземье над науками невесть как изчахнулся, то в баталиях петровых ранами исходил, то на Каменном поясе хуже кандальника изробился, руды добывал. Весь иструдился, выболелся наскрозь! И чаво так вырабливаться? Пора уж угомониться.
Он прошаркал к ореховому секретеру, достал из ящичка уже распочатое письмо с искрошенной ногтями восковой печатью:
– Вон тебе цыдульку[30] дочка прислала. Прочтёшь али как?
– Худо мне, башка шибко трещит. Сказывай сам, всё ли ладно у Евпраксиньи?
– Да вроде на мужа не жалобится. Холит её, почитает как супругу. В доме не скудно. Чево ишо бабе нужно? Пишет, што очреватела[31]. Отрезанный ломоть, почитай, своей семьёй живёт. Но братца свово, отрока малолетнего, которого ты в Кадетский сухопутный корпус спровадил, намедни проведала.
– Здрав ли сыночек? – с опаской высунулся из-под одеяла Татищев.
– Слав те Господи, крепенек Евграфушка! Похвалялась, што в учёбе досуж и служит бравенько.
– Пусть, пусть с младых ногтей учится быть полезным Отечеству, – прочувствованно изрёк измученный потом советник, сморкаясь в носовую утирку. – Оно и мне не будет стыдно за отрока.
Афанасий убрал письмо и недовольно засопел. Прошаркал к порогу, присел на низкий табурет и взялся яростно надраивать промасленной тряпицей грубую кожу барских ботфортов, найдя в них новый объект для брюзжания:
– И хде, сударик, ты только умудряешься так чёботы изгваздать? Да рази это обувка? В слякоть ещё туды-сюды, а в стужу надобно в пимы переходить. Не молоденький ужо. Подагру-то свою холить надось. И башку поберечь тож.
Он язвительно скосил глаза на подставку с взъерошенным париком и напяленной на него зелёной треуголкой.
– Ладно бы на царицыно вылюдье вычембариться[32], а на обудёнку надоть треух меховой носить. – Он скривил пренебрежительно назидательную гримасу. – Треуголка хуть и фасониста, да только в ёй ухи наголе и морда на студёном ветру. Тут и на пукли нет надёжи. Они для красы можа и хороши, а башку всю вызнобит.
Полюбовавшись блеском голенищ, аккуратно поставил ботфорты со стальными подковками в угол, поднялся и с чувством исполненного долга перекрестился на образа:
– Прости, Господи, и помилуй мя, грешного…
Вдруг на первом этаже хлопнули парадные двери.
Глава третья
Нежданный гость
– Хто там ишо прётся? – снова посуровел Афанасий, прервав молитву. – Ломятся бесперечь все, кому не лень, и бездокладно косяки сшибают.
В дверном проёме спальни возникла огромная медвежья доха на чёрных ичигах[33]. Из-под рыжего меха лисьего малахая загудел добродушный бас:
– Василь Никитич, принимай нежданного гостенёчка из многорудной матушки Сибири.
– Егор Михайлович! – ахнул Татищев, спешно выпутываясь из груды одеял. – Друг ты мой сердешный! Вот уж кого не ждал ныне, чаял к лету возвернёшься. А я, вишь, неурочно расхворался.
– Куды, куды с холоду-то лезешь, окаянный! – закудахтал на гостя рассерженный Афанасий. Но Арцыбашев, скинув с плеч негнущуюся доху прямо на пол, оставшись в овчинном полушубке, широко шагнул в комнату. Отодвинув плечом гневливого денщика, нагнулся и сгрёб в охапку Татищева.
– Ну, глянь на него! – радостно просипел тайный советник. – Медведь медведем, а не горний офицер. Разболакайся давай, а то упреешь в шубе.
Арцыбашев бережно усадил болезного на край кровати, прикрыл плечи одеялом и только потом снял крытый шинельным сукном полушубок. Гоголем прошёлся перед Василь Никитичем в чёрной «сибирке»[34], синей полотняной косоворотке и широких плисовых шароварах.
– Хорош молодчик, неча сказать! – восхитился советник. – Совсем очалдонился потомственный дворянчик. И перевёл просительный взгляд на денщика: – Афоня, сделай божью милость, определи возчика в закуть да прямо сейчас истопи нам побаниться. Егор Михалыч косточки отогреет, а я подлечусь.
Денщик подобрал брошенные вещи и, не переставая бубнить, вышел из комнаты распорядиться по хозяйству.
– Ну, пока денщик управляется, давай-ка трубки пососём. – Татищев вздохнул и достал из-под перины затейливую глиняную трубку, набил табаком, жадно закурил. И тут же забухал сухим кашлем. – А ты в оконце-то поглядывай, как бы не захватил врасплох. Я ведь втайне, он мне курить не дозволяет. Итак, грит, вздыхательные гнилые, так ещё от чёртова зелья чахнут. Прознает, потом целый день будет зудеть и зудеть. Всю душу на кулак вымотает попрёками. Вреднючий, изверг, как тыща чертей!
– Дивлюсь я на тебя, Никитич. Что-то, однако, ты много потакаешь прислуге! – шутливо возмутился горный инженер, набивая свою трубку, сделанную из сибирской лиственницы. – Прямо не на шутку верх над тобой взял. Батожья бы ему не мешало б.
– Твоя правда, Егор Михалыч, шведа под Полтавой так не опасался, как его. Да токмо не за слугу Афанасия держу, а за боевого товарища. В той полтавской баталии он меня, раненого, из-под пушечного огня на себе выволок да в лазарете, как дитё, выпестовал. Я ведь тогда отроком был, а он – мужиком уже. Отслужил, возвернулся в родную деревню, а там ни кола ни двора. И родня его уже похоронила. Вот Афоня и повалился ко мне в ноги: «Не гони, мол, сирота кругом». С тех пор остался при мне денщиком. Пожил-пожил да на стряпухе моей и женился. Так к дому навек и прилепился.
Советник снова закашлялся, громко чихнул и в сердцах выбил трубку:
– Не могу сегодня, так и вертит чих в носу. – Аккуратно обтёр её тряпицей и упрятал в потаёнку. – А ещё, мил друг, Афанасий вывел меня из беды, когда проведал, что моя лиходейка-жена по тайному сговору с полюбовником травить меня беленой умыслила. Аки пёс цепной по пятам за ней ходил, доглядывал. Куска мне не давал в рот положить, покуда сам не спробует. О как! А ты говоришь, «батожья-я».
– Ладно, ладно. Не прав. Прости великодушно, – пытался успокоить обиженного хозяина заезжий гость. Но тщетно. Тот уже защищал своего «домового» в полный голос, срываясь то на хрип, то на сип:
– А как мы с Авдотьей Васильевной развенчались, то и обиход домашний вёл, кажну вольну копеечку берёг и за чадами моими доглядывал. Я-то веселюсь одной службой, и впрямь бездомовник, всё по государевым делам в разъездах. А на Афоне вся крепость моего дома держится…
В двери появился недовольный денщик, ворчливо осведомился:
– Вечерять пора. Гостя побасками, чай, не кормят. Накрывать, штоль? – И, не дожидаясь ответа, начал метать фарфоровые тарелки на льняную скатерть. А через минуту его грозный рык уже гремел в поварне, над головой жены: – Акуля, чаво копаешься, аки вошь в коросте? Колготись живей, господа ясть изволят.
– И то верно, – засуетился среди одеяльных холмов Василий Никитич, с трудом поднялся, накинул на плечи одно из одеял и зашаркал к столу. – Не ради компанства, а приятства для по святой чарочке пропустим да о делах грешных потолкуем…
«Сдаётся мне, что и впрямь токмо потолкуем. Куда ему «в бой» со своей хворобой?» – пронеслось в голове Арцыбашева. И тут же припомнил дорожную примету о непогоде: «Коль застало в пути ненастье, знать, и счастье не скажет «здрасьте!». Но, понимая, что никто другой всё равно делу не поможет, решил набраться терпения и идти до конца. Зря, что ли, такой путь одолел?
Глава четвёртая
За секретною беседой
– Будь здрав, Василий Никитич! Без тебя сибирскому прожекту как есть погибель. – Арцыбашев ухнул первый бокал в один присест, обтёр губы и возбуждённо продолжил: – А ведь мы работали без разгиба! В плотине уже сделали прорез для спуска воды, временные доменные печи заложили. Склады для древесного угля построили. Да всё почти готово к строительству завода. Токмо дело за Указом и осталось.
– В том-то вся и закавыка! – нахмурился тайный советник. – Пылится Указ наш среди неподписанных бумаг. Не до него чинушам. В какое присутственное место ни ткнись, везде кресло греет зад немчина. – Татищев тоже разволновался, налил по второй. – Эта хвороба посильней моей будет: у трона да в департаментах – везде немчура мышкует. Они и Расеей правят, и барыш под себя гребут, и мзды обильной требуют. А без того ни одной нужной бумаге ходу не дают. Не нужна им сильная Россия. А слабую – без зазору и страху оббирай, сколь мошна потянет. – Причмокнул, выпив винного зелья, и погрозил куда-то наверх: – А всё Бирошка! Как воскрылился этот подлый курляндский конюх до фавора с самой императрицей, так всё и почалось.
Татищев прихватил вилкой кусок печёной телятины, поднял перед носом, объясняя ситуацию гостю на «натуре»:
– Это телок Бестужев-Рюмин маху дал! Вишь, угораздило его прихворнуть да отъехать к бабке-ворожее, что от мужеской немощи заговорами да травяными снадобьями лекарничала. – Советник положил кусок мяса на тарелку поодаль. – А что Анна? Она хоть и царица, а всё же баба. Помаялась ночку, другую… – Лоснящаяся стерлядка легла на передний край посуды, а рука советника потянулась за соусом из хрена. – Вот тут-то смазливый студентишка-недоучка из Кенигсбергского университета вовремя подсуетился и вспрыгнул козликом в царско ложе. Там-то его, как негожего к наукам, за шумство и воровство из стен вышибли, а здесь к царскому двору пришёлся.
Никитич отправил стерлядку в хрене себе в рот, гадливо поморщился и, яростно жуя, перешёл на шёпот:
– И так, бугаина, удоволил царицу, што стал единым марьяжным куртизаном[35] порфироносицы. Каково! – И он подтянул ближе кусок телятины. – Одыбался Петрушка, ан нет, уже поздно. Курляндский бычок ему рога наставил и бодаться норовит. А рога у канальи уже не простые, а золотые. Рази дурак он нагретое место уступать бывшему куртизану. – Татищев распрямился, взял нож и начал аккуратно отрезать кусочек, с издёвкой комментируя дальше: – Порвал-порвал Петруша на голове волосья, да с тем и получил полную отставку. Вот так-то!
Татищев закинул мясо в рот, отставил тарелку в сторону, запил обиду вином и потянулся к вазе с фруктами:
– А вслед за Бирошкой потянулись другие инородцы: датчане, пруссаки, вестфальцы, голштинцы и ливанцы. Отеческому человеку на родной сторонушке уже ступить некуда. И вот это всё мы теперя хлебаем полной ложкой…
Советник резко стянул с груди салфетку, бросил на стол, тяжело встал, скинув одеяло, заложил руки за спину и заходил в волнении туда-сюда:
– А царица им благоволит, во всём жалует. Уже казна государева в ущербе, дворянство и купечество оскудели, крестьянин по деревням грызёт кору, мрёт с голоду. А биронщикам всё мало и мало. Зато поперешников казнят немилосердно! Кутузки забиты несогласным людом. На площади – окровавленные помосты да виселицы. Кликнут «Слово и дело»[36], а там и тайная канцелярия. – Советник остановился за спиной Арцыбашева, наклонился к уху: – Вот шепнёт кто туда словечко об нашем с тобой разговоре, так не миновать и нам топора палаческого.
Арцыбашев многозначительно скосил глаза в спину хмурого денщика, повернувшего свои стопы к кухарне за очередной бутылкой ягодной наливки. Но Татищев махнул на него рукой, обнадёжил:
– Не смотри, что он ворчун такой, язык за зубами на амбарном замке крепко держит. Сам Ушаков из тайной канцелярии из него хулительного слова клещами не вытянет. Афонька сдохнет под кнутом, а слова зловредного не сронит. В нём я боле, чем в себе, уверен.
И снова плюхнулся на стул, вытирая обильный пот с порозовевшего уже от вина, раздражённого лица. Арцыбашев кивнул согласно и потянулся за жирной севрюжкой, осторожно заметив:
– Слышал я, Василь Никитич, горнозаводчики Демидовы и в нонешние времена весьма преуспевают?
– Верно, под Бирошку-то они ловко подладились, умаслили его щедрой деньгой. Бирошка этот только три первых года тишком деньгу казённую прибирал, а ныне совсем распоясался. Те выгодой для себя дают, этот – уже без утайки лопатой гребёт. Так чего им лаяться-то? Одного поля ягода! – ядовито фыркнул Татищев и громко высморкался в салфетку. – Эх, а какую мне-то Демидовы мзду со-о-вали, чтоб я казённые заводы на Урале не учреждал! Ан нет, не на того напали! Накося, выкуси!
Никитич сложил в салфетке фигуристую дулю и покрутил ею в воздухе перед носом сконфуженного гостя. Опомнился и погрозил пальцем теперь уже невидимым заводчикам:
– Я, брат, всё помню. Как с мздой обломились, так донос на меня самому государю Петру настрочили. Мол, подлец Татищев устроил заставы и не пропущает подводы, отчего работные людишки на их заводе от бесхлебицы мрут. Да ещё, мол, энтот «тать» взял да и отнял пристань на реке Чусовой! Ах, кака бяка Татищев! – Он широко всплеснул руками и горячо подытожил: – Нет, не по нраву Демидовым у себя под боком казённые заводики иметь. Вот они препоны[37] и чинят…
И Татищев повёл новый рассказ, вспоминая, как ещё в петровские времена безнаказанно вставляли Демидовы палки в колёса при строительстве казённых заводов, даже почту тайную и ту перехватывали. Да как по их оговору, его, государева мужа, стыдно отстраняли от должности и отдавали под суд. Хорошо, тогда сам государь не оплошал, послал честного советника Георг Вильгельма Генина для расследования поклёпа демидовского. Покопался-покопался дотошный голландец и убедился в правоте Василия Никитича: и заставы были устроены по требованию сибирского губернатора, и пристань Татищев по праву отнял, потому как она построена Демидовыми самовольно на казённой земле, и мзды советник не берёт. И хотя Генин недолюбливал задиристого русина, но всё же не только обелил его от оговоров в глазах вспыльчивого и скорого на расправу царя, но даже убедил Петра назначить неопытного, но расторопного молодца директором всех сибирских казённых заводов. С тех пор и нашла Татищева «коса» на Демидов «камень».
Слушал сибиряк, слушал и всё реже тыкал вилкой, теряя не только аппетит, но и последнюю надежду: «Господи, на кого же уповать, коль таким государевым мужьям цены не ведают?» Кто-кто, а уж он, заводской управитель, понимал, что «птенец гнезда Петрова», ярый сторонник казённых заводов, не мог спокойно смотреть, как хиреет и разоряется горнорудное дело и что лихоимцы Демидовы верх берут. Теперь у них уже за пазухой четырнадцать собственных заводов! А тем временем казённые на Урале сильно числом умалились. «Что ж такое деется-то, Господи!», – задохнулся возмущением, но, увидев без меры потное лицо, дрожащие руки и праведный гнев в глазах советника, попытался по-своему успокоить его:
– Полно досадовать-то, Василь Никитич. Демидовские много руды добывают. Так не в пример казённым заводам и вдвое боле железа льют.
Зря сорвались эти слова с языка горного инженера. Не знал, не ведал сибиряк, что Татищева на днях чуть удар не хватил, когда царица по бироновскому наущению именным указом вывела заводы демидовские из ведения Берг-Директориума и утвердила их в праве вольной распродажи железа и чугуна по своим рваческим расценкам. Да ещё вдобавок ту самую пристань на Чусовой им возвернула…
И оттого слова Арцыбашева кольнули советника как шилом в бок. Он взвился с места, отшвырнул от себя вилку и забегал в горячке вкруг стола, сшибая на пол посуду:
– Окстись, Егор Михалыч! Вырос ты с осину, а ума – на волосину. Да ежели бы комиссары, кои оными заводами ведают, не бездельничали, а управляли толково, то доход был бы не менее демидовского. – Он резко остановился возле гостя, положил руки ему на плечи, заглянул в глаза: – На тебя, Егор Михалыч, у меня есть надёжа. Да где ж набёрёшься на кажный казённый заводик по Арцыбашеву. Вот в чём беда!
И снова сорвался, обежал круг, налил в бокал водки, выпил залпом и устало свалился на стул. Арцыбашев молча подал ему солёный огурец и потупил виноватый взгляд:
– Уж больно ты осерчал, Никитич, охолонись маненько. Это я так, к слову брякнул. А ты прямо весь и взъерепенился.
Татищев огляделся, увидел, как денщик хмуро подбирает осколки фарфора и столовое серебро, услышал его боязливо-упрямое ворчание:
– А я-то уж грешным делом испужался, кабы тя, барин, припадком не дёрбануло, прости Господи! – перекрестился тот на образа и глухо спросил: – Чай подавать? Али в баньку сперва?
– Да погоди ты с чаем! – махнул раздражённо барин. И, заметив растерянность Арцыбашева, укоротил свой гнев: – Прости, Егор Михалыч, что-то я не в себе сегодня. – И тут же продолжил уже спокойнее, заправляя чистую салфетку за жабо: – А ты сам рассуди. Демидовы ничуть не лучше иноземцев, токмо свой шкурный интерес и блюдут. Вкупе с ними без стыда раззоряют казённые заводы. Не зря говорится: «Худа та птица, которая в своё гнездо гадить не боится»…
Татищев неожиданно сник, старчески ссутулился и прохрипел осипшим голосом:
– Афоня, как там баня? Очищенья жажду. Смыть желаю всю эту жизненну мерзость…
Глава пятая
Чудская диковинка
Арцыбашев искренне порадовался перемене, думая, что советник успокоится, наконец, пустив под калёный веник все надрывные переживания, и первым пошёл за саквояжем с вещами.
Но не тут-то было. И когда шли в парилку, и когда лежали на полке, грея телеса, советник не унимался и продолжал возмущённо сетовать:
– Сколь годов я постигал тайности горнорудного дела? На Кунгуре и в прочих местах со-о-рок серебряных и медных заводов открыл. А кого над мной царица учредила? Какой-то дрянненький Бег-Директориум, а во главу его выскочку иноземную – Шомберга! Вошь Саксонская! В горном деле разбирается, как свинья в апельсинах. Представляешь, Егор Михайлович, – Татищев поставил на «попа» рядом лежащий берёзовый веник и расщеперил ветки, – рудные искатели животики надорвали, когда получили от него распоряжение искать руды в местах, где у деревьев сучья от мороза раздвоились или там, где роса на лугу на восходе лежит.
И он стряхнул на инженера горячие брызги. Тот вздрогнул от неожиданности, но продолжал лежать, млея от жара и навалившейся усталости. Тем временем Афанасий колдовал над вениками, паря их в отдельной кадушке. Чуть поддавая на каменку, тряс пузатый веник, набирая в него горячего воздуха и ласково шурша берёзовым листом по разогретому телу барина. От приятности тот стал говорить медленней, нараспев, но тему упорно не менял.
– А всё отчего-о-о? Покровитель ему – Би-ро-о-н! А тому спосо-о-бнее через Шомберга себе и немецким родичам заводы вы-ы-хитрить. Вон теперь ужо и к богатейшему руднику Благода-а-а-тному лапы загребущие протянул.
– А ну, как и наш заводик приглянётся? – опасливо вскинул голову от полка Арцыбашев.
– Эт верно, захочет сено коза, так сразу и будет у воза. Но пока нет регламента, Ирбинское железо ещё послужит России. Это я тебе обещаю. Хотя, сам понимаешь, полушечки[38] с каждого пудика всё одно отсыпятся Бирону в секретну кубышку. Не без того! У него ведь потайная подкладка дороже кафтана[39]. На что-то же ему надо покупать именья в Польше и Германии, конские заводики, экипажи…
Татищев угрюмо кивнул денщику:
– Ну, Афоня, начинай, а то совсем ослабну, не выдержу.
Денщик только того и ждал, подправил веничек, взял другой и пошёл хлестать двумя руками по очереди. Барин охнул:
– Вот, вот. Терзает Рассеюшку, аки жертву беззащитную, курляндское чудище быкоголовое… – А когда Афоня отстегал своё, еле поднялся, выдохнул и воинственно пообещал: – Но я ещё тот поперешник, пободаюсь с златорогим Минотавром за наш заводик. – С помощью денщика сполз с полка и побрёл в предбанник к кадушке с водой. По ходу повелел: – Сам охолонусь. А ты поддай-ка ещё парку гостю! Ажно чтоб уши в трубочку заворачивались! – И хитро улыбнулся разомлевшему Арцыбашеву: – Ну, друг мой ситный, держись. Аки попотеем, так и умом просветлеем.
И только Афоня взялся за гостя, как тот, покряхтев и постонав с минуту, вдруг вскинул голову:
– Батюшки святы! Совсем запамятовал! Да погодь ты, Афоня, передохни малость. – Он торопливо слез с полка и поспешил вслед хозяину: – Никита Васильевич, я что вспомнил-то…
Татищев отдыхал, попивая ядрёный квасок из деревянного ковша.
– А я что говорил? Эк ты скоро умом просветлел, однако. И что за спешка такая? Хуть обмойся для начала, да кваску медового спробуй. Знатный квасок-то.
Арцыбашев отмахнулся от протянутой кружки с квасом и, нетерпеливо заворачиваясь в белоснежную простынь, с придыханием заговорил:
– Я же какой гостинец тебе привёз! От абаканского воеводы Римского-Корсакова.
Он бросился к своему дорожному саквояжу, вытащил холщовый свёрток, отодвинул в сторону бочонок с квасом, осторожно развернул холст и хлопнул ладонью: – Вот! Глянь-ка, это наш Хонгорай, где, даст бог, и будет учреждён Ирбинский завод. Ну как?
Татищев, разглядывая холст навроде карты с нарисованными идолами, задумчиво спросил:
– Что за языки там проживают? Я ведь дале Урала в тех местах не бывал.
– Мы их зовём татарами, а оне себя хоораями кличут. И вправду чудный народец: живут в войлочных круглых избах, хлеба не сеют, животину разводят, навроде башкыр. А князья их, как магометяне, несколько жёнок имеют. Один их князёк, по прозвищу Курага, мне затейную вещицу преподнёс. Хочу её своей сестре любезной подарить. – Арцыбашев снова нырнул рукой в карман саквояжа и вытащил серебряные серьги с коралловыми бусинами, с двуглавыми рублёвиками и алыми шёлковыми кисточками. Каждая из серёг соединялась фигурной тоненькой цепочкой. Всё это сверкало и переливалось ювелирной ремесленной красотой и магией непонятных знаков.
– Затейливая диковинка, – невольно залюбовался Татищев. – А ежели и впредь такие куртиозные вещи у вас будут найдены, то отправляй их сразу в Академию наук. А коли там награждение дать не изволят, то я, не жалея своих денег, буду давать.
И тут советник просветлел взором и затаённо усмехнулся:
– Похоже, и мои мозги русская баня ладно пропарила! Вот что, сударик, задержись-ка ты у меня на некое время. Прожитьё определю в боковушке. А завтра я сызнова толкнусь к государыне с Указом. Спыток – не убыток. Авось отбудешь до рудника с подписанной бумагой. – И крикнул денщику: – Афоня, примай гостя на второй заход! А то и ночь уйдёт, сон уведёт…
Глава шестая
Царские покои
В эту же ночь в царской опочивальне было душно и чадно от обилия коптящих светильников и жарко натопленных печей. Истеплились восковые свечи у золочённого резного киота с иконой Иверской Божьей Матери. На стене отсыревшие парсуны-портреты матушки Прасковьи и царя-батюшки Ивана пялились малёванными очами в затуманенные стенные зеркала. А их дщерь, тучная Анна Иоанновна, возлежала на широкой кровати под вишнёвым балдахином. Рядом на паркетном полу прикорнули утомлённые шуты, горбуньи, уродливые карлицы и ветхие старухи-приживалки. Угомонилась и мартышка, привязанная к ножке стола. Весь день она потешала царицу и дворцовую челядь: задирала гладкий серый хвост над мерзким задом и гнусно чесала срамные места. Наконец-то охрип и упрятал голову под крыло горластый белый павлин. Порфироносца дремала. Девка Дарья Долгая на сон грядущий старательно чесала ей жёлтые шершавые пятки, а фрейлина Щербатова забавляла государыню очередной похабной сказкой:
– Издревле в одной деревне жили муж да жена. Жили они весело, согласно, любовно. Но мужик был хлибый, а жонка – кровь с молоком! А блудлива, не дай боже! За чёрта отдай её, и того уходит. Вот и заездила, ухайдакала мужа. Не сдюжил мужик, помер. Бедная баба горевала безутешно, и день ото дня ей всё пуще становилось невмочь. Вдовье дело горькое, сиротское. Тогда пошла она на погост, обняла крест и возопила: «Лежишь себе умруном[40], а кто меня ласкать-голубить будет? По чужим дворам просить зазорно, злые бабы за космы оттаскают. Приходи же, друг сердечный, да люби меня, аки живой!»
– Айлюшеньки-и! – ахнула, испуганно всплеснула сухими ладошками карлица и торопливо закрестилась на образа: – Спаси Христос, чё деется? Рази можно упокойников тревожить, да по такой надобности? Беспременно жди беды.
– Ну, зашамкала, дура! – одёрнул свысока Тимофей Архипович, сумасбродный подьячий с продувной рожей, в алой атласной рубахе навыпуск и серых растоптанных валенках. – Балясничаешь без понятия вздор всякий. У худого мужа баба и та по блудням затаскана, а тут и вовсе вдовица. А вдовица – не девица. Своя нужа! Нет её хужа! – и блудливо заподмаргивал слезящимся глазом императрице, хотя дворцовые суеверцы его за святого пророка почитали и лапы волосатые почтительно лобызали.
А дурковатый шут Михайло Голицын перекувырнулся через голову, по-петушьи захлопал крыльями-руками, глумливо заблажил:
– Ку-ка-ре-ку-у! Встану рано поутру, найду куру по нутру, да с пригожим личиком, чтоб снесла яичико. Ку-ка-ре-ку-у!
– Вдовье дело терпеть, чтобы сраму не иметь, – пискнула карлица.
Анна Иоанновна шумно высморкалась в розовый с шёлковыми кистями атласник[41], пнула в горб толстой ногой старуху и грозно приказала:
– Никшни, дура! Заверещала! А ты, графинюшка, чаво ополоротила? Дале балакай.
– Так вот, с вечера в избе баба улеглась на палати, да не спится ей. Телеса словно огнём жжёт. В полночь – стук в дверь. Встала баба, отворила, а там мужик ейный. Стоит как вкопанный. Бле-е-едный, в саван обёрнутый, с гробовой доской под мышкой. Она, дура, и рада-радёхонька! Отбросил он крышку гробовую и в избу. Повалил бабу на пол, задрал подол и любился с ней до красной зари, а как запел первый петух и осветилась изба, встал упокойник и, ни единого слова не говоря, ушёл. Жонка ажно омертвела и тут же отдала богу душу. – И фрейлина угодливо захихикала.
– То не мужик ейный был, а беспременно чёрт! – не унимался, крестясь, провидец. – Надо было оборониться от нечистика.
– Одна баба, сказывают, спаслась, когда упокойник к ней повадился по ночам ходить, – вставила Дарья Долгая, скобля длинным ногтём огрубевшую кожу на пятке царствующей вдовицы.
– Как же это? – округлила робкие глазёнки карлица.
– Чахнуть стала, ей добры люди возьми и подскажи, чтоб начертала она святые кресты на окнах и дверях. Пришёл муж-покойник, походил, походил вокруг избы: «Нет мне ходу. Видать я, горемычный, не люб боле супруге». Заплакал и побрёл обратно в могилку. И боле не приходил.
– Вон! – дёрнула царственной ножкой Анна Иоанновна, не открывая глаз. Все затихли, переглядываясь в непонимании. – Пошли вон! – вскинула руками царица и брызнула гневом царственных очей. Вмиг заколыхалась телесами, зашуршала юбками, зашоркала бархатными туфлями вся приблудная челядь. А вдовствующая императрица, озлившись на последние слова Дарьи, вновь впала в дрёму, но заснуть долго не могла, вспоминала своего покойничка – Курляндского герцога Фридриха-Вильгельма…
Суровый дядька Пётр Великий выдал за него замуж семнадцатилетнюю племяшку из политичного интереса. Дебошир и забулдыга Фридрих-Вильгельм от беспросыпного запоя, учинённого на радостях, окочурился всего-то за пару супружеских месяцев. Потому и дивилась в дремоте царица: «Почитай, двадцать годков минуло, и думки-то про него давно из головы выкинула, а поди ж ты, явился!» И уже в глубоком тревожном сне видит она: сидит будто бы герцог за богато накрытым столом, можжевеловую водку без меры хлещет, гостей потчует, её в уста целует. На перст ей кольцо обручальное напяливает. А она, молода девица, почему-то одета в чёрное свадебное платье и прячет лицо под траурной кружевной вуалью. Берёт Фридрих-Вильгельм обрученницу за пухлую рученьку и торопливо ведёт в опочивальню. Глянула она, а брачное ложе сырой землицей присыпано. Вскрикнула молодая и отпрянула от мужа. Осерчал супруг, ногой топнул, очами засверкал и на стекле зерцала перстом кроваво начертал: «На сём месте погребено тело рабы Божия Анны Иоанновны сего 1740 года, октября 17 дня, всего жития ей было 47 лет». Погрозил кулаком и растворился в сиянии зеркала.
В холодном поту проснулась монархиня, долго возлежала в постели недвижима, с мятым желчным лицом. Дворцовая челядь замерла, попряталась по углам: царица в дурном расположении духа. А когда соизволила встать с пышного ложа, то немытая, нечёсаная, в мрачном раздумье пошла шагать взад и вперёд по комнате. Тут-то ей под ноги и подвернулась карлица-хромоножка. Убогая несла пустое серебряное ведёрце, ибо её усердная дворцовая служба состояла в том, чтобы подтирать бархоткой капли, которыми павлин щедро усеивал дубовый мозаичный паркет. Анна Иоанновна внезапно остановилась и трижды сплюнула через плечо: «Тьфу! Тьфу! Тьфу! Плохая примета!» В гневе надавала оплеух дурнушке, оттаскала за жидкие волосёнки и наткнулась взглядом на провидца. Отбросила в сторону сопливую карлицу, прищурилась и поманила державным пальцем перепуганного вусмерть подьячего:
– Поди-ка сюды, ряса волосатая. Чай, недаром хлеб мой жрёшь? Покойник-супруг привиделся, шибко грозен был. Оглаголь мне, Тимофей Архипович, к чему сон сей ужасный?
– К худу, матушка, к худу! Знать, шибко заскучал по тебе упокойничек, – закатил глаза и запророчил Архипыч. – Ну, я беду-то неминучую отведу. Просунь, матушка, левую ножку через порог в приоткрытую дверь, перекрестись и скажи: «Куда ночь, туда и сон. Как не стоит срубленное дерево на пне, так и не стал и сон по правде».
Пасмурная царица суеверно повторила, отыграла левой ножкой на пороге, отчего несколько развеселилась и принялась за утренний туалет, не отпуская от себя подьячего:
– Чего примолк? Поведай, как с покойником управляться будешь? Одним шепотком от судьбы не отпрыгнешь, – она с опаской глянула в зеркало, но, увидев только своё отражение, с придыханием открыла любимый ларец.
Подъячий, увидев сияние, идущее из нутра изящной вещицы, оторопел и онемел на время, ибо впервые был допущен на ритуал, благоговейный для любой женщины, но для Анны Иоанновны – невероятно сакральный и гипнотический. Нарочито долго, с мягкой улыбкой и любовным блеском в глазах, она пропускала сквозь короткие пальцы драгоценные цепочки, нанизывала золотые перстни, прикладывала к пористой, умащённой терпкими жирными благовониями коже перламутровые нити крупных жемчугов и, наконец, примеривала ослепительную корону венценосицы в искромётной россыпи алмазов. Магия драгоценностей, как ничто другое, поднимала настроение на должную высоту и вселяла дух державной властительницы в каждую пору грузного тела, а особо – в надменный взгляд крошечных глаз, сродни холодным бриллиантам.
– А ещё пожертвуй энту вещицу, – отошёл от заморока подьячий, понял, что снизошла и до него минута счастья, ткнул заскорузлым пальцем в брошь с дорогими каменьями. – Не пожалкуй, матушка! А я её ныне в полночь снесу на погост, зарою в сыру землицу. Столкуюсь с мертвяками, штоб уломали мужа твово, чтоб не пужал тя. Накажу им, штоб передали упокойничку: «Не ходи до жонки, срок придёт, она сама к тебе придёт». – Он суетливо обежал царицу с другой стороны и прошептал заискивающе сухими дрожащими губами: – Да червончиков отсыпь откупиться, а то уволокёт допрежь времени в могилку-то. Всё сварганю, как надоть, – поднял длинный палец, повернулся к образам: – Далече я зрю! Така сила мне Господом дадена! – перекрестился и снова юлой к царице: – Аль сумлеваешься? Небось помнишь, до того как ты императрицей учинилась, я тебе корону провещал?
Анна Иоанновна поколебалась, но отдала знатную драгоценность и щедро отсыпала рублёвики в алчно протянутые ладони. Шут Михайло Голицын, сидевший тихонько в ногах императрицы, вдруг взвился с пола, закривлялся, вспрыгнул на плечи подьячего, задрыгал ногами:
– Кудах-тах-тах! Севодня праздник, жена мужа дразнит, на печь лезет, кукиш кажет: «На тебе, муженёк, сладкий пирожок, с лучком, с мачком, с перечком!»
А потом скинулся с него, встал столбом перед зеркальным отражением царской особы, прояснел взором и вполне разумно тому отражению глухо изрёк: «Полно тебе, государыня, в забобоны[42] мохнорылого верить. Царско ли дело у судьбы на потычках быть? Ишь как без чуру[43] прощелыгам сыплешь деньгой. Целый бурум[44] без счёта отвалила. Казна государева, чай, не безмерна».
Царица обомлела, узнав загробный голос мужа. А может, почудилось…
Глава седьмая
В тронном зале. Дела государственные
И только к обеду вышла Анна Иоанновна в тронный зал принимать министров, которые с утра маялись в соседних апартаментах, дожидаясь высочайшей аудиенции. И снова в её окружении горло драл павлин, прыгала по полу вертлявая обезьяна, прислонился к трону и задремал мудроумный шут и совал для поцелуя волосатую лапу под нос вельможам провидец Тимофей Архипович. Без них никуды. Вот и теперь они скрашивали царице зевотную скуку сидения за бумагами, которые подавали ей иностранцы-министры, а она, не глядя и не читая, равнодушно подписывала их.
Но, мельком увидев, что в дверях появился тайный советник Татищев, повела недобро бровью и нахмурилась. Тот сразу заметил недовольство государыни и дипломатично перевёл свой взгляд на прикорнувшего у трона шута, обнимавшего бочонок кваса. Пожалел втайне «князюшку»: «Горькая ирония рока! До чего же уничижон потомок знатного рода! Дед его Василий, галант[45] царицы Софьи, при троне почётно сиживал, а внук полы штанами протирает в шутовском наряде! Ещё и службой лакейской обременён – обносить гостей русским квасом. За то и прозвали «Квасником». Как тут умом не тронуться?»
Василий Никитич бережно обошёл блаженного, а протянутую встречь лапу Архипыча брезгливо оттолкнул. Зато хотя и с трудом, но прогнулся в нижайшем поклоне царице. Застарелый «утин»[46] мешал раболепствовать внагиб. Стерпел и, опахнув помазанницу буклями пудреного парика, умильно облобызал смуглую короткопалую длань. Царица, не умаляя строгости, спросила:
– Опять, Василь Никитич, пришёл суемудрыми прожектами нудить меня? С чем на этот раз пожаловал?
– Я экстактно[47], государыня-матушка. Приложи царственную ручку, подпиши Указ о строительстве казённого Ирбинского железоделательного завода в Сибири. От него большой прибыток казне будет, ибо великое «сокровище» на счастье Вашего Величества там открылося. По расчётам, завод может давать до двухсот тыщ пудиков железа. Дай, матушка, на учреждение двадцать пять тыщ рубликов. – И увидев, как помрачнел взгляд императрицы, зачастил улещая: – Пусть даже и не вдруг, а хотя бы частями. Лет через пять, и даже ближе, траты с лихвой окупятся. Сама посуди, на добычу пуда железа потратим двадцать копеек, а продадим пудик – за сорок. Казне – прибыток! И имя Вашего Величества в бессмертность войдёт.
– Что за предерзкая докука, Василь Никитич! Мало ль нам других заводов и Благодатного рудника? – не сдавалась правительница. – Да на кой ляд така прорва железа? Ишь, чего умыслил? Казну государеву впуливать на свои химеры! – Она сердито топнула ногой. – Железных заводов вновь до моего указа строить не велеть! – и отмахнулась от советника, как от надоедливой мухи: – Да и что ты, Никитич, взялся через голову-то всё скакать? Покажь сию бумагу Берг-директору Шомбергу. А ещё лучше б ты озаботился изысканием дорогих каменьев для императорских особ. Обмыслите с ним это дело. – И милостиво добавила: – Впрочем, как-нибудь ввечеру в «День придворных» прибудь во дворец на ассамблею. Я велю тебя в списки внести, – отодвинула бумаги и повелела закладывать карету.
Заскрежетал зубами Татищев: «Небось в «домок», к мил-дружку графу Эрнесту Иоганну Бирону. Баба она и есть баба. Волос долог, а ума с гулькин нос!» Да делать нечего, нижайше откланялся государыне.
«Квасник» приоткрыл мутные глазки и скорбно ухмыльнулся. Гнусный Архипыч злобно проскрипел в спину: «Попомни вещубу мою, гордыбака. Руды много накопашь, да в руде и тебя закопают!»
Так не солоно хлебавши Татищев вернулся домой. На вопросительный взгляд Арцыбашева только руками развёл:
– Нужна ей такая заморока! Она и старые казённые заводы готова разбазарить! Любому прощелыге запродаст ни за понюх табаку. У ей же на уме только цацки да Бирошка. А дело надо крепенько обмыслить, чтобы немчин его на корню не загубил, либо под себя завод не подгрёб. Ничего, Егор Михайлович, лиха беда начало! Найдем ключик и к навозной куче…
Глава восьмая
На сенной площади. Нет худа без добра
На другой день Татищев и Арцыбашев, озаботившись покупкой корма для заводских каурок, с утра засобирались на рынок. Афанасий растопырил крестом руки на пороге:
– Куды-ы! Не успел чуток одыбаться, а ужо и ноги в руки. На дворе сиверко дует, а он выффарился гоголем. Покуда не напялишь овчинный тулуп, пимы да лисий бурк[48], за порог, убей бог, не пущу!
Арцыбашев поддержал старика:
– И впрямь, Никитич, утеплился бы ты, а то вовсе пластом сляжешь.
Татищев скрипнул зубами, но денщику покорился. И вскоре господа направились на Сенную площадь, где окрестные крестьяне возами торговали сеном, соломой и дровами. Пока горный инженер рядился с толстощёким мужиком насчёт овса, Татищев отошёл в сторонку прицениться к дровам. А когда обернулся, глаза выпучил. Заводской управитель торговался с неуступчивым крестьянином за каждую полушку, а его кошель с лёгкой руки ухаря в шубном кафтане незаметно выскользнул наружу. Хлыщ беззастенчиво запустил гибкие персты в карман ещё раз и вынул позолоченную табакерку. Похваляясь умением перед стоящим рядом с ним щуплым лупоглазым мальцом, достал из краденой коробочки щёпоть душистого табачку, нюхнул и засунул вещицу обратно в карман раззяве Арцыбашеву. Стрельнул глазами сопливому подельнику на растопыренный карман: мол, спробуй.
«Вот оно что. Обучатель воровской Академии сорочёнка муштрует», – смекнул Тайный советник, вмиг метнулся и хвать одной рукой за ухо мальца, запустившего руку в арцыбашевский карман, а другой вцепился в рукав пестуна-мошенника. Только разинул рот, чтобы «слово и дело государево» гаркнуть, как гибкий мазурик ужом извернулся и, аки дым, в толпе бесследно растворился. А малец заревел и стал сопли и слёзы по замурзанным щекам жалостливо размазывать:
– Отпусти-и-и, дядька, Христом богом прошу! Я больше не бу-у-у…»
Арцыбашев потерянно шарил ладонями по карманам: «Кошель скраден. Как же я без деньги теперь буду?»
– Ах ты, шушара базарная! Побрыкайся мне, – Татищев больно ухватил мальца за руку, – чей, сукин сын, будешь? Да не смей врать, а не то в Сыскной приказ сволоку, там тебя живо на дыбу вздёрнут.
– Ва-а-нька я. Сын подъячего, – занудливо выл чумазый воришка.
– Ишь ты, Алёша бесконвойный![49] Нешто родитель тебя определил в чужих карманах шевелить? – упорствовал тайный советник, немилосердно выкручивая ухо сопляку. А тот сучил ногами от боли:
– А-а-а! Не-а-а-а! Он отдал мя учить словесности к пономарю.
– Так почто, бельмес, к добрым наукам старанье не проявляешь, а воруешь?
– А-а-а! Не хочу учица-а! Пономарь больно розгами лупит!
– Пузыри не пущай и не канючь, козюля зелёная, а говори, коль с ворами спознался, что за мошенник кошель скрал? Иначе к родителю свезём, он те сам разума в задние ворота влупит.
– А-а-а! Не возите к тятьке. Истинный бог, всё без утайки поведаю. Кошель ваш зихорник[50] Васька Жужла вынул.
– А где достать его можно? – Татищев от души треснул по вихрастому затылку.
– Ведаю, ведаю, дяденька! – ещё громче взвыл малой. – Ён хибару снимает в Волчьей балке, у побирушки-становщика[51] Дениса Криворота.
– Ну, Егор Михалыч, поедем кошель твой добывать. – Советник изо всех сил за шиворот тряхнул скрадчика и зашвырнул в возок: – Залезай, вошь загашная, дорогу будешь указывать.
– Может, стражей с собой возьмём? Не то, глядишь, по черепушке кистенём приголубят, – усомнился Арцыбашев и осведомился у воришки: – Один Жужла там живёт али ещё с татями-компанейщиками?
– Ади-ин. Ён в одиночку работает. К ему тока Марфа Худодырая по блудному делу ходит.
– Что за баба? Сейчас мы застанем её? – строго вопросил тайный советник.
– Не-а, ёна севодни на рынке скраденными платками торгует.
– Ну, тогда сами управимся, – рыкнул Татищев, мотнул головой горному офицеру, чтобы тот садился, а вознице крикнул: – Гони к Волчьей балке! – Сел, кряхтя, сам в возок и в своей манере добавил: – К «волчаре» в гости – поиграть в «кости»…
Глава девятая
Воровская академия
На выезде из города Ванька ткнул пальцем в убогонький домок с ветхими распашными воротцами и с окнами, затянутыми брюшиной.
– Тока я с вами, дяденьки, не пойду. Васька кишки мне враз выпустит. Побожитесь и не выдайте, што я был приводцем[52] на скраденное.
– Ладно, вали отсюда, да с татьбой завязывай, а то кончишь живот на каторге, – проворчал Татищев, налаживая мелкого крадуна тяжёлой тростью под зад.
Сами тайно подошли к избе, пинком шибанули дверь. Как увидел «гостей» Васька Жужла, сразу узнал, сорвался с места и за тесак ухватился. Арцыбашев не растерялся, вздыбился шатуном, треснул худосочного хлыща кулачищем по башке и навалился на вражину:
– Верни, злыдень, кошель немедля! Шею сверну, как курёнку!
Потрепыхался под ним ухарь, повзбрыкивался и сдался:
– Ваша взяла. Слезь, ведмедь, с мя, задавишь.
Вынул нехотя кошель из-за пазухи, с пренебрежением швырнул под ноги.
– Ты ещё, шельмец, возгудаешь?[53] – прищурился на него Татищев. – А в застенок пытошный не желаешь?
Молодчик враз сник. Его бритое смуглое лицо посерело, как землицей подёрнулось. Бойкий карий глаз помертвел, а рыжие вьюшки на буйной головушке будто сами распрямились от унылости. Взмолился мошенник:
– Не губите, господа хорошие, я ж всё сполна возвернул. Явите милосердие.
– Так сегодня не прощёно воскресенье. Зачем татьбой душу губишь? – сурово вопрошал его Татищев.
– Не тать я, – жалостливо затянул ухарь. – За что меня в каменный мешок? Я ж просто зихорник. С того и кормлюсь. Играть силком никого не приневоливаю. А ваш кошель случайно скрал. Как не взять, коли карман на поларшина оттопырен?
– А что? Зело сведущ в карточной игре? – зацепился вдруг тайный советник, любивший на досуге побаловаться картишками.
– Искусней мя в игре зернью[54] и в карты разве токмо Ванька Каин, – оживился тот, чуя слабину в угрозах господ.
– Хвастливое слово гнило. А ну-ка, покажь, на что горазд!
– Лады. Тогда пяльтесь вовсеглазье.
Васька поднял подбородок и с чувством собственного превосходства сел на лавку за дощатый стол. Веером развернулись затрёпанные карты в гибких с серебряным перстнем пальцах франта, неуловимо замелькали разные масти, скороговоркой посыпалась шулерская речь:
– Вот щас я растасую ахтари[55] тако, што вся «семья блиновых окажется у мя в гостях»[56]. А щас «запущу трещётку»[57], и все «гадалки»[58] лягут в том порядке, каков расклад мне нужон. А теперь возьмите во внимание! Сейчас я так передёрну ахтарь, што Ванёк[59] даже не чухнётся.
Немало удивив господ виртуозной манипуляцией, Васька победно отбарабанил ладонями по столу и по груди:
– На прикуп надейся, а сам не плошай! – сквозь гнилозубую пасть цыркнул плевком на грязный пол. – Да рази без хабара[60] игра в интерес?
Гости переглянулись, шустро скинули одёжки, и пошла писать губерния. Зихорник ловко завлёк игроков лживыми затравками, зажёг ретивое, и очень скоро господа проигрались вдрызг. А Васька не унимался: «Не проиграв, не выиграешь!» И всё подначивал: «Карта – не лошадь, к утру повезёт!» Опамятовались только тогда, когда денёк к закату начал клониться и денег осталось на понюшку табаку и маленький возок сена. И тут Татищева словно озарило: «У Бирошки есть две ахиллесовы пяты: породистые скакуны да карты. Курляндец зело азартен. Душу на кон поставит за ломбером. Вот здесь-то и надо ловить удачу за хвост». Смекнул советник свой шанс и предложил шулеру сделку:
– Шабаш! Выучишь меня искусно шельмовать в карты, а я спущу тебе все вины и даже деньгу проигрышную оставлю. С утра и начнём. А будешь от сего дела предерзко отлынивать или вздумаешь утечь куда, в сыск подам, – закончил, сбираясь, Татищев и пригрозил тростью: – А языком об сём колоколить будешь, враз укорочу! Потайное словцо крепко держи за щекой, коли тебе смерть не копейка. – И уже на пороге подтвердил ещё раз: – Сослужишь мне службу усердно, глядишь, и отпущу душу на покаяние.
Шулер согласно кивал и кланялся, кивал и кланялся. Ещё бы! Такая везуха!
– Невдомёк мне, зачем тебе мошенство это надобно, Никитич? Дай хоть намётку, – любопытничал Егор Михайлович по обратной дороге на Сенную площадь. Но Татищев помалкивал и загадочно ухмылялся. Горный инженер не унимался: – А ежели и в самом деле, где языком станет брякать? Разве есть на татя надёжа?
Татищев пожал плечами и стукнул тростью оземь:
– Тогда аминь всему делу! Даст бог не успеет, я уж об том озабочусь.
Сенца оголодавшим коняшкам они всё-таки успели прикупить и, довольные, поехали домой. С тех пор советник и зачастил к Волчьей балке на выучку к плуту так же усердно, как и на государеву службу.
Однажды, когда Татищев поутру поехал к зихорнику и без стука распахнул дверь, то застал его на горячем блудном деле с толстомясой полюбовницей Марфой Худодырой. Васька второпях соскочил с лавки, а бабёнка без смущения оправила подол и накинула сорочку на сдобные в багровых рубцах плечи, игриво вильнула пышными бёдрами и озорно подмигнула неурочному гостю.
Татищев, отворотясь и загораживаясь поднятым воротником, брезгливо сквозь зубы процедил:
– Почто не запираешься, коли с бабой валандаешься?
– Мы, чай, люди живые, а к пустой избе ни замка, ни крючка не надоть, – огрызнулся Васька.
– Гони срамницу вон. Вижу, твоя курва не раз бита кнутом за блудное дело?
Зихорник скабрезно выскалился:
– Не та курва, что кнутом бита, а та, что короной прикрыта. – И ласково стал выпроваживать сожительницу: – Ты покудова иди, Марфа, да приходи снова ввечеру, – понизил голос до жаркого шёпота. – Я щас у барина полушки стрясу и те на харчишки отсыплю. Да на продажу с «чёрной работы»[61] камзол зелёный гарнитуровый заберёшь.
Никитич язык прикусил и молчком посторонился, пропуская мимо себя разбитную бабёнку, припомнив, что и сам не свят: по телесной надобности часто хаживал к немке Дрезденше в увеселительное заведение, что на Вознесенской.
– Ну что? – толкнул тростью шмотки со стола тайный советник. – По уговору учиняй, Васька, экзаменацию. Время поджимает.
Раскинули картишки. Начал Татищев уменье своё показывать. Жужла только головой качает, ворчит, поучая:
– Зихорник из тя никудышный, не способный ты. Учил я тя усердно, а толку мало. Не руки, а крюки. «Баламутишь»[62] ты не искусно, «засылаешь пакет»[63] худо. Одно тебе сносно удаётся – «вздержка»[64]. Быть те дергачом[65]. Да подшей подкладных карманов в обшлага и в изнанку сюртука и тягай оттудова нужные ахтари. – Увидев, как советник кладёт не ту карту, панибратски постучал костяшками по столу, а потом по лбу: – Вот ты умный, дядя, а дурак! Крепко держи в памяти свои и чужие карты, чтоб два одинаковых козыря враз не выложить. С нашим же братом даже и не вздумай тягаться, махом бубенцами прозвенишь[66], а вот среди господ фофана надуешь[67]. – Жужла в сердцах бросил карты и резко встал с лавки: – С тем мы и расстанемся, господин хороший. Чего зазря время трусить? С пустым шишом жить нагишом…
Сказал, как в узел завязал. А как сделал вывод – указал на выход.
Глава десятая
Подмётное письмо
В тот же день в тайную канцелярию розыскных дел подкинули подмётное письмо. Анонимщик постарался на славу, подробно и красочно описывая неслыханные деяния петербургского мошенника.
«В начале, аки Всемогущему богу, так и Вашему Императорскому Величеству, я отважу себя донесть, что зихорник Васька Жужла, забыв страх божий, впал в немалое погрешение. Будучи в Петербурге и протчих городах, в многих прошедших годех, мошенствовал денно и ночно в церквах и разных местах. У господ, приказных людей, купцов и всякого звания людей из карманов деньги, платки всякие, кошельки, часы, ножи и протчее вынимывал. А пустые кошели, кои были покрадены с деньгами, бросал по дороге, дабы не было на него по тому кошелю прилики[68].
А ещё на тя, Всемилостивая государыня, непригожие предерзостные враки пущал, что настоящий Ваш отец – немец-учитель, а Вы – не природна и незаконна государыня. И матерно лаялся: «Бабье ль дело великое государство содержать и корону иметь. Мол, владеет государством баба, а ничего в этом не смыслит». И окаянно сквернословил, что роды царские неистовые, а царица – блудница. Граф же Бирон в милости у государыни, потому что в грехе блудном с ней телесно живёт. А на здоровье благородной персоны Бирона учал он мыслить злое дело – навести порчу на нево вредительными словами. И ещё третьего дня жабу в ступе крошил и шептал при этом страшенное: чтобы блудный уд знатной персоны бородавками покрылся да струпьями отвратительными каждый раз, как токо Бирон изволит приблизиться к Вам. А тем самым и Вас испортить и нанести осквернение души Вашего Величества. «Даст бог, – глаголил он, – долго царица жить не будет. За таку государыню я не молюся и смерти ея желаю». А скрывается злодей Васька Жужла в окраинном, на особицу, дому у Волчьей балки.
С тем кланяюсь. Ваш добропорядочный нижайший раб».
В глухую полночь к Волчьей балке подкатили на извозчике гарнизонный офицер из тайной канцелярии и три солдата. Взяли Ваську Жужлу тихо, быстро, без помех, сразу же заковали в ручные и ножные железа и повезли в крытом возке на Заячий остров в Петропавловскую крепость – в самую страшную тюрьму в Алексеевском равелине[69]. Там сдали под расписку чиновнику тайной канцелярии, а потом зашвырнули молодца в вонькое сырое узилище, в «колодничью палату»[70], где заплечных дел мастер и учинил ему взыск[71] со всем пристрастием.
Сначала палач вздёрнул зихорника на дыбу, а потом между резвых ноженек продел и привязал бревно. Крякнул, вспрыгнул на то брёвнышко и давай с уханьем плясать да прыгать на нём. Заблажил Васька диким голосом, когда выскочили его руки из суставов и затрещали жилы ног. Тут припарили его горящим веником да обласкали кнутом. Обмяк ухарь, сдался и признал за собой все преступные деяния: и кражи, и слова непотребные о Бироне и Анне Иоанновне, и колдовство злоумышленное. Догадался он, от кого письмецо подмётное прилетело, и горько покаялся: «Эх, язык болтливый, губитель мой! Надо было поперёд барина стукануть. Щас бы тот сам на дыбе болтался. Хотя…» Собрался Васька с последними силами и прохрипел:
– Слово и дело государево. Не вели казнить, вели молвить.
Учтивый генерал-аншеф Ушаков, наблюдавший процедуру дознания, нежно взглянул в помутневшие карие глаза, бережно убрал со лба мученика потные вьюшки, со вниманием приклонил к нему хрящеватое ухо:
– Отглаголь.
– Ездил ко мне барин знатный мошенству обучаца.
– Кто таков? Зачем сие ему надобно?
– Зачем, не ведаю. Именем не прозывался. Но в лицо его спознаю.
Поверил генерал, проснулся в нём азарт охотника, вынюхивающего следы заговорщиков. Целыми днями возили зихорника по присутственным местам, но никого не признал Васька. Через неделю это катание его превосходительству изрядно прискучило и, возвращаясь в крепость, он, тем не менее, ласково проворковал тюремному сидельцу:
– Ты, любезный мой, поди-ка «слово государево» взболтнул, чтобы времечко потянуть да казни неминучей избегнуть? – И тут же посуровел: – Тако же за бездельный сей извет[72] и за то, что желал тем воровским умыслом привесть постороннего к смертной казни, ждёт тебя «награда». – И, передавая арестанта на руки палачу, снова эдак благодушно повелел: – Никитушка, залей-ка полное хлебало воды сему суетливому клиенту да медленно покопти на пытошном огне до полного его изумления.
Кивнул с одобрением и сделал на бумаге помету: «Письмо подлинное, к рассмотрению надлежит, сие письмо указано беречь». А наутро поехал с ним на доклад к царице. Анна Иоанновна, прочтя его, несказанно взъярилась, ногами бешено затопала, а затем своеручно начертала на документе: «Для пресечения непотребных и невоздержанных слов и поступков приказываю злодею вырвать ноздри, урезать и прожечь калёным железом язык, высечь батожьём беспощадно и сослать в Сибирь на каторжные работы навечно. Его превосходительству Андрею Ивановичу Ушакову за сим самолично проследить».
Так, по счастливой случайности, карающая рука «государева ока» миновала тайного советника Татищева. Ибо вместе с Арцыбашевым был он в это время в отлучке, ездил в Москву по другим неотложным делам, кои заботили обоих друзей. Как говорится, божья десница увела из столицы…
Глава одиннадцатая
«День придворных»
На неделе Татищев попросил у Арцыбашева чудские серьги.
– Зачем? – изумился заводской управитель пристальному интересу Никитича к пустой бабьей украсе.
– Есть у меня задумка, и я её думаю. А вещицу сию на время одолжи, я с неё сколок[73] мастеру закажу, да каменьев драгоценных поболе велю прилепить, – загадочно ответствовал он и в тот же день увёз серьги.
Наконец, в воскресенье, в «День придворных», тайный советник Татищев засобирался на ассамблею в царский дворец. С утра к нему пришёл золотых дел мастер, вернул серебряные серьги и предъявил выполненный заказ. Василий Никитич изумлённо охнул. Золотые, в затейливой вязи хонгорских узоров, серьги, изобильно украшенные алмазами и изумрудными самоцветами, были воистину великолепны. Рядом с ними серебряные чудские украшения выглядели блёкло и как-то убогонько. Никитич, не торгуясь, расплатился с мастером, сердечно похвалил искусную работу:
– Прелюбопытная вещица получилась! Впору только знатным особам нашивать, – и поболтал серьгой перед носом Егора Михалыча: – Вот на энту-то блестяшку и будем выманивать на свет божий «златорогое чудище» из чиновьего лабиринта. Кумекаешь?
Егор Михайлович, довольный тем, что не зря понадеялся на изворотливость ясного ума государева мужа, одобрительно закивал и с удивлением стал наблюдать дальнейшие действия хозяина дома. А тот, ничего не объясняя, направился в свои покои, по пути стребовав с денщика ножницы, нитки, иглу, отрез тёмной прочной ткани. Потом вытащил из шкафа суконный парадный кафтан и захлопнул перед носом обоих дверь опочивальни. Напрасно Афанасий бился в дверь, предлагая свою помощь. Ответа не было, и он разводил руками, злился, бурча под нос:
– Ишь, баламут, щас ведь искулёмит дорого платье, а потом расходуйся на новый наряд.
А Татищев, своеручно пришив потайные карманы в борт и обшлага коричневого кафтана, аккуратно разложил в них по ранжиру карточные масти. Надел кафтан и попробовал каждую из карт незаметно, кончиками пальцев, вынуть на ощупь из потаёнки. Получилось. Довольный собой, повертелся у зеркала, поднял назидательно палец и сказал своему отражению: «Не доверяй серьёзного дела другому, ежели хочешь, чтобы оно хорошо шло». Напялил на лысеющую голову пудреный парик, гордо поднял подбородок, рывком распахнул дверь и явился Афанасию и заинтересованному Арцыбашеву при полном парадном блеске серебряного шитья, шпаги на поясной портупее и медных пряжек на кожаных башмаках. Горный инженер изобразил благоговейный поклон, а денщик увидел лишь новый повод для ворчания:
– Опять выфорсился!
Но советник воинственно покрутил перед дряблым носом денщика жилистым кулачишком:
– Никшни! Мне сегодня с его светлостью баталию вести нешуточную. Не на живот, а на смерть! – И хитро улыбнулся Арцыбашеву: – Или пан, или пропал! – перекрестился на образа и браво помаршировал к порогу.
А на Невской площади огненный «театр» уже давно собрал кучу народа. Зеваки ахали и охали, когда в стылое ночное небо, рассыпая ослепительные искры, с треском взмётывались кипучие «колонны» разноцветных фейерверков. На площади от Невы до театра в сверкающем «венке» лучились затейливые голубые светильники-«цветы», окаймлённые светом изумрудных ламп-«листьев». Слепила глаза ошеломлённым ротозеям изображённая свечными лампадами из ярко рубинового стекла царская корона. Отблеск её колеблющихся свечей кровавил постамент с вызолоченным вензелем государыни. В середине площади гордо, в человеческий рост, высилась мраморная пирамида с серебряной табличкой и раболепной надписью: «Имя её вознесут народы». Украшалось это зрелище пятнадцатью тысячами свечных, масляных ламп и фонарей. Оттого рядом стоящая Академия наук тоже ярко высвечивала своё каменное достоинство. Гвардейцы оцепили пламенное пространство площади, не допуская докучливых зрителей до царской огненной забавы. Издали же любоваться не возбранялось никому.
Кибитка тайного советника одиноко подкатила к Зимнему дворцу. Опоздав к началу ассамблеи, Татищев, как мог торопливо, взбежал вверх по дворцовой лестнице, сдерживая болезненную одышку ещё неокрепшего тела. Государыня уже изволила принять немало чужестранных особ, знатное шляхетство, майоров, бригадиров, полковников, подполковников и штатских высоких классов в густо напудренных париках вместе с их жёнами и дщерями на выданье. Дамы в пышных муаровых и атласных платьях с глубоким декольте склонились в почтительном поклоне. Анна Иоанновна, шурша подолом платья из тугой лионской парчи, важно шествовала по залу рука об руку с Бироном. Не удостаивая никого личным вниманием, она небрежно совала в алчущие ладони золотые и серебряные жетоны, на одной стороне которого была отчеканена парсуна императрицы, а на другой памятная надпись: «Благодать от Вышнего». Императрица нежно держалась за мясистую ладонь куртизана, изредка бросая на него ревнивый взгляд, а любострастный фаворит снисходительно кивал красивой породистой головой и ей, и окружающим царедворцам.
«М-да, отожрался, бугаина, на русских хлебах. Ишь, от сыти бока заворотило. Небось утруждается, каналья, токмо в государевой постели», – неприязненно подумал о нём Татищев и тут же оскалился в подобострастной улыбке, когда державная пара прошуршала мимо. Вслед царице заискивающе семенил провидец-подъячий. Он тащил за поводок упирающуюся обезьяну, брякал в жестяной колоколец и чревовещал:
– Дон! Дон! Ниже кланяйтесь! Идёт «грозный царь Иван Васильевич»! По супротивной голове палач скучает.
За ним, дурацки кривляясь, кувыркался и всё хлопал растопыренными крыльями-руками «Квасник» Михайло Голицын:
– Курочка-тараторочка по двору ходит, цыпляток выводит, хохолок раздувает, бояр привечает. Баре, баре, по грошу пара, поперешнику – кара. Петух курочку клюёт да под крылышко ведёт. Анна-банна, нога деревянна, шейка-копейка, голова алтын.
Гости при виде клоунской свиты склабились ухмылками от нарочного веселья, шушукались после и, наконец, были званы на торжественный обед. Татищев откровенно давился белужиной, ибо аппетит ему портил безмятежный вид Андрея Ивановича Ушакова, которого он узрел как раз напротив себя. Его превосходительство услаждал своё чрево, смакуя анчоусы итальянские и устрицы флембургские. А у Татищева кусок поперёк горла встал: «Это надо же было именно сегодня подлюге приволочься на ассамблею!» И виделся ему в благожелательных очах генерал-аншефа зловещий отсвет пыточных углей.
А в это время в танцевальной зале грянули фанфары, возвещая о том, что начался бал. Гости неохотно оторвались от изысканных лакомств, лениво зашевелились, поднимаясь с кресел, и неспешно попозли следом за государыней. Татищев же выскочил из-за стола, как пробка из бутылки шампанского. Он вовсе не был охоч до танцевальных пируэтов, но поспешно юркнул в танцевальную залу, подальше от умильно-пытливых глаз Ушакова. Под расписными дворцовыми потолками одновременно чинился политес и церемонное выкаблучивание в минуэтах и полонезах. Послы иноземные жались в сторонке, ибо их по тёмной одежде принимали за лакеев. Не ведомо им было, что Анна Иоанновна на своих придворных строжайший запрет наложила, чтоб не являлись во дворец в одеждах цвета печали. А Бирон и вовсе видел в чёрном цвете устрашающий знак грядущей смерти.
Помазанница на балу откровенно скучала. Да и понятно. Гренадёрский рост не позволял ей ветрено скакать в танцах, а тучная фигура быстро и сильно упревала от безостановочного верчения. И она по-хозяйски ходила взад и вперёд по длинному залу в сопровождении всё тех же убогих и уродцев.
Фаворит же удалился в соседнюю залу и уселся за карточный стол, ибо не мог иначе проводить время, как играя в карты, притом на большие куши. С ним укромно уединились барон фон Шомберг и уральский старец-заводчик Акинфий Демидов. К общему неудовольствию тёплой компании к ней без приглашения подсел и тайный советник Татищев. Рядом деликатно отирался слухач Ушаков. Сам он играть не брался, считая карты бесовскими листами, но наблюдал за картёжниками с азартом. К тому же мотал на ус все разговоры и случайные реплики.
Раскинули карты в «Ломбер». Бирон вытащил свою колоду. Василь Никитич, настороженно глянув в сторону генерал-аншефа, тоже выметнул свои карты. Игра началась. Банковал дворцовый любимец. Никто не смел возражать, ибо сановитый куртизан проигрывать не любил. Бирон метнул карты понтёрам и, как бы между прочим, обронил:
– А что ты, Фасиль Никитич, недафно без федома директора Берг-коллегии к государыне с каким-то Указом пристафал? – и враждебно набычился на назойливого прожектёра, поимевшего наглость выходить на императрицу без его посредничества.
Шомберг тут же заёрзал на стуле, строго насупился и выпятил бутончик розовых губ, выговаривая Татищеву:
– О, да! Что за манир, господин софетник, скакайт поверх голоф?
– Об чём хлопотал? – в свою очередь насторожился Демидов, всегда подозревавший Татищева в злом умысле против своей персоны.
– Да один Указик просил подписать об учреждении заводика в Сибири, – отмахнулся Татищев.
– Шелезных зафодов и так достаточно. Зафодить, так серебряные, – недовольно бросил Бирон.
– Государству ноне, как никогда боле, надобны пушки и ядра, чтоб оборону от турка держать, – горячо возразил Татищев, сбрасывая десятки. – С Вас прикуп, светлейший герцог, – польстил он Бирону, который совсем недавно грозой выбил из спесивых курляндских дворян сей лестный титул.
– А зело ли богат рудник? – присватался Демидов.
– Так, средней руки рудничок, – уклончиво ответил советник, дабы не привлекать внимания к Ирбинской руде.
– А стоит ли тогда тратиться на зафод, если на рутнике недостаточно руты? – поддакнул Бирону угодливый Берг-Директор и шустро перетасовал колоду.
– Барыш с накладом в одном кармане. Не потратишься, не окупится. Отечеству тако же нужны металлы и для внутренних надобностей, аки и для продажи за рубежи, – гнул своё Татищев и укорил вроде бы невзначай: – Уж тебе, барон, хорошо должно быть ведомо, сколь прибыльно торговать железом. – И ещё громче спросил язвительно: – А кто из-под носа у Шифнера и Вольфа перехватил контракт? Купцы платили за сибирское железо полновесно, по шестьдесят копеек за пудик, а ты по пятьдесят восемь. А за сколь продаёшь за рубежи? Поди-ка, много недоплаченных копеек засунул в свой карман? – И он, шутя, сбоку, хлопнул по карману немецкого кафтана: – Не крохоборничай, господин Шомберг, а выкладывай русский рупь на кон.
– Пфуй! Пфуй! Плёхой привычка заглядывайт в чужой карман, считайт чужой теньга, – расфыркался раздражённый Шомберг, покосился на Ушакова, вьюном крутанулся на стуле и выпорхнул из-за стола амурничать с фрейлиной Щербатовой.
«Вот и выметнулась «шестёрка» из колоды, – ухмыльнуся тайный советник, – теперь надобно скинуть «уральского короля». Пошла игра…
Глава двенадцатая
Побитый король
– Мой туз и четфёрка! – обрадовался сиятельный куртизан, жадно загребая выигрыш и обеспечивая себе на время доброе расположение духа.
– Дык что? Подписала государыня Указ о строительстве? – затаив дыхание, как можно равнодушнее осведомился у Татищева скаредный Демидов. Ну не выгоден ему даже захудалый казённый заводишко под боком.
– В том и бяда, что нет, – сокрушённо признался тот. – А ежели вдруг подпишет, где набрать рударей? Их у нас великая скуда. Одно остаётся: к заводам приписать ближайшие слободы и ослобонить крестьянина от платежа подушного. Пущай эти двенадцать гривен[74] вырабливают на заводской работе. А всё, что свыше подати, то выдавать на руки. Да сверх положенного крестьян не неволить, ибо работнички сии временны. А нужда в рударях зело велика.
Тут Бирон поднатужился и великоумно изрёк:
– Не фыгоднее ли перейти к фольному найму?
– А я вот всю работу произвожу токмо вольным наёмом и не знаю нужды в работной силе, – похвалился Акинфий Демидов.
– В Зауралье это не можно, – горячо возразил Татищев. – Сибирский мужик эт вам не московит-лапотник. Живёт вольготно. Лаптей сроду не нашивал. И земелька сибирячку никем не меряна. Знай себе паши, покудова пуп от жадобы не затрещит. Хлебная скудность ему не ведома. Тайга же зверьём изобильна, в реке рыбы вдосталь. Сибиряк сыт, пьян и нос в табаке. Помещика над ним нет. Так что на казённые заводы в кабалу его и калачом не заманишь.
– Матушка-государыня милостью своею великой повелела люд токма вольным наймом в заводы брать, – громко, дабы слышало ухо Ушакова, прошепелявил уральский старец. – А ты, Василь Никитич, всё на свою афёру[75] делаешь. Ослушничаешь и всех колодников отправляешь на каторгу в казённы заводы, – не без умысла подгадил Татищеву старый заводчик.
– А пущай воры-разбойнички не задарма по узилищам хлеб жуют, а пользу Отечеству приносят, – желчно отрезал советник, ибо к ссыльным ворам не испытывал никакого милосердия. И хитро прищурился на старца: – Однако же не я один царскому Указу ослушник. А не у тебя ли, Акинфий, сто пятьдесят беглых рекрутов на заводе изыскали? А как же Указ? Ты, поди-ка, от избытка работной силы, топишь рударей, как слепых кутят? – съязвил Татищев, намекая на демидовскую незаконную чеканку монет из алтайского серебра. – Наедут досмотрщики, ты воды из озерца в мастерские напущаешь, и аминь беглому люду. А как уедет ревизия, воду откачаешь, мертвяков вынешь, заупокойную поп отпоёт, и делу амба. А ты свечу потолше поставишь, те поп грех смертный и отпустит. И внове ворота настежь для утеклецов.
– Всё мерзопакостная лжа и поклёп облыжный, – подскочил, как ужаленный, Акинфий и тревожно оглянулся на начальника тайной розыскной канцелярии. Но тот уже давно гулял среди придворных, чутко насторожив к светской беседе волосатые уши. Не сболтнёт ли кто хулительное словцо?
– С изветами ты боле моего наторел, Акинфий, – продолжал издеваться Никитич. И ещё громче, на всю залу припомнил: – Ведь ты ещё с шести тыщ штрафа, что на тебя Великим Пётром был наложен за оболгание меня, двести рублёв мне так и не додал. Али запамятовал по старческой немощи?
Демидов отшвырнул от себя карты:
– Мне твою калмыцкую рожу и без тово видеть было невмочь. А тепереча и за одним столом сидеть мерзит. Тьфу ты! – злобно сплюнул и потащился в танцевальную залу заигрывать с фрейлинами.
Бирон сухо приказал советнику:
– Не суй нос, Фасиль Никитич, в дела Демидофские.
Глава тринадцатая
Дуэль в лабиринте
Татищев спокойно проглотил совет, радуясь, что наконец-то остался с Бирошкой с глазу на глаз. Теперь его выход. Рыцарь случайного ломбера ни за что не упустит момент удачи. Он должен выиграть дуэль, чёрт возьми! В голове сразу промелькнуло Васькино завлекательное присловье: «Да рази без хабара игра в интерес?» И он вкрадчивым голосом змея-искусителя предложил:
– Ваш-ш-ш сиятельство, а не сыграть ли нам в ломбер на барышный интерес?
– Ф чём заключается парышный интерес? – пренебрежительно поднял брови иноземец и надменно оттопырил нижнюю губу.
Татищев выложил на стол из комзольного кармана заказные серьги, а рядом припасённый Указ.
– Серьги сии против Указа об учреждении Ирбинского завода. Я проиграю – отдаю чудскую диковину. А коли ты проиграешь – подмахнёшь у государыни сей документ. Только, чур! Карты на сей раз я мечу!
Тут к столу приблизилась Анна Иоанновна и остановилась в изумлении, завидев затейливую драгоценность. Огромные изумрудные каменья маняще сияли загадочным мягким светом. Россыпь мелких алмазов в золотой оправе незнакомого узорочья искрила и переливалась в свете лампад на лаковой поверхности игрального стола. Падкое на драгоценные украшения сорочье око царицы загорелось алчным блеском. Она нетерпеливо постучала воздушным веером по пухлой ладони и метнула на Бирона острый взгляд, намертво впитавший алмазный отсвет.
Царедворец глянул на неё и согласно кивнул. И царица сразу повеселела, распушила веер, гордо вскинула тройной подбородок и поплыла далее, даруя свою державную улыбку прочим подданным.
А в это время тайный советник, ловко растасовав карты в угодном ему порядке, украдкой передёрнул двойку на восьмёрку. Незаметно нащупал в потаённом кармашке недостающего туза. Но тот вдруг выскользнул из неловких пальцев под стол, упав недалеко от ног советника: «Эх, руки-крюки! Какая страшная оплошка-то вышла», – похолодел Татищев и попытался прикрыть подошвой злополучную карту. Мысли, как осиный рой, суматошно метались и жалили: «Нужен-нужен до зарезу этот козырь! Не токмо карьера, но и живот в сей момент болтается на тонюсенькой волосинке. Святые мученики! Сам Ушаков к столу подскочил! Сильна чуйка на палёное у начальника тайной канцелярии. Спаси, Господи!»
Никитич отвёл взгляд от Ушакова и вовсе помертвел, когда натолкнулся на злорадную ухмылочку подъячего вещуна. А вот и царица снова повернула свои пышные юбки к ломберному столику. Окаменел советник, аки степной хонгарайский идол. Всё произошло мгновенно. Тимофей Архипыч, хищно растопырив пальцы, кинулся к карте, чтоб явить на свет татищенское жульство. Раздался душераздирающий визг. Это шут, Михайло «Квасник», вороном налетел на подъячего, яростным хорьком вцепился ногтями в елейную харю провидца. Повалил на пол и давай грызть, лягать, за волосья драть и волтузить гунявого мужика. Придворная знать в момент окружила драчунов, усматривая в сём не предписанное протоколом развлечение, и раболепно подхихикивала императрице, что гулко, как в бочку, хохотала под опахалом. Ох, и любила она, когда её дураки и дурки собачатся и дерутся меж собой. То-то потеха!
Провидец еле отодрал от себя блаженного и, завывая и размазывая по рыхлым щекам кровавую юшку, что ручьём текла из расквашенного носа, подале отполз от взбесившегося шута. И про окаянную карту у каверзного пророка из памяти вышибло напрочь.
«Квасник» же закувыркался радостно и колобком покатился под игральный стол, бормоча себе под нос:
– Попалась мне бумажка-грамотка. В ей писано-переписано после Ивана Денисова. Не поп писал – Ермошка, коротенька ножка. «Коль языцем ты речист, мастер пытошный плечист. Коль Бирошке ты убытошен, ждёт тебя застенок пытошный. Там в застенке угли жгут и на дыбе кости гнут. Жарким веником всех парят, батогами спинки гладят. Супостату плеть да кнут, гостенёчка ждут-пождут»…
Он украдкой подобрал оброненный заветный козырь, быстро сунул карту в вяло опущенную ладонь советника и присел на корточки рядом с креслом Бирона. Растерявшийся Василий Никитич встретился с таким проникновенным взором шута, точно дурень только что в разум вошёл и подначивает «Ну же!». Татищев отдёрнул руку с картой, как из полымя вынул, и с размаху шлёпнул по столу козырем:
– Мой куш!
И торжествующе протянул Бирону Указ на подпись. Тот скривился, но не падать же курляндскому герцогу перед придворной чернью лицом в грязь? Карточный долг – долг рыцарской чести. Тут и царица не выдержала, подошла нетерпеливо ещё раз взглянуть на запавшие в душу чудские диковинки. Бирон хмуро подал ей бумагу:
– Анхен, шрайбен, битте!
Он и так не жаловал Татищева, а тут и вовсе люто возненавидел наглого русина. Царица хотела было выразить неудовольствие, но, заметив на лице фаворита гнев начинающейся грозы, торопливо, не утруждая себя чтением, подмахнула Указ. Помнила, под горячую руку сердешный галант мог и прибить. Татищев подобострастно прогнулся, преподнося императрице режущий игрой алмазов сибирский презент:
– Сия диковина из страны Хонгории, где Ваше Величество завод железоделательный желает учредить.
Анна Иоанновна выразила Татищеву удовольствие за дорогой подарок и тут же украсила жирные мочки ушей затейливыми серьгами.
– Благодарствую, князь! – тихо шепнул Василий Никитич, проходя мимо шута, и слегка поклонился ему. – От застенков петропавловских, шутя, оборонил меня.
– Спаси тя Бог! Отчего ж не помочь? – грустно улыбнулся «Квасник». – Али русское золото и в грязи не видать? От иноземцев же нам добра не ждать. – Смигнул невольную слезу и приметил, как с насторожёнными ушами к ним на мягких кошачьих лапках подкрадывается ласковый Ушаков. Заколотился шут нарочно в дурацком причете:
– Куда-ах, тах-тах! Ходит курочка в сапожках, выронила пёрышко, из пёрышка-то ядрышко; укатилось оно на Иваново село. На Ивановом селе-то собачка на лычке потявкивает, медведь на цепочке порывается, господин на печке обувается, госпожа за печкой оладьи печёт, сухари толчёт…
А вскоре Татищев провожал возок Арцыбашева в сибирские земли. У заставы напоследок крепко обнялись:
– Ну, не поминай лихом, Егор Михайлыч! Как мог, так я дело и справил. На тебя теперь вся надёжа. Бог даст, встренемся, наеду глянуть на вашу Хонгорию и завод Ирбинский.
– Милости просим, Василь Никитич.
И тут мимо них по заснеженной дороге, бряцая студёными цепями, поволокла ноги, закованная в ножные кандалы и «ручные железа» длинная вереница арестантов, нанизанных по десятку на «шнур»[76]. Ссыльных Ея Величества по этапу гнали в Сибирь на каторгу. Они понуро брели, лишь изредка поднимая бледные лица с клеймёными лбами и рваными ноздрями, и протягивали ладони за жалкой милостыней. Вдруг один из них споткнулся на месте, остолбенел на минуту, а затем рванулся из связки арестантов. Кандальник взбешённо мычал, гукал и яростно тыкал пальцем в сторону Татищева. Он широко разевал рот, болтал в нём обрубком языка, булькал, силясь выдавить: «Ы-ы-а-а!»
Татищев признал в каторжанине Ваську Жужлу и равнодушно отвернулся. Конвоир же огрел буйного зихорника прикладом и выровнял строй. Арцыбашев с сожалением посмотрел ему вслед, а потом нахмурился, махнул рукой, закутался в медвежью доху и завалился в крытый возок. Там угрелся под плотной рогожей и тронулся в дальний путь на Ирбинский рудник. Так и добирались они в горнорудную Сибирь одной дорогой. Встретились ли они на Ирбинском руднике? О том история умалчивает, ибо судьба каторжанина Васьки Жужлы столь малозначительна, что в дальнейшем не оставила никаких следов на её скрижалях.
Об остальных героях сего повествования равнодушное перо истории черкнуло несколько строк.
Татищева вскоре вызвала к себе императрица и велела с поспешанием отправляться в Оренбургскую экспедицию усмирять киргизских мятежников. И он понял, что Бирон его убирает с пути, ибо тайный советник всё же умудрился отстранить от должности члена Берг-Директориума барона Шомберга за взятничество и другие злоупотребления. Но пока Василий Никитич уговаривал хана Абдул Хаира снова присягнуть российской императрице, златорогий Минотавр уже через подставного заводчика Осокина овладел железорудной горой Благодатной, когда-то открытой Татищевым. Карьера Татищеву так и не удалась, семейной жизни, как таковой, тоже не было, друзей осталось мало, а врагов он нажил – пруд пруди. Умер Василий Никитич 15 июня 1750 года в деревне Болдино. Накануне смерти он получил известие о своём награждении государыней Елизаветой орденом Святого Александра Невского. Татищев письмом поблагодарил императрицу… и возвратил орден, как уже ненужный ему. Вслед за господином убрался на тот свет и верный раб, денщик Афанасий.
Анна Иоанновна же скончалась тогда, когда ей и предвещалось в пророческом сне. Случилось это совершенно неожиданно. С утра весёлая и бодрая, за обедом Анна Иоанновна вдруг потеряла сознание. Придя в себя, она сразу заговорила о престолонаследии. Царица понимала, что жить ей оставалось недолго. Преемником, по желанию императрицы, становился полугодовалый сын её племянницы Анны Леопольдовны. И 17 октября 1740 года императрицы не стало.
Бирон недолго горевал о смерти любовницы. Озлобленный, подозрительный и хитрый, регент правил жестоко и самоуверенно. Однако властвовать ему суждено было менее месяца. Он был обвинён в захвате регентства и небрежении здоровьем покойной государыни. 18 апреля 1741 года был обнародован манифест «О винах бывшего герцога Курляндского». Как говорили его недоброжелатели, «ему обломали золотые рога и сделали бодливого быка комолым». При аресте Бирон отчаянно сопротивлялся. Служивые осерчали и «успокоили» бывшего фаворита крепкими тумаками. Допрашивал его с чрезвычайным пристрастием всё тот же любезный Андрей Иванович Ушаков. Эрнест фон Бирон был приговорён к смертной казни, но помилован и отправлен под строгим надзором на высылку в Шлиссельбург.
Арцыбашев Егор Михайлович, горный инженер, выпускник Славяно-латинской академии, ещё долго и успешно управлял Луказским медным и Ирбинским железоделательным заводами. А с 1774 года казённый Ирбинский завод попал в частное владение авантюристам, много лет переходил из одних жадных рук в другие, пока не заполыхал всеобщим возмущением и отчаянным бунтарским пожаром.
Но это уже другая история…
Часть третья
Варначка
Не плачь, племянница, что судьба не ладится,
пусть плачет он, что берёт беду в дом.
Русская пословица
Глава первая
Взамужем
В народе говорят: тошно жить без милого, а с немилым и того тошнее. А замужество поневоле – судьба бабе невесёлая, слёзами горькими политая. От такой жизни баба рано вычахнется, обморщинится, сникнет и, как первоцвет, быстро свянет.
Вот такое бабье «счастье» и выпало на долю одной девице из Каменского. Переселенцы назвали так засёлок оттого, что выстроена была деревенька на неудобье. На каменистой горе около речушки Каменки. Это место нахвалили несведущим новосёлам хитромудрые старожилы. Опасаться стал коренной сибиряк новожилов: «Понаберётся рассейского народишка много, всю землю меж собой поразделят – и кончено дело. Сиди, чалдон, свисти в пустой кулак». Но, тем не менее, хоть и с трудом, но переселенцы распахали плугами и засеяли каменистую новь. Урожай вышел хороший, по десять пудов с шести десятин на семью. Вскоре новосёлы совсем вошли в колею. Укоренились. В каждом дворе от двух до шести лошадей завели, по две-три дойные рогатки мычат, с десяток овец блеют.
И разрослась деревенька в большое (около двухсот дворов) село. С белокаменным храмом на берегу бурливого Енисея. Богатое. С двумя плотинами, мельницами и шестью хлебными магазинами. На одной из плотин, на крутых взгорьях у устья Каменки, расположился деревянный винокуренный завод.
Насельниками села в те поры, в 1823 году, были в основном старожилы – чалдоны, окоренившиеся оренбургские малороссы да восемьсот арестантов, отбывающих каторжный срок на казённой виннице. Одними из первых насельников по ревизским сказкам значилось семейство Бахиревых. Парни в семействе были дюжими, высокими, нравом неуступчивыми. Не прочь в жарком споре ввернуть резкое, крепкое словцо. Старожилы, разрешая приёмный договор, даже уступили новосёлам порядочные льготы: освободили семью на три года от дорожной и местной подводной повинности и городьбы поскотины.
А девки переселенцев Бахиревых тоже слыли горячим, своенравным характером. Гордячка так ошпарит гневным взглядом беспардонного ухажёра, что нахал навек заречётся при ней охальничать. Знали себе цену девицы, не роняли перед парнями достоинство своё. Зато и слава об них по деревне добрая шла. Мол, брать невест из рода Бахиревых и в старожильческие семьи не зазорно. И рукодельницы славные, и честь девичью блюдут, и лицом миловидные.
Но всех краше была Аграфёна. Она только в возраст вошла, так сразу и заневестилась. Как-то враз расцвела. Среди сестёр и подружек вспыхнула сибирским пламенным жарком, что потаённо вырос на таёжной чистинке и вдруг дерзко раскрылся среди скромного тысячелистника и мелкой сиреневой ромашки. Что ни говори, а девица выгулялась ладненькая. На щеках – горицвет смуглого румянца. Чёрный волос распушился и неукротимо раскудрявился, так что еле в косники вплетается. В раскосых смородишных глазах – диковатая чертовщинка. В селе Аграфёна – первая нарядница. Лучше всех умела убор к лицу срукодельничать. На головке кружевная фаншойка-самовязка, на груди и плечах оранжево полыхала под солнцем атласная кофта в тонкую талию, на ходу шуршала зелёная юбка. На голенастой ноге выходной обуток – базарные ботинки с высокой шнуровкой и кокетливым каблучком с медными подковками. Как пойдёт в гулёвый день на сходбище, так все парни на неё одну зарились:
– Ну, выряжоха девка! Царевной вычембарилась, глаз не оторвать!
Не успела Аграфёна вдоволь покрасоваться на гулеванье, и ещё ни один завлекатель ей на сердце не пал, а скупой батька заторопился вывести лишний рот из-за родительского стола. Надумал выгодно спровадить её в деревню Луказскую.
Мать Аграфёны взвыла:
– Пожалей, отец, дочерёнку отдавать в таку захудалу деревню. Всего десяток-другой дворов. Скушно ей там будет.
– Там тож люди, а не звери живут, – сердито ответил Аграфёнин отец и нахмурился.
– А живёт-то там одна сплошная каторжня с бывшего Луказского медного заводу. Вечерами, поди-ка, бойся на улицу выйти.
– Эка невидаль, – не уступал хозяин, – этого добра и у нас хватает. Ишо никто живьём девок не ел. Бабе, тем боле, неча вечерами по улицам шлындать. Есть там и достопочтенные старожильческие семейства. Будет держаться их, так не заскучат.
Пробуравил взглядом супругу и помягчевшим голосом добавил:
– Не реви, грю, матерёшка. Отдаю-то же я её не на съеденье варначью, а в досточтимую старожильческую семью.
– Кто таков? – промокнула фартучным подолом глаза мать.
– Константин Шапошников. Мужик вдовый, но хозяин крепкий. Будет как сыр в масле кататься.
Та охнула и руками всплеснула:
– Видано ль дело, таку справну девку отдавать за вдовца? Ты чё, отец, рехнулся?
Хозяин вспыхнул, гвозданул кулаком по столешнице и рявкнул:
– Не бабьева ума энто дело, дур-ра! Голянкой её Константин берёт. Девок у нас избыток, на всех приданого не напасёсся. В хозяйстве из-за того убыток.
Аграфёна как узнала о сватанье, так взъерошилась, вскинулась, как кошка на дыбошки:
– Не пойду за нелюбого.
Но суровый родитель вожжи принёс из завозни[77], пригрозил ими:
– Не выкамуривайся, дочерь. Из моей воли родительской выпрягаться даже и не вздумай, не дозволю. Шкуру вожжами спущу! И зятьку наперёд накажу, штобы тя с твоим артатчливым норовом сразу же в когти брал.
Матушка же видит: «Шибко покорыстился муж. Упёрся, как бык рогами в землю. Ни в какую теперь не сдвинешь с места».
Утешает себя и Аграфёну:
– Дочерёнка моя любая, не супротивничай отцу. Смирись. Такова долюшка бабья. Наша воля лишь во щах. Сначала родитель нам хозяин, а потом – муж. Меня тож силком выдали. И ничево, притерпелась, слава богу. Ты лаской мужика бери, а коль буянить возьмётся, былинкой прогнись, авось буря над головой и пронесётся. А то, што мужик на возрасте, так, может, ишо и к лучшему, с понятьем будет, зазря бабу забижать не станет.
Смирилась Аграфёна. Послушалась мать.
Новожён после брачин привёз молодую в свежерубленую связь[78] с вычурами резными на заоконье в услуженье к вздорной свекрови. И началось – не так невестка села, не так встала, не по обычаю взглянула. По одной половице, сношенька, ходи, а на другую и не взглядывай. Вместо базарных ботиночек – на тебе старые черки[79] за скотиной ходить, а выходцы – в сундук. Вместо наряда – из крашеной домотканины рубаха и сарафан, чтоб неповадно было на девичьи посиделки мужней бабе бегать. Старая выжмочка день и ночь поедом ест, без уёму зудит, без причины к молодухе придирается. Всю душу Аграфёне на свой жилистый кулак вымотала. Но терпит она, помнит, маменька-то наказывала, мол, девичье смиренье дороже ожерелья, а покорливость да почтительность любое сердце растопят. Ласковое же дитятко двух маток сосёт.
И муженёк, нелюдимый буча, молоденькой жёнке не заступник. Так недобро с маменькиных жалоб на супругу взглянул из-под косматых бровей, что у бедной ноги с перепугу подогнулись. Ни взора приветного, ни слова ласкового от Константина не добьёшься. Наготовила молодица разные вкусности, подала и встала рядом. Смотрела, угодила ли богоданному муженьку? Похвального слова ждала. А тот в одну миску свалил щи, кашу и пироги, ложкой всё размял, мол, в брюхе всё одно перемешается, разодрал на стороны сивые усищи и бороду, высвободил рот и всё это месиво молчком в хлебальницу и покидал. Аграфёна и глаза в сторону отвела, такая отвратная застолица с души воротила.
А ноченька – тайное укрытие влюблённых женатин… Тёмное времечко, когда желанные слова, днём при сторонних притаённые, в темноте жаркими устами в милое ушко шепчутся и щедрой лаской нечаянные обиды обоюдно лечатся… Молодице оно отрады ни душе, ни телу не приносило. Грубо навалится, под себя подомнёт, посопит и сыто отвалится. Отвернётся и захрапит. Ни словечка, ни полсловечка. Бабёнке от таких ночей волчицей выть хочется! А от такой безотрадной жизни хоть глаза завяжи и в омут беги!
Не вытерпела…
В чём была ночью – полураздетой, босой – в родную деревню Каменскую назад убежала, в ноги к отцу с плачем кинулась:
– Пожалкуй, батюшка, лучше мне бабий век вербой прожить[80], чем с нелюбым миловаться!
Батька прощупал её хмурым взглядом:
– Чё удумала-то? Семейство Бахиревых позорить? Ты ж брюхатая уже!
Помрачнел и с упрёками накинулся на дочь:
– Визгуна свово нам тоже, как хомут, на шею хочешь повесить?
Кинулась мать Аграфёны ему наперерез, собой дочь загородила. Плюнул отец в сердцах и громко хлопнул входной дверью. Пошёл искать оказию, чтоб со случайным поверенным весточку зятю отослать.
На следующий день на двуколке[81] приехал за ней обозлённый Константин. Закрутил в руках кнут, набычился исподлобья на тестя, когда тот попенял зятю, что его дочерь в новой семье в чёрном теле держат, а потом сгрёб жёнку за космы и выволок из избы. Упираясь, Аграфёна дёрнулась было назад под заступу отцовскую, но тот только руками развёл, мол, не моя теперь воля над тобой. И отвернулся. Привязал мужик бабёнку косами за гуж к лошадиному хомуту. Погнал лошадь, а сам кнутом то лошадь, то Аграфёну охаживал:
– Што, не в губу те мужня ласка? А коль не по ндраву, получай взбучку, пристяжная жёнка.
Так до самого Луказского измученную бабу без остановки доволок. От натуги Аграфёна начала дитёночка скидывать. Видят свекровь и муж: «Запомирала баба. Куды деваться?»
Велел Константин матери за подмогой к бабке-знахарке Федотье бежать.
Боялись эту бабку односельчане. Мол, волхидка и оборотка она. Ночью то свиньёй под ноги винопивцам кидалась, то мерещилось суеверцам, что она огненным колесом по тёмным улицам каталась. И глаз у неё урочливый, сглаз наводит. Осерчает на кого, то у того либо скотина заболеет, либо у курей в клюве типун вскочит. Но к ней за травками на поклон шли, ежели ознобится и закахыкает кто или огневица трясти зачнёт. А ежели вдруг робёнчишко раньше времени народится, так она и выпарка умела выходить. Коли младенчик вертучим в зыбке становился, по ночам начинал уросить или его родимчик[82] бить зачнёт, то это тож к ней, к ведунье Федотье. Помнёт ведьмачка дитятко, помнёт, заговоры целительные прошепчет, травками лечебными попоит, глядишь, и оздоровит ребятёнтишко. Умела она и крестьянок от тайных бабьих хвороб избавлять. А вот наблудённых дитёнков из чрева материнского вываживать наотрез отказывалась. Грехом неотмолимым считала.
Скрепя сердце на поклон к волхидке пошла свекровь:
– Выручай, Федотья Макаровна, не побрезгуй гостинчиком. Вот тебе отрез льна на фартук.
Та пришла к ним в дом, глянула, видит, а в избитой молодухе жизнь на ниточке еле-еле держится. Вся она кровью изошла. Ребёнка мёртвенького приняла ведунья, а Константина и его мать изругала:
– Злыдни лютые, ребёнчишко и матерь его загубили! Молите Господа теперь, штоб не представилась страдалица безвинная!
Но чудом выходила оборотка Аграфёну. С тех пор молодка, как щепка, высохла. Румянец-горицвет на щеках потух, и смотрела она теперь на божий мир невесело.
Глава вторая
Безладица[83]
А тут и святки подошли. Константин уехал в лес за дровами, свекровь к родне умелась. Вдруг подружки-молодицы набежали. Весёлые, смешливые, румяные с мороза. Зовут с собой:
– Оболакайся, подружия, пойдём с нами на тырло[84]. Там гармощик новый пришёл. Святочные песни попоём, прибаутки посказываем. Што в том худого? Много ль в том греха? Неушто так весь праздник в избе, как твой безлюдень[85], безвылазно просидишь?
Поколебалась Аграфёна, в уме прикинула, что нескоро супруг домой из леса воротится и свекровь с родственных именин не поторопится, и решилась. Накинула полушубок, серую вязаную шальку.
Побежали молодицы на околицу. Зимний погожий денёк выяснился, улыбчивое солнышко на небе светозарными лучами игралось, белёшенький снежок искры в глаза метал, деревья в серебристой опушке нарядные, как невестушки, стояли. С горки девицы и парни на салазках катались, счастливо визжали, украдкой целовались. Светло и грустно позавидовала им Аграфёна. Впервые со времени замужества беззаботно и радостно улыбнулась окружающим.
А гармонист и впрямь был нездешний. Из новоприбывших поселенцев. Парень – выбей глаз! Из-под длинноухой рысьей шапки светлые вихры топорщатся. На щеках ямочки-завлекалочки, на ногах выходные сапоги с подбором, короткополая сборчатая сибирка с перехватом в талии и стоячим воротником. Озорной синий глазок направо-налево постреливает, молодчик шуточки-прибауточки с губ, как лузгу семечек, изобильно сыпет. Лихой поселенец в Луказском без году неделя прожил, а уже всем девкам и молодицам в селе головы заморочил. Как лихо развернёт гармонь да как с надрывом задушевно затянет:
Я Сибири не боюся,
Сибирь – наша сторона,
Кто милашечку полюбит,
Тот попробует ножа.
И в глаза каждой проникновенно смотрит, со значеньицем. Мол, про тебя, единая любушка, сердечная песня моя. Вот дурёхи и млеют под сладким и вязким, как патока, взглядом. Увидел Аграфёну, так сразу к ней, здороваться по ручке:
– Откуль красава така? Пошто ране не видел? Позвольте поручкаться с вами Сергею Макееву.
Смутилась Аграфёна, отшатнулась, а всё ж лестно внимание такого видного парня. Невольно затеплело на охолодавшем сердце, словно весенним лучом в снегу растопило проталинку. Прошлась с молодицами по улице, жаворонком взмыла в голубизну неба их песня, игривым колокольчиком зазвенел задорный смех. О времени Аграфёна совсем забыла.
А в это время из лесу неурочно воротился её муж. Ворота ему отворила хмельная мать и сразу запричитала:
– Знать, не на судьбе ты женился, сынок. Говорила те, на резвом коне жениться не ездят. Женитьба есть, а разженитьбы-то нету. Видела, видела, как Аграфёна на улке вместе с другими вертихвостками на шею гармонщику вешается. Много потачки давал своей выфорке, вот она и волю взяла по гулянкам шастать, пока ты в лесу болоньи надрываешь. Муж в лес за дровами, а молода жена за молодцами.
Разъярённым медведем рыкнул мужик, схватил метлу и выбежал на улицу искать блудню. Увидел её в толпе хохочущих баб и девок и остервенело начать лупить всех подряд метлой. Завизжав, бросились молодицы врассыпную, а родная жена, поджав губы, стояла перед ним столбом и не шелохнулась. Только злые огоньки зажглись во тьме вызывающего взгляда. И гармонист вытаращил на Константина наглые глаза, вырвал из рук метлу:
– Ты что, мужик, ошалел? На людей кидаешься.
Яростно заскрипел зубами Аграфёнин муж, схватил гармониста за горло:
– На чужое не зарься! Пр-р-идавлю!
А потом сорвал с головы жены серую шалку, намотал на кулак волнистые пряди волос и поволок к дому. Заволок во двор, повалил на снег. Сначала долго пинал ногами, а затем, остервенев, вытащил из подворотни доску и её ребром начал хвостать жену. Так бы и забил насмерть бабу, кабы опять не спасла молодуху бабка Федотья. Она потихоньку ковыляла с соседских родин мимо их избы. Услыхала глухие удары и надсадный хрип и догадалась заглянуть в полураскрытые ворота. А потом изо всей силы огрела изверга по хребту клюкой:
– У-у-у, изверг! Совсем осатанел, уёму на тя нет!
Оглянулся на старуху Константин, сгоряча даже замахнулся на ведунью, но та выставила вперёд клюку и зловеще проскрипела:
– Токмо посмей вдарить, вражина! Весь остатний век на болоте лягухой квакать будешь!
Опешил мужик, плюнул, бросил наземь доску и убежал в избу. И снова целый месяц оборотка ходила и выхаживала Аграфёну. Прикладывала к её безобразно распухшему лицу примочки, качала седенькой головой, бурчала под нос:
– Эх, каков цвет лесной изурочили. Каб ни дурню досталась, вообче бы красавицей писаной стала. Всем бы от той красы лучезарной на земле грешной светлее стало.
Но и на этот раз волхидка чудо свершила. Выправила молодухе лицо. Лишь небольшой шрам на лбу остался.
Стали молодые и дальше вразброд бытовать. Хоть сидят, спят вместе, да глядят врозь. А в недружной семье добра не бывает. Изменилась Аграфёна. С виду смиренна, а в глазах жгучая ненависть, как чёрная адова смола закипела.
Молчком живёт, хотя свекровь день и ночь зудит:
– Сколь можно бытовать кукушкой?[86] Мужу приплод нужон. А ты, нетеля, который год порожняком гуляшь.
Аграфёна вскинет на неё глаза и так страшно взглянет, что старуха попятится и перекрестится:
– Истинно говорю, сатанинское отродье в дом взяли.
Примолкнет, а сама бочком-бочком сыну наговаривать на сноху:
– Не хотит баба тебе родить. А так хочется до своей смертушки с внучонком потетешкаться. Знатьё, вдоволь не нагулеванилась ишо молодуха.
Скрипнул мужик зубами и злобно уставился на согнутую спину Аграфёны, добела шоркавшую дресвой тёсаные половые доски. Вдруг он ухмыльнулся в длинные усы и гнусаво процедил:
– Не нагулеванилась, баешь? А я щас враз устрою гулеваньице. Вдоволь потешу разлюбезную жёнушку.
Сходил в сени, принёс дряхлую ещё дедовскую ливенскую хромку и конский кнут. Сел на лавку, смахнул ладонью пыль с выцветших бардовых мехов, поставил на расшеперенные колени инструмент, кнут положил рядом на скамью. Неумело затыкал пальцами в пожелтевшие клавишные кнопки, и со всей дури рванул ветхие меха. Двухрядка медноголосо рявкнула. Константин издевательски прищурился на разогнувшуюся и насторожённо уставившуюся на него жену.
– Ну, что, дролечка, скушно те в мужнином дому?
Приподнялся и перетянул её по спине сыромятным плетевом кнутовища:
– А ну, пляши, выдерга! Да до упаду, штоб боле не тянуло на тырло с ухажёрами взлягивать.
Аграфёна вздрогнула от удара и неуверенно стала топтаться на одном месте, притопывая босой ногой в грязной луже, что натекла из опрокинутой ударом кнута помойной бадейки. Она исподлобья взглядывала то на злорадную улыбочку свекрови, то с отчаянием в свирепые, беспощадные, как у медведя-шатуна, маленькие глазёнки мужа. Нескладно хрипела и взвизгивала гармонь, нелепо взмахивали в безумной пляске бязевые рукава рубахи, подол сарафана елозил по грязному полу. Время от времени Константин взбадривал жену очередным хлёстким ударом:
– Шибче, шибче наяривай!
А свекровь из угла наставительно скрипела:
– Муж не бъёт, а тебя – беспонятницу – уму-разуму учит. Штоб не повадно было на дурное. Ишь ты, взяла волю от мужа родного морду воротить. А то я не слышу, как ты по ночам выкамуриваешь. Не больно ласкова-то к суженому. То ли жена гладила, толи кошка поцарапала.
И, прищурившись, ехидно добавила:
– Вишь ты, муж по дрова, а жена – была такова. Окулькиной веры[87] теперя нету, вышла взамуж, на других не заглядывай. А то не ровен час, да таскаться учнёшь, под забором с парнями валяться, блудом блудить.
Изо всех сил топнула Аграфёна пяткой по луже, остановилась и исподлобья ошпарила ненавистников смоляным взглядом, подбоченилась и с вызовом бросила старухе в лицо:
– Хоть под крыльцом да с молодцем, а не с твоим гугносым выродком! Выгадил мне всю душу, чёрт душной! Опостылел, невтерпёж ужо!
– Охти-и-и! Взбрындила-то как! Каково зубы-то безбоязно выскалила! Худо молвила. Да не очень-то бзыкай! Люб не люб, а чаще взглядывай! – побагровев, завизжала свекровь, а потом вдруг охнула, всплеснула ладошками, покачнулась и на пол грохнулась. Замычала что-то невнятное, пальцем в дерзкую сноху затыкала. Шатуном взревел оскорблённый Константин, остервился, повалил жену на пол и ну кулаками мутузить, сапогами утюжить. Опамятовался, когда в двери застучали. Кровавая пелена перед глазами расползлась. Глянул: жена – без памяти, мать – на полу вытянулась, на потолок остеклевшие глаза вытаращила. Оглянулся на дверь, а в дверной проём уже соседи Мальцевы ломятся. А с ними и старая карга бабка Федотья клюкой брякает по полу. Доковыляла знахарка до Аграфёны, наклонилась, вслушиваясь в слабое дыхание:
– Славь те Господи! Покуль жива без вины, без причины страдательница. Но вряд ли обыгается.
Повернулась и к свекрови:
– А энта упокойница ужо.
И в ярости затрясла клюкой перед лицом Константина:
– Додиковал? Сколь ишо будешь басурманить? Совсем из ума выпрягся, дикошарый! Одна вон на ладан дышит, а матерь и пововсе паралик дёрнул! Готовь две домовины!
Но недаром говорят, у кошки девять жизней, вот и Аграфёна, как кошка, живучей оказалась. Выкарабкалась. Выжила.
Хлопотами старой травницы поднялась на ноги. А злыдню-свекровь схоронила.
Глава третья
Завлекатель
Притих Константин. Угрюмое молчание повисло меж супругами. Тяжёлое, как чугунный колун, что небрежно вкривь брошен на чурку в дровянике. Вот-вот свалится с чурки и грохнется обухом об пол. А всё же чуточку вольнее стало Аграфёне. Ей кажется, как будто «кузнечные тиски» неусыпного надзора чуть-чуть да разжались. Муж на пашню или ещё по каким мужицким надобностям, а она и к подружке на минуточку может заскочить, лясы поточить, или вечерком у тына с бабами посудачить, семечки полузгать. Раньше свекровушка Аграфёну из ворот ни на шаг не выпускала. А куда как ей хотелось хоть издали, хоть краешком глазика вглянуть на тырло! А та всё строжилась да стращала:
– Пляски греховные ангелов божьих отпугивают и бесов смрадных приманивают. Неча бабе на них пялиться и в искушение богомерзкое впадать.
Теперь же ей любо было смотреть, как беззаботно молодёжь на околице хороводы водила и озорными игрищами тешилась. Но всех приглядней и задорней был Сергей Макеев. Вальяжно, горделиво выпрямившись, слегка откинув назад чубатую голову, лихо подбоченившись, выходил он в круг и останавливался напротив самой пригожей девицы. Та вспыхивала с лица и в притворном смущении отворачивалась от парня. Тогда молодчик, выделывая юфтовыми сапогами «коленца» и «выкрутасы», спесиво выкаблучиваясь, воркующим голубком обходил вокруг облюбованную девку, отводил от её зардевшегося лица ладони и нежно заглядывал в глаза синим с томной поволокой взглядом. Млела неразумница, а её безрассудных подружек и подавно завидки брали.
Родичи же девок на выданье косо глядели на Сергеево ухажёрство. Сидели мужики на завалине, самокрутками дымили, зорко за дочерьми доглядывали и толковали меж собой.
– Завлекательный он ухажёр, спору нет, а жених – негодящий. Девки – дуры! Краса-то его писаная скоро приглядится, а вот щи-то никогда не прихлебаются – так рассуждал зажиточный скотовод Иван Киряков. – У Макеева же ни щей своих, ни кола, ни двора, а из скота лишь вошь на аркане пасётся.
– Да не то бяда, што гол как сокол. Были б руки работящие и головушка умная, добро нажить можно, – качал седой головой чёрносошенный дед Мокей. – А то бяда, што гулеван он никчемушный.
– Это тока кажется, будто Серёга с ветринкой в голове, – возражал ему пожилой поселенец Трофимов, – а он ханорик[88] ушлый и шибко себе на уме. Любова, как Серка, за уши обведёт. Меня вот, как последнева дурня, по найму на сенокос при расчёте на рупь надул. И как это он без мыла в глаза самому Ефиму Игнатовичу влез, что он ему расчёты с батраками доверят? И чем-то он так угодил выборному сотнику, что в добрые вошёл? Пошто Лыткин этого беспутного захребетника у себя на хлебах-то держит? Хорошо, што у сотника девок нету, а то б давно этот дармоед у нево в зятьях был.
– Да, – опасался сельский лавочник, не отрывая глаз от пригожей дочери-плясуньи, – молодёхонек, а хитёр, как мелкий бес. Не дай боже, задурит Наське голову, улестит, ухлестнёт дурёха с ним в убёг самокрутом венчаться, и сядет этот нахлебник мне на загривок. Тут глаз да глаз за дурёхой нужон.
Как ни присватывался Сергей Макеев к зажиточным красавицам, везде ему отказ. Не гнушался и дурнушками. Держал себе на уме: «Хоть невеста и страшна, как драная коза, да золотые рога. А жена не стенка, отодвинется, коли я себе любушку-зазнобушку втихаря заведу». Но богатых не выдавали за него, а бедную он и сам брать не хотел.
Однажды шла Аграфёна с тырла задами огородов домой, но догнал её Сергей Макеев. Воровато огляделся по сторонам. Пусто. Ни доглядчиков, ни лишних ушей. Зацепил бабёнку за смуглый локоток, приостановил. А у Аграфёны сердечко зыбануло и затомилось в сладостном предчувствии чего-то неведомого ранее, несбыточного. Загорелось, как летошный оранжевый жар-цвет на стылой белизне снега. Наклонился ухажёр и соблазнительно зашептал в ушко, обволакивая молодуху патокой синего взгляда:
– Любезная Аграфёна Ивановна, не по закону, не по праву баю, да иссушила твоя прелестна краса.
Притиснул её спиной к изгороди силой, крепко обнял и, опалив страстным поцелуем, затараторил:
– Век бы целовал твой маленький ротик и глазки. Хочу тя всю расцеловать, кралечка ненаглядная.
У Аграфёны от сладостных речей вязкий туман перед глазами, ноги ослабли и подгибаются, сердце в груди горячо колотится. Но собралась с силами, оттолкнула соблазнителя слабыми ладошками:
– С ума решился, чё ли? Мало ль те девок на селе, што ты к мужней бабе вяжешься?
– Девки так… для отвода глаз! Полюбил я тя безумно. День и ночь мои думки лишь об одной тебе. Одна ты стоишь перед очами.
И глаза Сергея наполнились горестными слезами. Он опустился на колени, выразительно прижал ладони к атласной рубахе и с надрывом в голосе продолжил:
– Не смотри так холодно. Не брани. Что ж ты больно так спесива и безжалостна? Почто гонишь прочь пылкую любовь мою? Пожалей бедного меня. Не губи жисть молодую.
Тут он сокрушённо зарыдал, вновь схватил её за руку и омочил ладонь обильными слезами:
– А не сжалишься – навек пропащая душа моя! Надоело мне жестоко страдать. Ей-богу, зарежу тя вострым ножиком, а сам в глыбокий омут с головой кинусь. Ревность жуткая истерзала мине сердечушко. Если любишь – не отказывай. Выйди тёмной ночью к мне на свиданку любиться, покуль старый чёрт спит. Ведь я плачу, от страсти сгорая.
Она испуганно покачала головой и заспешила к задней калитке, что вела в их огород. А Сергей вдогонку ещё жалобней выкрикнул:
– Ждать буду севодня у энтой калитки! Глазонек вовек не сомкну. Выходь, коли смертушки моей не желаешь! Не выйдешь, к утру моё хладное тело здеся у калитки и найдёшь!
Не спалось Аграфёне. Растревоженному сердцу маетно, горячо. Огромная луна-сводница бесстыдно пялилась через перекрестие окна на супружескую постель и заливала волшебным серебряным светом бязевую подушку. А на ней – башка с жёсткими патлами тёмных волос. Постылый муж грузно, как медведь в берлоге, перевернулся с боку на спину и захрапел, как зарычал. А из дыры смрадного раззявленного рта на сивые лохмы бороды потянулась вязкая длинная слюна. Аграфёна неприязненно отодвинулась от него подальше. Как только закрыла она бессонные глаза, так перед взором залитое слезами пригожее личико Сергея явилось. А тут ещё и ветви черёмухи под лёгким ветерком вкрадчиво зашумели и, как будто бы костяшками пальцев, застучали в слюдяное окно. Аграфёна в ночной льняной сорочке белой змейкой соскользнула с края постели, на ощупь накинула на голые плечи полушалок и бесшумной тенью исчезла за дверью. Стремительной береговой ласточкой, едва касаясь босыми ногами взрыхлённой почвы, она летела к задней калитке огорода. Навстречу ей с травы поднялась чёрная тень Сергея, и Аграфёна безоглядно и бездумно пала в распахнутые объятья соблазнителя…
Домой возвращалась перед рассветом. Блудливой кошкой прокралась в избу, потихоньку полезла в осквернённую супружескую постель. Константин потревоженно заворочался, расклеил сонные веки, буркнул:
– Ты чё это, Фенька, как лягуха холодная?
Аграфёна замерла, сердце ухнуло в пятки, но она совладала с дрожью голоса и как можно безразличней ответила:
– Во двор в уборную до ветру[89] ходила.
Он вновь захрапел, а она дрожащими пальцами натянула на себя одеяло.
Утром Аграфёна пришла к бабке Федотье, пожаловалась на бессонницу и выпросила макового отвара. Теперь постылый муж ночами спал беспробудно, а любовники уже с приходом холодов встречались в бане во дворе Аграфёны Шапошниковой.
Глава четвёртая
Рогач
Недаром говорят, обман на тараканьих ножках ходит. Жидки они, того гляди обломятся. А ещё народ говорит: «Сколь верёвочке не виться, а кончик всё одно виден будет».
Расцвела Аграфёна. Глаза светились, как у кошки в темноте. В избе домовничала, песенки под нос мурчала. К мужу притворно ластилась, а в руки не давалась. А Константин всё чаще к бутылочке стал прикладываться. Всё-то ему внезапно почившая маменька вечным укором мерещилась. Молодухе же это на руку. Вернётся супруг от соседей Мальцевых поздно, пьянёхонький в стельку, и дрыхнет беспробудно до утра.
И в этот февральский вечер Константин еле добрёл до кровати, упал косматой бородой в вышитые крестовым узором подушки, поелозил грязными сапогами по белой простыне и захрапел. Так и не притронулся к похлёбке с маковым отваром. Ближе к полуночи Аграфёна ещё раз нагнулась над лицом Константина, удостоверилась: «Беспробудно храпит благоверный». Оделась, прихватила с собой лоскутное одеяло, приоткрыла дверь, прислушалась к густому мужниному храпу и выскользнула за дверь.
Морозило. Черноту ночного неба проткнули острые льдинки звёздочек. А из этих дырочек густо сыпалась и сверкала в лунном свете серебристая пыльца снежинок. Над печными трубами натопленных изб белыми столбами стояли плотные дымы. И над баней Шапошниковых тоже вился тоненький, вкрадчивый дымок. А задняя калитка из огорода во двор была распахнутой. От неё полузаметённые порошей ямки следов. Аграфёна счастливо улыбнулась догадке: «Знать, уже любый давненько меня поджидает». Шагнула с крытого со столбами крыльца в рыхлый сугроб и заспешила к бане, взрывая кожаными черками с холщовыми голяшками свежевыпавший искристый снег и оставляя за собой глубокие борозды.
Константин проснулся внезапно, словно чёрт его локтём в бок двинул. Похмельно гудела голова, в рот точно кошки нагадили, мучила жажда. Не открывая глаз, рыкнул:
– Фенька, воды подай!
Но в последнее время такая услужливая жена не только воды не принесла, а даже голоса в ответ не подала. Разлепил веки, пошарил рукой по постели. Пуста рядом супружеская половина. Одеяло с жёниной стороны откинуто, даже простынь выхолодилась. Поднялся, качаясь добрёл до кухонного шкафчика-блюдника, жестяным ковшом зачерпнул из берестяного жбанчика тёплый травяной взвар. В голове немного прояснело. Сел обратно на кровать, стал строить догадки: «Может в «скотной» половине ягнят проведует?» На днях пёстрая овца объягнилась и пала. Сироток Аграфёна выхаживала в избе, а потому часто ходила ночью поить их из рожка коровьим молоком. Он встал, вышел в сени, заглянул в «скотную» половину избы-связи. Никого. Слабый огонёк на скрученном фитильке сального жировника тускло осветил брошенную на чистые сухие плахи дряхлую, почиканную молью рванину овчинного тулупа. Константин нагнулся и нащупал в её шерсти четыре комочка влажных ягнят. Они, дрожа, потыкались мокрыми мордочками в его ладонь. Хозяин нагнулся и заботливо укрыл их старыми домоткаными половиками.
Снова лёг в кровать и стал поджидать жену: «Поди-ка в уборную подалась?» Уже и вздремнул было, а супруги всё нет и нет. Подивился: «Эт скоко в нужнике-то можно сидеть?»
И тут же вспомнил о супоросной свинье с тяжело обвисшим брюхом и набрякшими сосками, которая в последнее время поскучнела, беспокойно хрюкала и всё больше заваливалась на бок в стайке. Он не на шутку встревожился: «Не вздумала ли хавронья неурочно пороситься? Надо пойти глянуть, не нужна ли помочь Аграфёне?»
Нахлобучил на голову чёрную мерлушковую ушанку, накинул на плечи собачью доху и вышел на крыльцо. Огляделся. От крыльца избы следки тянулись не к стайке, а к бане. Над баней же дымок из трубы курился, в окошке свеча теплилась. Константин озадачился: «С каких это щей вдруг дуре-бабе посреди ночи баню топить приспичило? Чой-то здесь нечисто». Подкрался к оконцу, глянул и оцепенел: на полке его бесстыдница-баба с поселенщиком Макеевым блудным делом занимается. Дикая ярость крутым кипятком шибанула в голову мужику. В голове бестолково замельтешили злобные мысли, жалючие, как раздражённые шершни в разворошённом гнезде: «Даже дверь на крючок не закрыли, срамники! Даж окно не занавесили! Прибью-ю-ю потаскуху! Придушу блудодея!» Он одним ударом дюжего кулака распахнул дверь и, тяжело дыша, ввалился в баню. Рыча, с налитыми кровью глазами, растопырив длинные руки, пошёл враскачку на побледневшую парочку.
Первым опомнился Сергей. Он соскочил с полка и заметался из стороны в сторону. Истошно взвизгнув, Аграфёна рванулась к мужу и вцепилась в косматую бороду. Отчаянно свирепая и безудержная, как рысь когтила ногтями его волосатую грудь. И подарила растерявшемуся любовнику спасительные минуточки. Сергей ужом скользнул под руку разъярённого мужика в проём двери и бросился во мрак двора. Константин же, одной рукой отталкивая намертво вцепившуюся в него жену и волоча её за собой, другой судорожно нашаривал у каменки кочергу, в бессильном бешенстве наблюдая, как соперник босиком, без портков, в одной исподней рубахе сверкнул в лунном свете голым задом и сиганул в низкую калиточку. Затем одним прыжком перемахнул через груду жердей и брёвен, заготовленных хозяином для пристройки к «чистой половине» избы, и, оглядываясь и петляя, как пуганый заяц, огородами побежал к дому сотника. Тогда Константин с силой отодрал аграфёнины руки от себя, нащупал в поленнице полено и запоздало метнул его вдогонку трусливому хахалю, а оттого совсем осатанел. Сгрёб жену за грудки и тряхнул так, словно хотел вышибить из неё дух. Взревел лихоматом:
– Да на ково ты позарилась-то? Меня – вечного сибиряка[90] на бродячую посельгу[91] променяла! На вшивого гашника![92]
Швырнул обмякшую бабу в снег и жестоко, до полусмерти избил изменщицу-жену. Молчком, стиснув зубы, каталась по окровавленному снегу Аграфёна, и ни стона, ни мольбы о пощаде не услышал на этот раз от неё Константин.
На следующий день он прихватил брошенные сбежавшим полюбовником портки, шикарную рысью шапку-долгушку, франтовскую сборчатую сибирку, щегольские сапоги с подбором и пошёл на разбор к сотнику. Только подошёл к большому дому с четырехскатной крышей, а навстречу ему из широких резных ворот в медвежьей дохе важно шествует сам Ефим Игнатьвич Лыткин. А рядом с ним юлит и угодливо в глаза выборному заглядывает захребетник-ссыльнопоселенец. А одет теперь Макеев в плохонький полушубок, на ногах старые бродни, на голове не по погоде обшарпанный картуз. Швырнул Константин ему под ноги оставленные в позорном бегстве вещи, мол, нам чужого не надо, и, слова лишнего не говоря, гвозданул кулачищем по зубам. Сцепились соперники, словно петухи. Сотник рот от изумления разинул:
– Вы што, мужики, посдурели?
Но те только сопят, по земле катаются и волтузят друг друга. На драку любопытники сбежались. Тут Лыткин спохватился, вспомнил о своих обязанностях сотника, грозно нахмурился и велел сельчанам разнять драчунов. Мужиков растащили в разные стороны, заломили руки за спины и поволокли на сборню[93] вершить народный суд над нарушителями сельского мира. Стал сход допытываться у буянов:
– Пошто хвощитесь-то? Почто вас мир-то не берёт? Почто вражба такая?
Отвернулись непримиримые враги друг от друга. Молчат оба. Сергей Макеев глаза в сторону отводит. Полюбовнику совестно прошлую ночь вспоминать: «Срамота-то какая! Скакал, как заяц, от этого желопупа[94] с голым задом по чужим огородам. Слава богу, никто не встренулся. И ночь-то такая лунявая была, хуть иголки подбирай. Так и крался дурак дураком задворками, срам ладонями прикрывал. Ладно, что квартирую у Ефима Игнатьевича не в дому, а в отдельной избушке за огородом. Узнает кто про тако позорище, высрамят до смерти! Да и сотник уж больно строг. Сразу со двора сгонит. А я тока-тока к нему в доверенные пристроился. Службишка-то при Лыткине не тягостная, не хлопотная. Знай, держи нос по ветру и угадывай, что хозяину повадно».
Константин же ненавистно косил в его сторону глазами, скрипел зубами, стискивал челюсти так, что желваки на скулах твёрдыми буграми вздулись. Ему тоже стыдно признаваться, что вертлявый ссыльнопоселенец огулял его жену: «Нет, не из таковских я, чтобы дать себе на ноги топор уронить! Мы ишо посмотрим, кто кому в кашу плюнет! Пусть тока разинет пасть поизгаляться надо мной и рогачом назвать прилюдно! Удавлю на месте, а там хуть в чурьму!»
Бились, бились с ними уважаемые старики и степенные мужики, но ни слова из обоих не выдавили. Тогда сельское общество порешило:
«Отодрать обоих розгами пресильно, чтобы впредь было не повадно кулаками махаться».
Растянули обоих на бальберте[95] и от всей души выпороли, приговаривая: «Терпите, мужики, по мирскому установлению за вашу провинку сельское общество правёж чинит!»
Глава пятая
Смертный канун
С этих пор и вовсе свету белого не взвидела Аграфёна. Муж смертным боем бил за малейшую провинку, со двора ни на шаг не выпускал, а коли уходил куда недолго по временным хозяйственным надобностям, жене кисти рук бечевой туго перетягивал и за косы к спинке кровати привязывал.
В этот день с утра прибежал к ним выхрещенный[96] ясашный[97] инородец Кайбальского улуса Пипел Питежев. Он без смущения пригнездился у порога, костлявые ноги калачиком свернул. Простодушно разулыбался угрюмому чалдону худеньким личиком. Смуглая кожица собралась в сеточку незатейливых морщинок, а в узеньких бесхитростных глазёнках замельтешили ласковые светлячки.
– Дравствуй, Коста. Моя каровий пастух Ильи Мальцева. У хозяина говорка была, што у тебя табашный гаршок есть.
Тут он вытащил из-за пазухи длинную трубку, выразительно постучал ею об пол, демонстрируя отсутствие табака, и с огорчением покачал головой:
– Чох[98] табак. Мой без табака совсем плохой.
Затем просительно добавил:
– Коста, дай гаршок. Тебе моя говорка спасиба будет.
Увидев, как насупился домохозяин, огорчённо покачал головой и значительно огладил жидкую седенькую бородёнку:
– Мой – старик с белой сагал. Худо никому не делал. Христос знат, потом обратно принёсу.
Он, не вставая с места, подкрепил свою просьбу, неловко перекрестившись на икону в красном углу.
– За спасибо, харакчы[99], и прыщ на заду не вскочет, табаку потом жменьку, другую отсыпешь, – нелюдимо буркнул Константин и рыкнул: – Фенька, принеси горшок из кладовки, в котором я завсегда табак смолю. На нижней полке стоит. Да живо мне!
И подозрительным взглядом проводил бабёнку со следами незаживающих синяков на бледном лице. Аграфёна молчаливой тенью скользнула мимо него в сени. Она вынесла глиняный закопчённый горшок, подала старику. Не поднимая глаз, убралась в «скотную» половину избы пестовать ягнят.
Старик обрадовался, схватил горшок под мышку и засеменил к выходу, торопливо кланяясь прижимистому чалдону:
– Давай бох здоровья, Коста.
А Константин вдруг засобирался, запряг гнедого мерина, в возок кинул топор и мёрзлую освежёваную козью тушу, погрузил мешки с зерном. Жену запер в избе, дверь снаружи задвинул на чугунную щеколду. Ворота заплотного двора заложил доской-подворотней, наклямку[100] воротчиков замотал бечёвкой и поехал в Минусинск на базар. К вечеру удачно расторговался. По дороге домой завернул в лавку-винополку. Там столкнулся с Макеевым, который прибежал прикупить лампасеек, чтобы лакомить девок на тырле. Константин резанул его мрачным взглядом, грубо двинул крепким плечом ссыльнопоселенца и оттеснил от прилавка. Оробевший Сергей безропотно уступил ему очередь. Чалдон вытащил из кармана собачьей дохи пёструю тряпицу с комом мятых червонцев и, бахвалясь, небрежно бросил рубли лавочнику:
– Две бутылки хлебного вина.
Лавочник угодливо прогнулся:
– Не угодно-с ещё чего? Лампасеек, пряников печатных?
Мужик злобно покосился на соперника и, отрицательно мотнув головой, рассовал бутылки по карманам. Разворачиваясь к выходу, нарочно припечатал носок щёгольского юфтового сапожка чугунной тяжестью ступни в грубом кожаном ичиге[101]. Ухарь скривился и мстительно посмотрел в спину уходящего мужика.
Поздним вечером Константин вновь запер жену на щеколду, прихватил купленные бутылки и отправился к Мальцевым.
У Ильи, весёлого, разбитного мужика, не застал в избе инородца и заворчал:
– Где твой батрак? Упёр горшок табашный и с концами. Притырил поди, выхресть косоглазый.
Сосед спрятал смешок в русые усы, прищурился и дружески хлопнул Константина по плечу:
– Да ты никак браниться пришёл? Да энто я послал его скотине корм задать. Щас придёт Пипел и стребуем с него твой горшок. Поди-ка закрутился старик да запамятовал.
Хлопнула дверь, и на пороге возник озябший Пипел. Увидел Константина, суетливо скинул широкополую нагольную шубейку, спешно достал из-под лавки посудину, сунул в руки чалдону. Виновато залопотал, тыча под нос мужику бурый замшевый мешочек:
– Не серчай, Коста, тока-тока табак высмолил. На-ка, спробуй!
Мужики взяли курево по щепотке, понюхали. Махорка душисто припахивала чабрецом и смородиновым листом. Илья расхвалил табак, а Константин, припомнив простодушному инородцу уговор, отгрёб из щедро распахнутого мешочка в бумажный кулёк четверть запашистого зелья. Илья довольно потёр ладони:
– Ну, теперяча самое время за мировую по кружечке драбалызнуть. У моей Марфы дрожжоночка знатная приспела.
Он мигнул жене, и расторопная Марфа кинулась накрывать стол.
Константин же торжествующе вытащил из кармана бутылку и хлопнул донышком об стол: «Знай наших!» Сосед расцвёл в счастливой улыбке:
– Из мангазеи? Казёнка? Под такую радость не грех холодца из «рожи» отведать, а Марфа?
И Марфа расстаралась. На гладко струганных досках столешницы в чашках замлели, исходя солёной слезой, белогубые грузди, зазеленели бочковые огурчики. Хрусткая капуста, присыпаная резаным лучком и мочёной брусникой, заманчиво лежала белоснежной горкой. Рубленые стебли черемши, впрок заготовленные летом, источали острый чесночный запах. Ломтики сальца зарозовели рядом с рассыпчатой картошкой. А венчал это изобилие крестьянский деликатес, подаваемый только по большим праздникам да на свадьбы – изготовленный загодя «почётный» холодец из коровьей кожи. Поставила хозяйка и кувшинчик ягодной браги.
Илья спешно перекрестил рот и пробормотал краткую молитву. Константин клал медленные размашистые кресты и внагиб кланялся иконам. Пипел, не сводя загоревшихся глазёнок с запотевшей бутылки, беспорядочно, наобум совал сухие персты в худосочные плечики и пупок. Сели за стол. Марфе, как бабе, и Пипелу, по-стариковски, налили по крошечному лафитничку[102]. Илья наскоро махнул рюмку и начал метать в рот грибы и картошку. Константин медленно цедил водку и вяло ковырял ложкой холодец. Сразу же сомлевший инородец пьяненько жмурился и льстил гостеприимному хозяину:
– Хорош аппетит, Илья Василич. Хорош хозяин. Моя совсем старый, юрта нет, скота нет, совсем хомай. А баба и сын сдох. Некуда Пипелу идти, кусать нечево. Совсем допрый хозяин, не дал моя сдохнуть. Спасиба говорка.
– Аппетит – не жёвано летит. Глянь-ка, какой жор на меня нынче напал, – бодро ответил тот и легонько подтолкнул локтём обмягшего пастуха: – Э-э, совсем ты скапустился, Пипел. Накось, клюкни ещё лафитничек да ступай-ка спать. Марфа, – распорядился он, – сведи старика и уложи в пристройку.
– А ты что, Константин, нынче такой смурной? Ничево не ешь. Угощенье не по ндраву? – обеспокоился хлебосольный сосед. – Марфа, подсыпь нам ишо картохи.
Константин сокрушённо махнул рукой, встал и вынул из шубного кармана вторую заветную бутылку. Набулькал до краёв кружку, хлестанул не поперхнувшись и угрюмо насупился. Заговорил, выворачивая из недр мрачного измаявшегося нутра громоздкие булыжники слов:
– Гляжу я на вас, всё-то у вас ладом. Баба у тя хорошая, аж завид берёт: и весёлая, и в дому обиходница, и живёте душа в душу. Почто так?
– Да у твоей тоже из рук ничего не выпадат, – весело заметил хмельной Илья, – куды с добром, и приглядна, и ладна.
И осторожно попенял, подливая в глиняную кружку мутную брагу:
– Тока хвощещь ты, сусед, её без чуру.
Насмешливо пошутил:
– А жена, как мята, мять надо в любовинку, чем чаще мнёшь, тем слаще пахнет.
И он шутливо хлопнул по пышному заду подошедшую к столу со сковородой жареной картошки молодую жену. Игриво подмигнул ей. Марфа зарделась, подсела к ним на краешек лавки, сочувственно подпёрла ладошкой щёку. Уже изрядно перебравший Константин угрюмо набычился, саданул кулаком по столешнице и свирепо рявкнул:
– Да я её, суку блудливую, ваще удавлю когда-нибудь.
– Да чё ты мелешь-то, сусед? – бесцеремонно встряла в мужской разговор бойкая на язык Марфа. – Али мы не знаем, што Аграфёна девкой выдержанной, чесной за тебя шла. За что ты её так высрамил-то?
– Не в донос скажу, была чесной да вышла из веры. На днях я прихватил её в бане с полюбовником, – тяжело ворочая языком, признался Константин.
– Ты эт всурьёз? Без булды? – не поверил ему Илья. – Эт кто ж так тебе подмогнул?
– Макеев, поселенщик, что квартирует у сотника. – Чалдон уронил на заскорузлые руки косматую башку, и пьяная чугунная слеза выдавилась в уголок мутного глаза.
– Да, этот молодчик дошлый и глёзкий, как налим. От такова любую подлянку завсегда жди. А говоручи-и-й! Ему бабу уломать – плёвое дело, потому не обессудь, сусед, на осудном слове, а жену ты сам довёл до краю.
– В чём же ты меня завинил? – свирепо вскинулся чалдон.
– Дык, ежели, к примеру, кобылу свою то и дело кнутом охаживать, то и задохлина-кляча учнёт взбрыкивать, – изрёк Илья, – а тут баба!
Он назидательно покачал пальцем перед носом осоловевшего мужика:
– Она, вить, как кошка, шибко ласку любит. А будешь зноздить, поцарапает.
Константин тяжело поднялся с места, рыкнул:
– Не учи учёнова, а пожри дерьма толчёнова! Разязви тя! Ишь, указчик мне ишо нашёлся!
Шатаясь добрёл к порогу, сорвал с вешалки и напялил шубу, нахлобучил ушанку, на прощанье злобно хлобыстнул входной дверью.
Илья только головой покачал.
Глава шестая
Убивцы
Пьяный Константин с трудом добрался до дому, нетвёрдые ноги выписывали замысловатые кренделя. Долго копался, безрезультатно пытаясь развязать узел бечевки на наклямке воротчиков. Наконец озлился и с силой рванул воротчики на себя. Бечёвка лопнула, и мужик вошёл, оставив вхожалище во двор незапертым. Цепляясь за перила, влез на крыльцо, отодвинул чугунную щеколду и ввалился в тёмную избу. Аграфёна, уныло подперев щёку рукой, тёмной скорчившейся тенью сидела на маленькой лавочке около устья печи. Задорные отсветы огня, игриво колеблясь, выхватывали из сумрака избы осунувшееся лицо с запавшими потухшими глазами. Она увидела мужа, вздрогнула и насторожённо поднялась с места. Константин тяжело взгромоздился на лавку, расшереперил ноги в грубых ичигах, криво, издевательски ухмыльнулся:
– Почто без огня сумерничаешь? Хахаля поджидаешь? Разболокай мя да растилай постелю. Любиться нынче будешь с венчанным. И спробуй не ублажить! За космы оттаскаю! Эт те не сверх закону жить с полюбовником.
Мужик грозно потряс мосластым кулаком. Аграфёна кинулась к нему, стянула тесные сапоги, попыталась снять собачью доху. Но Константин, больно ударив её в грудь кулаком, шагнул к кровати и, не снимая дохи, упал на постель. Развалился, раскинул в стороны руки-ноги, густо захрапел. Жена с облегчением вздохнула, благодарно перекрестилась, кинула на пол свой полушубок, тихо прикорнула, тревожно вслушиваясь в раскатистый храп. Мысли тянулись безрадостные, беспросветные, как сгущающаяся мгла у протопившейся печи.
Вдруг в сенях что-то негромко брякнуло. Аграфёна приподняла голову, прислушиваясь к посторонним шорохам и завыванию пурги за окном: «Никак Константин дверь забыл на крючок запереть, вот ветер теперя ею и шабаршит. Надоть закрыться, а то снегу в сени наметёт или варнак какой заберётся». Помнила, что в зимнее время беглые каторжане с голодухи часто «шалили» по деревням и сёлам, тащили всё, что под руку подвернётся. Она накинула на плечи полушубок и вышла в сени. Нетерпеливые руки жадно сгребли её в охапку, горячие губы несыто припали к сомкнутому рту. Аграфёна счастливо задохнулась:
– Желанник мой, да как ты осмелился-то?
Сергей шёпотом спросил её:
– Что муж? Спит ли?
– Спит.
Он участливо забормотал:
– Как ты без меня, кралечка моя?
Аграфёна припала лицом к коже сборчатой сибирки:
– Мордует он меня день и ночь. Продыху нету.
И непрошеные слёзы брызнули из глаз. А он похотливо тискал её грудь под распахнутыми полами полушубка и бесцеремонно тянул к широкой корявой лавке. Аграфёна испуганно оттолкнула его:
– Ты што ополоумел? Проснётся – убьёт на месте!
Но молодчик самоуверенно возразил:
– Не убьёт. Он же пьян вдребезги. Я за ним следом шёл от самих Мальцевых, а он даже и не чухнулся.
– Любый мой, – взмолилась Аграфёна и снова припала к его груди, – давай убежим.
Он испытующе заглянул ей в глаза:
– А как же хозяйство? Я ж давно приметил, какое оно у вас справное.
И поселенец деловито, со знанием дела, стал перечислять, загибая пальцы:
– Две коровы, одна белохребетная, друга – коричневая нетель. Ишо мерин гнедой, десять овец-белоярок, супоросная свинья, пашня, шуба баранья новая, покрытая чёрной китайкой, однорядка тож чёрная, шапка кроличья, ичиги и протчева добра полны короба.
– Всё брошу. Вот такой вот разнагишённой, вскосматуху, босой хуть на край света за тобой побегу. И не оглянусь. Не с богатством жить, а с человеком. Не люба я тебе голянкой, чё ли?
Поселенец отодвинул её и холодно ответил:
– Не на то я родился, штоб на голянке жениться. Голой кости и собака не гложет. Рот-то радуется большому куску. Мы что? Побирушничать по свету пойдём? Больно надоть.
Аграфёна закрыла лицо ладонями и вскричала навзрыд:
– Лучше хлеб с водой, чем пирог с бядой!
Тогда молодчик отнял ладони от мокрого лица, стал пылко целовать, уверяя в безумной любви, и умолять более мужу никогда не принадлежать.
– Что же я могу поделать-то? Вить он муж мне по закону! – в сердцах, сквозь слёзы воскликнула Аграфёна.
Не давая ей времени на долгие раздумья, Сергей начал жарко убеждать любовницу:
– Возлюбленница моя, я хочу тебя замуж взять, но рассуди сама. Мы с тобой будем горе мыкать и лапу как медведи сосать, а твой мужик – жировать. Да ишо себе новую бабу заведёт. А ты корячилась, корячилась на хозяйство, а уйдешь с пустыми руками? Не дело ты баешь. Послушай же меня, дело это провернуть надо по-умному.
Он сделал вид, что глубоко задумался:
– Как ни крути, а пока твой мужик не отдаст богу душу, он нам и жизни не даст, и одной судьбы у нас не сложится.
Затаив дыхание, Аграфёна с ужасом уставилась на него:
– Что же делать-то?
Он хладнокровно протянул ей узорчатую опояску сибирки:
– Чичас самый удобный случай. Пока твой дундук[103] пьяный дрыхнет, возьми и придави ево. И будет тогда на ложке сразу две горошки. И безбедно заживём, и душа в душу.
Аграфёна горестно всплеснула ладонями:
– Да как же можно душу живую губить? А ежели кто проведает? С меня первой спрос будет!
– Докедова он тя на ножевом острие держать будет и мученически мучить? А ты? Нешто жаль берёт?
И начал вкрадчиво уговаривать:
– Да не проведает никто. Сказывай, уехал муж сёдни утресь в Минусинск и не ворочался ишо. Вот и весь сказ.
И всучив ей опояску, настойчиво подтолкнул в спину к прочным, оббитым войлоком дверям избы.
Аграфёна робко вошла из тесных вымороженных сеней в тёплую горницу. Завируха тоскливой волчицей глухо завыла за окном и заснежила стылое окно. Свозь изморозь тускло просвечивало размытое пятно луны. Плита остывающей печи уже совсем блёкло освещала край деревянной кровати с чёрным силуэтом безмятежно храпящего мужика. Над кроватью, на гвозде, как суровое напоминание о непререкаемой мужниной власти, висел конский кнут, а его длинное сыромятное плетево болталось над изголовьем, как петля удавленника.
Аграфёна на цыпочках подкралась к кровати, примерилась опояской к жилистой шее. Муж зычно всхрапнул и сладко, как грудной младенчик, зачмокал во сне губами, повернулся на бок, по-детски подложив кулак под бородатую щёку. Тут у бабы и руки опустились. Она смотрела на своего жестокого мучителя, и бессильные слёзы пережитых обид жгли её бледные щёки. Молодая отвернулась от изверга и, обречённо опустив голову, снова вышла в сени. На вопросительный взгляд любовника, протянула ему опояску и покачала головой:
– Внемочь мне.
Скрипнув зубами, Сергей бросил на неё уничижительный взгляд, вырвал из рук опояску и резко вошёл в избу. Сразу же всем телом навалился на спящего, отдёрнул косматую башку от подушки, закинул узорчатую полоску ткани на оголённую шею и изо всех сил начал душить. Константин мучительно захрипел, засучил пятками по мятой постели, судорожно цепляясь шершавыми пальцами за крепкую удавку. Наконец, он дёрнулся и стих. Убийца вытащил из-под него слишком приметную, вышитую ярким гарусом опояску, которую ему подарила дочь сельского лавочника Настя. И тут же вспомнил о деньгах, завёрнутых в пёструю тряпицу. Не удержался, обшарил сначала один карман собачьей дохи. Пусто. Перевернул покойника на другой бок, запустил руку в другой карман и нащупал заветный узелок с червонцами. Обрадовался, воровато оглянулся на входную дверь и проворно спрятал деньги в карман своих портков. Вдруг покойник зашевелился и замычал, пытаясь приподняться с перины. Цепенящий ужас, словно ледяной водой, окатил Сергея: «Ох, и живуч проклятый желопуп!» Вновь вспрыгнул на беспомощно распластанное тело, вцепился пальцами в твёрдый кадык и начал стискивать хрящеватое горло. Затем прислушался к дыханию и, приложив ухо к волосатой груди мертвеца, чутко выслеживал последний стук сердца. Встал. Облегчённо вытер холодный пот со лба. Вышел в сени, не забыв с собой прихватить бросающуюся в глаза улику – узорную опояску. Увидел напряжённую фигуру любовницы, сухо объявил ей:
– Издохнул твой муж. Верняк. За горляк жиманул, из нево и дух вон. – Глумливо ухмыльнулся: – Всё. Отдрыгался бохолдой[104] рогатый. Был полковник, а стал покойник.
Аграфёна вздрогнула и залилась слезами:
– Куда мертвеца-то девать?
Он ободряюще потрепал её по плечу:
– Почто так загорюнилась-то? Иль по мужниной лупцовке жалкуешь? Да не взробывай так, впотаях увезу жмура на лошади подальше и брошу где-нибудь у дороги в сугроб. Пущай люди думают, что каторжане его ограбили и придавили. Ты, главное, язык держи за зубами. Уехал, мол, в утренний уповод[105] на базар и обратно не вертался. А боле ничево мне не ведомо. На том и стой крепко.
Глава седьмая
Судный день
На следующий день с утра выборный сотник Ефим Игнатьевич Лыткин отправился на гумно. Вчерашняя завируха улеглась, но зато грянула лютая стужа. Край неба выбелил и слегка подрозовил первый предрассветный луч. В такую рань и такой дубак сотника выгнала забота. Ему нужно было рачительно, своеручно проверить, сколь ещё мешков мякины осталось для подкормки скота, и рассчитать, сколько баранов и прожорливых бычков пустить под нож. От верного человека пришла долгожданная весточка, что на золотоносной реке Сарала старателями проелась солонинка и в данный момент парное мясцо в большой цене: в Минусинске в базарный день пуд мяса шёл за рубль, а на золотом прииске свежатину можно толкнуть и за рупь восемьдесят. И это предприятие обещало сотнику и его десятскому Евдокиму Иконникову знатный барыш. Обоим нужно было поторапливаться, пока другие расторопные торгаши не перехватили столь наваристый куш. К обеду Ефим уже хотел приказать батракам начать забой скота, а к следующему утру он договорился с десятником собрать обоз. Лыткин бодро шагал к концу усадьбы свата и соратника Иконникова. И хотя идти было относительно недалеко (гумно находилось в конце собственного огорода и дворища Иконникова), он утеплился основательно. Но это не спасло Ефима от стужи. Ядрёный мороз забирался под козырёк волчьей шапки и немилосердно щипал вислобровый навес бугристого лба. Предательски слезились тускло-жёлтые глаза, похожие на затёртые кругляши медяков. Щетина усов, жёстких, колючих, как обломыш пихтовой ветки, махрово закуржавела. Кончик пористого длинного носа угрожающе побелел. Сотник то и дело усердно тёр суконными рукавицами-вожжанками и нос, и багровые щёки, боясь обморозиться. Но ещё издали, в конце усадьбы десятника, у бани Ефим узрел что-то сваленное в длинную чёрную кучу. Выборный озаботился: «Никак варначьё что-то спозаранку покрало у свата». Он покрутил головой и прихватил на всякий случай валявшуюся у ограды длинную слегу. Остановился и, приложив руку в лохматой вожжанке ко лбу, стал напряжённо всматриваться в стылый туман. Но из-за бани никто украдкой не выглядывал. Куча тоже не шевелилась. И Лыткин успокоился: «По ходу ворьё меня ранее углядело и дёру дало. А с перепугу и добро наземь побросало. Надоть глянуть да упредить Евдокима. Ишь кака здорова куча, поди што-то путное хотели уволокчи». Он отбросил дрын в сторону и прибавил шагу.
Подошёл ближе к бане и сначала обопнулся о знакомую мерлушковую ушанку, затем поднял с вытоптанного снега красную шерстяную опояску. Тогда Ефим подбежал ближе к вытянутому предмету, нагнулся над ним и отпрянул. В распахнутой свалявшейся собачьей дохе на куче печной золы валялся, как изношеный рваный обуток, его односельчанин Константин Шапошников. Багровый след удавки наискось перебороздил шею покойника. Было видно, что жилистую, мощную, как у бугая, шею беспощадные руки убийцы жестоко терзали: мяли, вдавливали, ломая хрящи, царапали и рвали ногтями. И теперь чистый, ажурный покров снега скорбно припорошил широкую грудь в синей косоворотке и серые холщовые порты. Волосатые руки и пальцы босых ног мертвеца скрючились в судороге предсмертной агонии. А со злобного почерневшего лица в белое студёное небо обескуражено таращились выпученные мёрзлые бельма. Из провала посиневшего рта с дрябло отвисшей челюстью тянулась полоска сукровицы. Сотник хоть и мужик не робкого десятка, а тут разом взопрел и суетливо закрестился: «Свят, свят, Господи! Спаси и сохрани нас! Эт кто ж тя, мужик, ухайдакал?»
А потом дробной трусцой побежал к ближней избушке, где квартировал его доверенный Сергей Макеев. Рванул на себя дверь, ввалился в домик, подскочил к кровати. В нетопленой избе, накрывшись с головой одеялом, «дрых» поселенщик. Потный Ефим сдёрнул с работника одеяло и в запале даже не удивился тому, что молодчик в постели лежит одетый. Сергей уставился на него сонными глазами. Выборный рухнул на лавку, гаркнул:
– Чаво вылупился? Живо зови десятника![106] Я мертвяка нашёл!
И сокрушённо застонал:
– Вот не было печали, так черти накачали! Щас понаедут из города дознаватели, всех замотают. А с меня особый спрос, всю душу теперя вытрясут.
Он сорвал с головы шапку, рукавом вытер испарину со лба и ожесточённо плюнул на пол:
– Тьфу-у-у ты! Вот пропасть-то, весь барыш коту под хвост!
Скоро к нему в избушку прибежал Евдоким Иконников. Десятник деловито пожал руку огорчённому сотнику:
– Здоров будь, сват. Ну, пойдём, что ль? – Он глубоко задумался, пятернёй поскрёб затылок, туго припоминая юридические термины. И важно изрёк: – На место-по-ло-жения убивства.
Рядом с убиенным уже бестолково толпились сельчане. Евдоким растолкал локтями любопытников, гадливо взглянул на труп и боязливо промямлил:
– Мда-а, жизню даёт тока Бог, а забират всяка гадина.
Затем важно надулся, изображая из себя опытного дознавателя, и сквозь спесиво оттопыренную нижнюю губу грубо цыкнул на любопытников:
– Р-рразойдись! Все знаки убивства позатоптали.
Тут из толпы высунулся шустрый инородец Пипел Питежев, посуетился около мертвеца и заявил десятнику:
– Пошто серчаешь, Явдокима? Пошто говорка знака чох? Глаз твой большой, а сам слепой, как сова днём. Плохо смотрел. – И он укоризненно ткнул сухим пальцем в едва заметный след саней. Выколупнул из притоптанного снега остаток капустного листа и засуетился на месте, словно лис, учуявший мышь в сугробе. А затем с рвением охотничьей лайки, уверенно взявшей след колонка, засеменил ко двору Шапошниковых, на ходу подбирая капустное крошево. Грузный Ефим за ним рысил, пыхтя и отдуваясь. Десятник, почтительно отставая, вышагивал за выборным сотником. Сват сватом, а чин блюсти обязан. Во дворе у бревенчатого амбара Шапошниковых Пипел нерешительно остановился. Десятник распахнул скрипучие тяжёлые двери, и все увидели хозяйские дровни с остатками капустных листьев.
Покойника на этих же санях и привезли в свою избу. Аграфёна, как только глянула через порог на босые пятки, на всклокоченную заиндевевшую бороду, на раззявленный в немой муке рот покойника, так белый свет и померк у неё в глазах. Она сомлела, грянулась на пол и в полуобморочье повинилась людям в содеянном грехе. Сообщника тут же, не сходя с места, схватили, скрутили, обыскали. Нашли при нём неоспоримую улику – цветной узелок с покраденными у покойника деньгами. Обоих безотлагательно упекли в чужовку[107]. Этим же вечером удовлетворённый сотник отписал рапорт в Шушенское волостное правление о доблестном раскрытии им зловещего преступления и поспешил собирать обоз с мясом.
На суде Макеева от досады на себя корчило, как бересту на огне: «Эка, каку глупую оплошку-то я дал! Не углядел в темноте и в спешке капустные листья в дровнях. Вот и попал, как бес в перевес[108]. Да и деньги надо было сразу же спрятать в потайном месте». Но на людях держался вызывающе, нагло отпирался:
– Семнадцатого февраля я находился при квартире Лыткина, сушил шкуры. На улицу выходил только справить малую нужду. Ночевал дома. А деньги Аграфёна мне сама отдала, потому что на шею мне вешалась. Но я в полюбовницы её не взял. Дак, вить, лучше раздразнить собаку, нежели бабу. Вот она и удавила свово мужика. Уж как она одна со всем управилась, мне то не ведомо. В тихом омуте черти водятся. Знать, шибко хотела иметь со мной блудную связь.
Тут он горделиво вздёрнул подбородок и плавно повёл ладонью по светлым вихрам. Улыбчиво поиграл ямочками-завлекалочками, а потом презрительно скривился:
– В самделе, нужон мне порченый товар, когда за меня и не такие крали хочут замуж пойтить. И побогаче, и покраше. Выбирай – не хочу.
Поселенщик игриво подмигнул Аграфёне бойким синим глазком. Та горестно простонала:
– Не убива-а-ла я. Кабы хотела убить мужа, бесивом[109] бы опоила. Никто б не вздогадался. А вина моя в том, что допустила полюбовника к телу мужа.
Она резко повернулась к Сергею и полыхнула на него чёрным пламенем взбешённого взгляда:
– Любый мой, чево ж теперь выхитривать-то? Повинись. Сними грех с души! Не ты ль принуждал меня задушить мужа? А теперь крутишься, как чёрт перед заутренней. Ишь ты! Мороженые твои глаза! Совесть-то поимей. Али, когда совесть Бог раздавал, тя дома и в помине не было?
Но ушлому поселенщику солгать, что облупленное яичко слопать. Макеев взвился с места, истошно, по-бабьи, завизжал, тыча в неё пальцем:
– Энта баба – врачка! У ней ярость – хитрость без меры! То, что во время убиения я дома находился, может подтвердить сотник Ефим Игнатьевич Лыткин.
Лыткин подтвердил, что во время убийства Макеев находился в постели. Аграфёна закрыла лицо руками и бессильно зарыдала.
Но когда вычитали суровый приговор, она спокойно подняла бледное лицо, наградив любовника холодным презрением. Её обольститель и убийца мужа вышел сухим из воды. Его даже выпустили из зала суда под неусыпный надзор почтенного сотника, а вот Аграфёну приговорили к наказанию кнутом и вечным каторжным работам. Дом и имущество убиенного суд распорядился распродать на безаукционном торге, а вырученные деньги передать в учреждения Сибирской губернии. И где справедливость?
У кошки, говорят, девять жизней. Три жизни женщина-кошка уже прожила, смертно битая кулаками мужа-изверга. Сейчас же она расходовала их под кнутом палача, ритмично отмерявшего положенные ёй по приговору суда сто ударов. А чтобы убивица нутром прочувствовала тяжесть содеянного и не отдала богу душу, количество ударов раздробили до полного отбытия наказания. После очередной экзекуции окровавленную и беспамятную бабу вносили в тюремный госпиталь и швыряли на казённую кровать. Так она всё-таки выживала, выкарабкивалась из гостеприимно распахнутых могильных объятий. Лупцевали и лечили до тех пор, пока палач не отработал заданный ему урок.
По весне багрово-синяя спина Аграфёны зарубцевалась, задубела и стала мало чувствительной к боли. А с началом лета, когда преступница в последний раз отвалялась в тюремном лазарете, её примкнули цепями к партии каторжан. Оставшиеся жизни Аграфёне Шапошниковой предстояло отдать каторге на Ирбинском руднике…
Часть четвертая знамение
«И увидел я зверя… и воинство его».
Библия
Глава первая
Глоток свободы
К ночи августовское небо над тайгой затянулось пришлыми с северо-востока стадами промозглых тёмно-серых облаков. Слоистые, как сырой овечий войлок, они медленно разбухали, превращаясь в грузные, неповоротливые туши ленивых туч. Отчего казалось, что эти мрачные орды весьма довольны «пастбищем» и не прочь задержаться здесь всерьёз и надолго. Серый туман был с ними заодно и, как мог, цеплялся за вершины деревьев седыми космами, зависал рваными прядями на смолистых хвойных ветках. А когда мглистый край неба осмелился осветиться скромным тусклым рассветом, чёрная орда возмутилась и все нагулянные запасы влаги сильнейшим ливнем опрокинула разом на спящую землю, сыпанув вдогонку ледяного колкого буса. То-то засекло-забарабанило! Точно сотни тысяч острых стрел впивались с упоением в роскошное тело тайги, сбивая спесь с природной красоты, терзая и уродуя беззащитную поросль, калеча мелкую дрожащую живность. Но сколь ни бушевала приблуда-тьма, неизбежный рассвет всё же взял своё. Солнечно улыбнулся тайге кромкой ясного неба, незаметно подмигнул ветру-буяну и погнал вместе с ним разбойничьи стада дальше, к другому горизонту. Дремучая тайга опомнилась. Вновь ожила, привычно задышала, заскрипела, загомонила на разные голоса – птичьи, звериные, человеческие. И здесь, на земле, каждый защищал своё право на жизнь, на свой глоток свободы.
В глухом урочище, под волглым еловым лапником, молодая медведица рыла сырой мох, освобождая муравейник для прокорма троих, бестолково суетившихся рядом медвежат-сеголеток. Потом принялась учить выводок осторожно извлекать языком кусачих мурашей из груды сухих хвойных иголок. Но медвежата были сыты, а муравьи немилосердно жгли языки и мокрые носы добытчиков. Потому малыши перестали копошиться в муравьиной куче и затеяли озорную возню. Двое, с тёмным мехом, потешно толкались, боролись друг с другом, а медвежонок со светло-бурой мягкой шёрсткой игриво кусал матери задние лапы и дёргал за короткий хвост. Однако медведица терпеливо копалась когтистой лапой в земляном «гнезде», желая добраться до муравьиного «детского сада» и всё же побаловать детёнышей приятной кислинкой жирных, прозрачных личинок. Нашла лакомство, подтолкнула носом каждого к развороченной куче и, довольная, отошла в сторону. Медвежата, громко урча, дружно накинулись на угощение.
Вдруг молодая мать почуяла едкий запах меток самца. Там, в конце ложбинки, вилась едва заметная звериная тропа. Она подошла к ближайшей сосне, подняла голову и увидела свежие заскрёбы на шершавой коре дерева. Встревожилась. Напряжённо вздыбила и без того взъерошенный загривок. Неурочная встреча с хозяином этих мест сулила беду. Особенно медвежатам. Она тревожно рявкнула, подзывая детёнышей. Но дети так увлеклись разорением муравейника, что материнский зов попросту проигнорировали. Мамаша сердито позвала во второй раз, подошла сама и мощными шлепками погнала ослушников подальше от опасной тропы. Внезапно из густого елового подроста к ним вышел старый облезлый медведь. Встал, перегородив дорогу, принюхался к соблазнительным запахам молодой самки, вытянул пасть вперёд и зачмокал. Медведица фыркнула, замотала головой, переступая с лапы на лапу, давая тем самым время медвежатам скрыться где-нибудь под кустом. Самец возбуждённо царапнул землю и ринулся вперёд. Он настойчиво теснил медведицу к стволам деревьев, давил к земле мощными лапами, принуждая к соитию. Та ловко вырывалась, кружилась на тропе, уводя взбешённого зверя подальше от детёнышей. Наконец, зверь устал, злобно засопел и бросил косой взгляд на шевелящийся куст. Стоило ему только туда повернуться, как медведица грозно оскалилась, поднялась на дыбы, загородив спиной медвежат.
Старый самец прижал уши к лобастой башке, заперхал глухим удушливым кашлем, сгорбился и медленно, с опаской попятился назад. Медведица осторожно опустилась на мох, но увести малышей не успела. Стремительным броском уязвлённый зверь выцепил из-за её спины одного из детёнышей и мгновенно перекусил хрупкую шейку. Матуха взревела и бросилась на него. Но тот отпрянул в сторону и одним прыжком достал новую жертву, разорвав на глазах у матери нежный животик второго несмышлёныша. Медведица бросила отчаянный взгляд на трупики и яростно сцепилась с убийцей. Схватка была жестокой. Звери свирепо рычали, грызлись, драли когтями шкуры, кровавые лоскуты которой летели в разные стороны. Матёрый самец вцепился клыками в горло молодой мамаши, придавив её к земле. Казалось, конец был неизбежен. Полузадушенная медведица краем глаза углядела под кустом одинокого, смертельно испуганного беззащитного малыша. Собрала последние силы и рванула когтями оскаленную морду насильника, напрочь распоров злобно горевшие глаза. Самец дико взревел и выпустил пленницу. Матуха вскочила, торопливо ухватила зубами загривок детёныша и скачками помчалась к подножию Железной горы, к людскому поселению.
А там варилась своя жизнь. Богатая тайга притягивала сюда разномастное людское племя – кого по своей воле, кого не по своей. И хотя медведица знала, что осторожный зверь никогда не приблизится к местам, где живёт человек, она рискнула. Неведомым чувством вдруг поняла, что сейчас именно он – последняя её надежда на спасение. Она бежала, пока не выбилась из сил. Остановилась, прислушалась к звенящей тишине, чутко принюхалась к окружающим запахам. Окончательно убедившись, что погони нет, отпустила медвежонка и быстро повела по отлогому склону, ища надёжное убежище. Дрожащий сеголеток еле трусил по пятам матери, жалобно скулил, поднимая ей вслед мокрый нос – не то звал пропавших вдруг братьев, не то просил передышки для себя, уставшего и обессиленного страхом погони.
За скалистым поворотом, там, где вольготно распластался непролазный багульник, медведица внезапно наткнулась на большую пещеру. Широкий и продолговатый вход обещал неплохое жилище, и она осторожно вошла вовнутрь. И сразу пригнула голову. Ей на загривок с потолочного плитняка сорвались крупные ледяные капли, а под лапами громко захлюпала грунтовая вода. Пока она раздумывала, стоит ли продолжать двигаться дальше, в глубине сумрачного отверстия стали нарастать непонятные звуки. Вразнобой гремело железо цепей, глухо шуршала осыпь скальника, перебиваемая скрипом колеса деревянной тачки. В нос шибанули крепкая махорочная вонь, кислый пот грязной одежды и прелой обуви. Потянуло едким чадом жирового светильника. Послышался глухой людской говор.
Медведица фыркнула, недовольно зарычала, попятилась назад и выпихнула из пещеры сеголетка. Схватила детёныша за мягкий загривок и кинулась вверх по склону. Беспокойно и долго кружила, искала укромное место. Наконец, нашла. Недалеко от пещеры, среди густых зарослей папоротника, под растопыренными, узловатыми корнями выворотня она обнаружила неглубокую ямину и осторожно легла с малышом на прелые листья. Пригревшись в шерсти горячего материнского брюха, медвежонок припал к соску и довольно заурчал. Молодая мать вздохнула, обняла его лапами, притянула плотнее к себе и ещё раз нежно облизала. И уже не обращала никакого внимания на отдалённое звяканье и скрежет металла, натужный колёсный скрип, едва слышные голоса.
Неожиданно резкий лязг затворов и новый запах – ружейной смазки – заставил её снова поднять голову. Она знала этот звук и этот запах, самый опасный для любого зверя. Оставив малыша, с тревогой полезла вверх, по стволу выворотня, что упирался вершиной в могучий кедр. И уже с высоты увидела, как из рудничного посёлка в гору поднималась длинная вереница людей в сермяжных обносках. Их сопровождали другие люди, в серых шинелях, за плечами которых торчали дула винтовок, несущих смерть. Это медведица знала точно. Потому поспешила вниз, но к малышу вернуться не успела. В этот момент на самой вершине Железной горы раздался знакомый рык старого медведя. Она залегла в зарослях папоротника и замерла в напряжённом ожидании смертельной битвы. Обошлось. Один из конвоиров, заслышав медведя, остановился и выстрелил из винтовки в воздух. Свирепый рык оборвался. Похоже, зверь снова ни с чем убрался в таёжную глухомань. А люди, звеня непонятными железками, продолжили путь в гору, пока не исчезли в чёрном проёме пещеры. Что делали они там? Зачем, словно земляные черви, вгрызались в чрево Железной горы? Этого медведица не знала. Но поняла другое. Смерть, что жила в дуле оружия одного из конвойных, сегодня спасла их от лютого зверя, подарила глоток свободы. Выходит, разный он, человек с ружьём. Может быть опасным, а может быть и спасителем.
Однажды в дождливый полдень к штольне Екатерины Второй – так называлась горная пещера – пришли двое вооружённых солдат. Они нетерпеливо переминались с ноги на ногу, настороженно вглядывались в непроницаемый мрак проёма, зябко ёжились и прикрывали ладонями дымящиеся самокрутки от надоедливой мороси. Наконец, в темноте замаячил слабый, колеблющийся огонёк и тут же, чадя копотью, потух. Из мрачного зева показался измождённый старик в холщовом рванье. Он с усилием толкал впереди себя тачку-рудокатку, к бортику которой была прилажена та самая жестянка сального каганца. Вдруг колесо деревянной тачки упёрлось в мокрый солдатский сапог, и человек медленно поднял седую голову. Сквозь спутанные патлы на солдат молча глянули серые, бесцветные, бесконечно усталые глаза.
– Ну что, каторжанское чувырло, по ходу, отгорбатил своё? Велено тебя к управляющему завода доставить, – прогнусил щуплый конвоир-новобранец и замахнулся на старика прикладом ружья. – Шементом двигай котами![110] Когда токо вы все передохнете?
Острожник дёрнулся. Железная чека тачки визгливо скрежетнула по ржавой оси колеса.
– За што ж ты его так? – вступился за острожника пожилой конвойный. – Не измывайся заздря над человеком. Карп – мужик смирённый, набожный. Беспокойства от него нашему брату-солдату сроду не было.
– Да какой это человек? Каторжня несчастная. Вот и таскайся из-за таких в самую непогодь. Тьфу ты, пропасть! – Конвоир брезгливо сплюнул острожнику под ноги.
– Ничо, Бог вымочил, Бог высушит, – добродушно пробасил пожилой солдат, наскоро перекрестившись.
– Ага! Когда тока? Бусит цельную неделю. Продыху нету! А тут карауль жигань[111] острожную в любую промозглость.
– Служба наша такая, – понимающе усмехнулся пожилой охранник, проверяя все кандальные крепления на старике и на тачке. – Крепко стереги лихой народец, чтоб не утёк в «сосновый батальон». А проморгаешь бегунца, сам цепями на каторге загремишь. – Отряхнул ладони, наклонился к новичку и, понизив голос, добавил: – А всё ж опасайся понапрасну злобить каторжников. Чешутся кулаки, лучше об забор их поскреби. А то мы таких, как ты, вояк потом в штольне с разбитой башкой находим. И концов вить не найдёшь.
Новичок в испуге завертел головой и, на всякий случай, ощетинился в его сторону штыком. Пожилой усмехнулся и по-свойски похлопал Карпа по плечу:
– Ну, что, пошли, болезный. Волюшка тя заждалась.
Под скрип пустой тачки они спустились к посёлку и направились к башенным воротам острога. Повернули к заводской кузнице, где Карпу расклепали тесные кандалы и с грохотом швырнули их на днище тачки. Карп обескураженно замер. Медленно поднёс руки к лицу, с недоумением разглядывая свободные от рукоятей тачки шершавые ладони с твёрдыми, жёлтыми мозолями. Чего теперь делать-то ими? Пальцы давно приспособились к выбоинкам, задирам и зацепам на отполированных рукоятях тачки. Они точно знали, в каком месте и как нужно надавить на держалки, чтобы рудовозка легче приподнялась. Чтобы колесо не вильнуло и не зацепилось за неровности острого сланца. Или не застряло в каменной яме. Целая наука! И Карп знал её в совершенстве. Приспособился не только работать, но и жить неразлучно с тачкой на самом краю грубо сколоченных общих нар, напротив тесовой двери. Тележку держал под нарами, а тяжёлые цепи подтягивал к животу. Зимой, когда дверь распахивали и клубы морозного воздуха валили прямо на него, холодные цепи леденили кожу сквозь рубашечную холстину. И ничего. Привык.
А ещё грязное, занозистое днище рудовозки заменяло ему столешницу. Чтобы удобнее было принимать пищу, он ставил миску зловонной похлёбки из протухших продуктов на поверхность перевёрнутой тачки. Рядом клал ломоть глинистого хлеба из мякины и ставил кружку пойла. Сотворив молитву, приступал к одинокой трапезе и был по-своему доволен, что кухонные барачники не отвлекают от еды пустыми разговорами. Мало того, с рудовозкой колодник и нужду справлял, и ходил в общую баню. В бане Карп деловито ошпаривал доски тачки крутым кипятком, ибо в щелястых бортах колониями селились едучие клопы. И хотя потом из корья не ошкуренных бревенчатых стен барака в ней вновь заводились «новосёлы», всё же чувство удовлетворённой мести некоторое время тешило многострадальную душу острожника. Порой сам поражался, к чему только человек не привыкает! Вот и получается, что роднее ненавистной тачки у Карпа никого не было. И теперь, когда конвой повёл его в заводскую контору, он, по старой привычке, оттопыривал руки впереди себя. Вернее, они оттопыривались сами, пока на пороге конторы Карп не догадался с силой прижать ладони к зашарканным холщовым порткам.
Управляющий Ирбинским железоделательным заводом Артемий Сухоруков сидел за письменным столом и что-то безотрывно писал, подперев мясистым кулаком отёчное лицо. Заслышав скрип двери, поднял голову, мельком взглянул на седого острожника и махнул рукой:
– К лекарю. Выдать ему паспорт и расчёт.
В конторе Карпу выдали несколько рублей – остаток десятичной доли скопленного жалования за многолетнюю каторжную работу. Остальное как бы проелось им, как приварок к казённому харчу. Затем солдаты повели его в заводской госпиталь к лекарю Зиновию Ноздре. Врачевал местный эскулап плохо, однако крайне самоуверенно и довольно настырно. Он с умным видом прописывал пациентам снадобья с непонятными латинскими названиями, и только из-за недостатка необходимых медикаментов целитель-недоучка не успел перетравить весь рудничный народ.
А в этот день он сам занедужил. Накануне вечером управляющий заводом спешно призвал врачевателя в свой дом для оказания медицинской помощи в родинах супруги. Но серьёзная помощь вовсе не потребовалась. Недолго промаявшись, баба привычно легко разрешилась от бремени. По сему так же легко и радостно оба мужчины до полуночи отмечали рождение очередного отпрыска «мужеска пола». Теперь с крепкого бодуна лекарь не был расположен долго возиться с каторжанином. Похмельно рыгая сивушным перегаром, он измерил рост пациента, заглянул в провал редкозубого рта. Зачем-то вывернул сморщенные веки, разглядывая мутные глазные яблоки. Пощупал худые, жилистые мышцы рук и ног, ткнул пальцем под ребро и стал выписывать для бессрочного каторжанина паспорт: «Карп Ковалёв (прозвище Карпуха) стар и дряхл, не может работать, отпущен. Приметы Ковалёва: рост два аршина шесть вершков с половиной. Волосом сед, плешаст, борода и усы тоже с сединой, глаза серые. Бит кнутом, ноздри рваные. От роду, по его сказке, 72 года. Приписан к деревне Берёзовка на своё пропитание. Паспорт выдан 9 числа сего августа 1824 года». Сунул Карпу в руку «документ», зычно рыгнул и «поздравил» отпущенника:
– Всё, варначина! Кончилась твоя каторга.
Конвой препроводил бывшего острожника сначала к бараку, где старик взял котомку с нехитрыми пожитками, затем к въездным башенным воротам. Карпуха неприкаянно стоял под холодной моросью дождя у запертых заводских ворот: «Эх, каторга-мачеха! Даже куска хлеба на дорогу никто не озаботился выдать. Всё! Топай, грешная душа, на собственное пропитание! Христарадничай у сердобольных сельчан. А к другим деревням даже близко не подходи. Без должной прописки, как беглого каторжника, чалдоны затравят цепными псами, а то и вовсе забьют кольями. Горький глоток свободы. Пей – не хочу…»
И природа словно услышала мысли старика. Погода вдруг смилостивилась. Тучи растянуло. Ласково заголубело небо. Сквозь радугу непролитых слёз-дождинок солнце приветливо и ярко улыбнулось миру. Заискрились россыпью алмазных капель душистые хвойные ветки. Затрещали кедровки, замелькали на деревьях шустрые белки. Медведица с медвежонком вылезли погреться на солнышке. Она сгребала когтями рясную сизую ягоду с черничника, облизывала лапы и благодушно жмурилась на шалуна.
«Божья благодать!» – улыбнулся старик, неуверенно сошёл в тень берёзового колка, почти без сил присел в остролистную осоку. И ему уже казалось, что он с самого рождения вот так вот покойно в траве не сиживал, не щурился на кучерявые облака и слепящий круг солнца. Рукам и ногам было непривычно без чугунной тяжести кандалов. Он прислонился спиной к берёзовому стволу и невольно вздохнул от безысходности: «Клянчить за ради Христа у чужих заооконьев? Не дело это – попрошайничать. А чем же кормиться теперь?» Старик взглянул на искривлённые жилистые руки, которые праздно лежали на коленях, и вспомнил, как в юности ему грела раскрытую ладонь обласканная майским солнцем горсть зерна. Удручённо покачал головой: «Был природный крестьянин Нижегородской губернии Карп Ковалёв, да весь вышел. Выробился до негодного. Куды ж мне теперя земельку пахать?» Поскрёб твёрдыми ногтями пегую сединку на проплешине затылка. «Податься, что ль, к генералу Кукушкину в сосновый батальон?[112] Хорош разбойничек! Тебе ль, доходяге, с кистенём проезжих-перехожих подкарауливать? Эх, ты, чешуя болотная…» Карп трясущимися руками достал из котомки потрёпанное Евангелие, трижды набожно перекрестился и облобызал затёртую кожаную обложку книги:
– Боже, надоумь, как остатние дни без греха прожить?
Небесная голубизна ответила безмятежной солнечной улыбкой. Старик горько вздохнул и раскрыл котомку, чтобы убрать Евангелие. Вдруг его рука наткнулась на маленький узелок. Звякнули монетки. Карп вынул тряпичный моток, развернул и пересчитал медные гроши. Лицо его просветлело, мысли в морщинах зашевелились: «Невелико богачество, а всё ж честные медяки. Куплю, сколь смогу, мелкого товару: нитки, иголки, вар, шильца для починки обувки. Деревенским – пустяковая, но необходимая мелочёвка, а бывшему каторжанину – спасительное подспорье. Вот и буду полкать[113] узольником[114] от Берёзовки до Малой Ирбы. Какой-никакой, а барыш будет. Не заголодую. Спасибо, Господи! Вразумил».
Карп кряхтя поднялся, подобрал подходящую палку и, опираясь на сучковатый батог, уверенно пошёл по предписанному заводской администрацией пути в Берёзовку. В новую, вольную жизнь.
Глава вторая
Пугачёвская вольница
Дорога до Берёзовки хоть и неблизкая, а в радость Карпуше. Ноги идут себе легко, а не стонут в сырости каменной штольни. Глаза красе земной радуются, а не слепнут в промозглом подземном мраке. Да и голова, по ходу, светлеет. Туго, но осознаёт, что паршивое прошлое осталось там, за сутулой спиной. Главное, не оборачиваться. Как на кладбищенском погосте. Обернёшься, лихо и прицепится. Но Карп не выдержал, оглянулся. Вскинул руки вверх, закричал во всю впалую грудь: «Эге-ге-е-ей!» Услышал ответное эхо, залыбился. И вдруг резко выкинул вперёд грязный, тощий, корявый шиш. Зло прохрипел: «Накося, выкуси!» И сплюнул в сердцах, будто выхаркнул остатки каторжанского воздуха. Распрямил спину, гордо поднял острый кадык и пошёл вперёд другим Карпухой – готовым пусть к неизвестной, но другой жизни. Правда, вскоре он почувствовал, что таки зря обернулся. Ибо накатило, нахлынуло вдруг такое, что, ощутив себя сторонним, нестерпимо захотел исповеди, бичующей себя самоё за погубленные годы. «Где он, зачин всех бед? Когда пропал ни за грош? Помнится, младёхонек был, горяч…»
В родном селе Ардатово случилась первая заварушка. Крепостной Карп Ковалёв не уступил дворовую девку на потеху молодому помещичьему сынку, потому что сам приглядел миловидную Манечку в невесты. Старый барин разрешил спор по-своему: молодого барчука выслал в Петербург изучать точные науки и упражняться в изящном пиитическом искусстве, а пригожую холопку приказал выдать за своего конюшего, многодетного бобыля. Этому же конюшему и приказал выпороть розгами поперечника. Бобыль розг не жалел. Бил Карпа со всего размаху, с оттяжечкой, и гнусно ухмылялся. Он уже и не надеялся, что какая-нибудь, даже корявая вековуха, согласится выйти за него и возиться с оравой его малолеток. А тут счастье само к ногам свалилось. Вот и расстарался бобыль, укротил женишка пригожей Манечки. А ночью непокорный крепостной оклемался и, недолго думая, ударился в бега в дальние края.
Карп споткнулся, не заметив, как батожок скользнул в дорожную выбоину. Чуть ногу не подвернул. «Ну да. Как тогда, в бегах. Только тогда, похоже, ты и голову вывихнул, хрен старый. Вот те и второй спотыкач в жизни. Глупый до одури…»
Безрассудная удаль, вольная волюшка крепким хмелем ударила тогда в молодую, забубённую головушку. И не заметил Карп, как очутился в шайке самого Емельки Пугачёва. Верховым погибельным пожаром носилась его мужицкая орда по деревням и городам, осаждая крепости, осыпая неприятеля стрелами, пулями, ядрами и картечью. Лихо, без страха, сомнения и без пощады рубился с царскими войсками за мужицкого вождя наш беглец. И прозван был за то в первом же боевом крещении Карпухой – в уважение.
Вскоре и Казань стала кровавой добычей мятежников. Стоны, рыданья и вопли вместе с чёрным дымом пожарищ неслись по улицам захваченной крепости. Перво-наперво всех дворян и вислобрюхих купчин новоявленный государь вздёрнул под перекладиной наспех срубленной виселицы.
Оставшиеся богатые горожане запаниковали. Жёны и дети почтенных семейств бежали искать спасения в церквах, прятались у алтарей, вымаливая пощады. Какое там? Даже Карп невольно крестился, видя, как сотоварищи-безбожники с гиканьем ломились в кованые двери и въезжали в храм по-барски, прямо на лошадях, не ожидая, когда самозванец, сверкнув огненным взглядом, взмахнёт саблей и гаркнет лихоматом:
– Режь, коли, бей, ребятушки, господ-кровопивцев! Изводи под корень всё их поганое семя!
И начиналось под святыми образами сущее светопреставление! В зверином неистовстве мятежники рубили в ошмётья изящных дворянок, толстомясых купчих и невинных детей. В пьяном кураже стреляли в безмолвные образа и вбивали гвозди в уста деревянному Христу. Раздев служителей церкви до подштанников, с хохотом напяливали на себя торжественные парчовые стихари и чёрные габардиновые подрясники. Горланя наперебой похабные частушки про попов, пускались в дикий пляс, ублажая дьявольскую гнусь своей разнузданной души. Гуляй, рванина! Одни сдирали золочёные ризы с чудотворных икон, другие потрошили карманы безвинно убиенных, третьи распихивали по мешкам церковную утварь, приторачивали к сёдлам тюки награбленного добра, не забывая при этом хвалиться добычей.
Карпуха, не переставая креститься, поначалу жался к стенам. Жуть брала несусветная. Да и Божьего гнева боялся. Но недолго и не шибко. Незаметно разгул разбойничьего веселья так захватил его, что забурлило в крови, засвербело под ложечкой у бывшего крепостного. «А чё? Коли Бог всегда на их стороне, то фарт будет на нашей». С размаху полосонув саблей невесть откуда свалившегося попа, он кинулся в открытую ризницу сгребать и тащить к седлу сумы с остатками ломаного церковного серебра. Мол, и наши шашки – не монашки.
Но как ни доказывал свою прыть вояка, душа его до конца не почернела в тех разбоях, не рассовестилась. Заметили сотоварищи, что парень уж шибко простодырый. Не сребролюбив. Не заваляется у него про чёрный день в кошеле запасец. Весь свой разбойный фарт, весь блеск грошей, как воду сквозь пальцы спускает. Легко брал рублёвики и также легко отдавал серебряные монеты на разбитных вдовиц, не жалея деньгу для их сирот. Без счёту сыпал медные гроши попрошайкам-старушонкам. За всё про всё в насмешку и прозвище новое получил – «Святой Карпуша». И ведь приклеилось. Прилепилось. Да и по жизни пригодилось.
Как-то войско бунтарей шло по его родным местам, по Арзамасскому уезду. В перепуге принаряженное купечество Арзамаса готовилось с поклоном хлебом-солью встречать Пугачёва. Целовальник питейного дома купец Дубов ходил взад-вперёд и немилосердно потел, репетируя приветственную речь. И каждый раз, льстиво именуя самозванца «российским храбрым воином», старательно вскидывал руку победно вверх. Все ждали гонца.
Тем временем бунтовщики проезжали мимо села Ардатово. Карпуха, разом вспомнив своих обидчиков, не на шутку разволновался. Огрел плёткой буланого жеребца и подскакал к Пугачёву:
– Осударь, заедем стребовать должок с моего помещика?
– А что, шибко задолжал? – рассмеялся самозваный царь.
– По гроб жизни не расплатится, – зловеще пообещал Карпуха.
– Что ж, коли так приспичило, то своей царской волей дозволяю тебе именем моим благородным казнить и миловать супостатов по их винам.
И дал знак своим верным псам свернуть в помещичью усадьбу. Заиграло ретивое сердечко Карпухи. Грудь вздыбилась от предчувствия властной расправы над обидчиками. И он первым ворвался в белокаменный дом ардатовского помещика, вытащил его из покоев и поставил на колени. Дворовые люди, как один, пали ниц перед разбойниками. Важно прошествовал в залу громада Пугачёв, остановился перед коленопреклонённым. Огромной лапищей схватил его за шиворот, встряхнул, приподняв над полом, как тряпичную куклу:
– У…у…у, сучий выкидыш! Как смел ты не встретить хлебом-солью свово анпиратора?
Побелевший крепостник молчал. Слуги рядом дрожали, боясь царского гнева. Но, к их удивлению, «анпиратор» разжал пятерню и брезгливо сронил на пол обморочное тело. Как мешок с дерьмом. Улыбчиво повернулся к людям и явил на лице ласковую отеческую заботу:
– А скажите-ка, детушки, забижает ли вас барин?
– Шибко забижает, заступа наш государь, – прорвало тех. – Грызьмя грызёт.
– Порет нас, злыдень, себе на потеху – и в будни, и по воскресеньям, и по праздникам.
– Измывается своеручно и регочет. Свычай у него такой!
«Анпиратор» слушал, походя постукивая плёткой по кожаной перчатке и мрачнея с каждым шагом. Наконец, остановился и прохрипел:
– Ну, детушки, теперича потешьтесь же и вы над господином вашим. Бери должок, Карпуша. Казни живоглота страшной казнью!
Старого помещика, как он яро ни сопротивлялся, Карпуха выволок во двор и собственноручно вздёрнул на арочных воротах. Подрыгал сухонький старикашка тонкими ножонками и быстро стих. Карпуха аж с досады сплюнул:
– Глянь-ка, говяш навозный, а как грозен-то был! Вся дворня перед ним обмирала.
Вернулся в дом, разыскал и приволок за волосы помещицу. Отдал злыдню на расправу дворне и прислуге. Одни тут же с криками вцепились в длинные волосы барыни, другие яро рвали кружевную одёжку, третьи, стащив с неё парчовые туфельки, с отчаянием лупили белые ухоженные ноженьки. Как могли, насладились слезами и далеко не стали тащить барыню, а повесили тут же, на крюке хрустальной люстры. То-то было звону…
– Всё ли барско семя изведено? – строго оглядел Пугачёв дворню.
– Ещё барышня где-то утаилась, – вспомнил кто-то из прислуги. – Дочка от первой генераловой жёнки-покойницы. Царствия ей небесного!
– Бедная девка, нелюбая падчерица этой стервы. Ох, и поизмывалась над ей мачеха! – Дворовый мотнул башкой в сторону посиневшей, с выпавшим набок языком, повешенной барыни. – Помилуй барышню, государь, как и её покойная матушка, жалостливая она до нас.
Но Емельян нахмурился:
– Нет у меня пощады для вурдалачьего племени. Пошарьтесь-ка, робяты, по всем углам дома, поищите.
Кинулись казаки россыпью по огромному помещичьему дому. А нашёл первым барышню опять же Карпуха – в маленьком флигельке с резным балкончиком под самой крышей дома. Босая, в кружевном батистовом платьице, она забилась в сумрачный угол на узкой девичьей кроватке. В полуобморочье кротко и покорно смотрела на Карпуху. И не было в её взоре ни злобы, ни омерзения к нему. Только недоумённый вопрос. Только боязливое дрожание нежного подбородка. Только лёгкие, но судорожные толчки маленькой груди под лёгкой тканью. Молодчик запнулся о порог, остолбенел.
Были у Карпухи смазливые, бойкие казачки. Миловал он пышногрудых русинок. Важные, холодные гордячки-полячки одаривали весёлого молодца приветливыми взглядами. Ласкал смуглых, узкоглазых киргизок. Сжигали в пламени страсти жгучие очи чернобровых цыганок. Словом, многих девок успел перевидать и перелюбить. А такой чудной красы не видывал никогда! Хирувимной чистотой и белизной сияло юное лицо, нет, не девушки, ещё подростка. Даже воздух вкруг неё, казалось, источал невинную жасминовую свежесть. И Карпуха смутился. Отступил. Всем бесстыдным нутром почувствовал, что такую ангельскую непорочность великий грех осквернять даже грешными помыслами. Он хотел было прикрыть за собой дверь, но не успел. Рядом возник Пугачёв. Хищно выдохнул, увидев ангелоподобную деву. Плотоядно облизнулся:
– Ишь каку сладость-то надыбал!
Но Карпуха, неожиданно для себя, воспротивился воле своего предводителя. Упёрся руками в косяки дверей, преградив дорогу в девичью спаленку. Пугачёв сначала удивился, а потом грозно нахмурился, резко оттолкнул упрямца плечом:
– Ишо чего удумал? Супротивничать государю? Эй, ребятушки, попридержите-ка молодца!
Набежавшие казаки ловко скрутили руки Карпухе. Тот побледнел от боли и затих.
– То-то жа! Не лезь поперёд батьки. Сначала я спробую, а потом и ты с друзьяками потешишься. – Пугачёв похотливо подмигнул казакам: – Штоб не было обид и раздоров. – И плотно закрыл за собой дверь.
Шум возни, девичьих вскриков, стонов и басовитого мужского урчания продолжался недолго. Дверь распахнулась, и довольный главарь шагнул через порог, сыто и благодушно похлопал ослушника по плечу:
– Твой черёд, женихайло. Скусна барска сладость! Небось не терпится?
Гоготнул утробно и жадно припал к горилке, угодливо поднесённой казачком-прислугой. Стоящий рядом гнилоносый от срамной болезни казачина Михайла Голован впихнул Карпуху в спальню. Да так сильно, что тот кучерявым чубом в пол уткнулся. Михайла вслед беззубо ощерился:
– Да поживей управляйся, сосунок! Не задерживай сотоварищей!
Карпуха, не смея поднять взгляд, встал, поправил на поясе оружие, помялся с ноги на ногу, но, услышав слабый всхлип, моментально зыркнул в угол. Дыхание остановилось. С ужасом смотрел он на распятую, опоганенную, хирувимную наготу. Барышня захныкала, завозилась, закутываясь в лоскуты кисейной рванины. Парень шагнул к ней. Она глянула помутневшими глазами, вскинула руки, прикрываясь узкими ладонями, и заверещала тоненько и жалобно, точно крольчонок, затравленный охотничьими псами. И Карпуха представил, как свора насильников сейчас накинется на этого беззащитного крольчонка, разорвёт, растерзает вусмерть. Его так передёрнуло и перекосило, что он чуть не задохнулся криком: «Ну уж нет!» Скрипнув зубами, вскинул саблю и со всей силы рубанул по бледным ладошкам и тоненькой шейке, на которой трепетно зазмеилась золотая цепочка с крестиком. Карпуха на минуту затих, потом рванул на себя окровавленный крестик, спрятал драгоценность в мошну на поясе и бережно укрыл покойницу кружевным покрывалом. Не вытерев оружия, шатаясь, вышел из спальни.
– И токо-то? Гляди-ка, не замешкался. Ишь, каков жеребчик! – глумливо шутканул Михайла и осёкся, смекнув что-то. Взглянул за полуоткрытую дверь спальни, злобно и смачно харкнул на пол:
– Тфу-у-у, дурень! Ни себе ни людям. Всю обедню шпортил!
Карпуха с почерневшим лицом вывалился из помещичьего дома. Во дворе никого. Потому сразу бросились в глаза кроваво-красные розы на пышной клумбе. Один высокий, ещё нераспустившийся, бледно-розовый бутон горько покачивал поникшей головой. Молчаливый укор за кровавое злодеяние. Карпуха застонал и в ярости пошёл рубить саблей все кусты подряд. Очнулся только тогда, когда из конюшни послышалось тревожное лошадиное ржание. Он упёрся мутным взглядом в бревенчатые стены барской конюшни и моментально вспомнил о своём намерении поквитаться с бывшим обидчиком-бобылём. Подпрыгнул раз, другой, третий… В конюшне все врассыпную. Работные люди из углов боязливо зашептались: «Эко ведь, идёт вершить самосуд, а сам приплясывает у кажного денника[115], словно в кошки-мышки играет. Слышь, как считалку горланит?»
– Где ты, горюшко-бобыль? Выходи на свет, упырь. За тобою есть должок. Шею набок и в мешок, – донеслось уже с дальнего конца конюшни. – А! Вот ты где! Ну и как любится те с моей невестой, чёрт горбоносый? – Карпуха сгрёб испуганного мужика за грудки и зло прищурился: – Молчишь, сучий потрох? А пошто порол мя нещадно? Ну!
– Не я сёк, а барская воля, – просипел, заикаясь, мужик и повинно повесил голову.
– А мог бы и не шибко усердствовать. Полегше надо было махаться-то. А ты, холуй барский, и рад стараться. У-у, злыдень!
Карпуха выволок бывшего вдовца во двор, потащил к арочным воротам. Вся дворня мигом повысунула носы. Стоят, жмутся друг к другу, шепчутся, припоминают ту давнюю порку. Из дома вышел важняком Емелька с кучей казаков. Остановились в предвкушении расправы. Ждут, посмеиваются. А Карп всё не унимается, руки конюшему вяжет, грозится:
– Щас я тебя, земеля, пристрою рядом с господином!
Но вдруг из толпы дворовых зевак бойко выметнулась простоволосая баба. Она с воем вцепилась в приговорённого. Обернула распухшее от слёз лицо к мстителю и отчаянно выкрикнула:
– Карпуша, не вдовей меня, Христа ради! У него ж детей мал-мала куча, да и я чижёлая уже!
Карпуха вгляделся, с трудом признал в бабе свою первую любовь. С увядшего лица Манечки на него просительно глянули кроткие голубые глаза. Точно так же смотрела из своего угла только что им убитая девочка-барышня. Карпуха вздрогнул, застонал от бессилия. Руки мгновенно ослабли, и он оттолкнул от себя соперника:
– Живи, тварюга горбоносая. Живи да помни. Жёнка тебя отмолила. Всю жисть ей в ножки теперь кланяйся.
Казаки разочарованно загудели. Односельчане удивлённо-подавленно молчали. В ситуацию вмешался «Сам»:
– Взыск, видимо, отменяется? Шалишь, робя… – Он погрозил Карпухе пальцем и крикнул весело дворне: – Не робей, холопишки! Рушь, жги барские хоромы! До последнего уголька! Амба! На что вам такие покои, когда сам я, ваш анпиратор, живу просто?
Крепостные одобрительно закивали, замахали руками. Казаки загорланили, загоношились. И пошла-поехала разбойная потеха! Усадьбу запалили, испепеляя заодно бездыханные тела помещичьего семейства. Ветер подхватил пожар, и тот загулял лихо – с шумом и треском. Небо разом закоптилось, почернело. Карпуха стоял перед разгульной стихией и чувствовал, как заполняется горькой копотью очередного злодеяния его мятущаяся душа. Он сжимал в кулаке мошну с золотым крестиком, смотрел на бушующее пламя и мучил себя тягостным сомнением: «Мы – впрямь освободители? Или всё ж душегубцы?» И не мог почему-то открыто смотреть в глаза Пугачёву, уже оседлавшему коня в нетерпении отправиться в путь и добыть главную разбойную победу – царский трон.
Ноги подкосились, и Карпуха рухнул на колени, не отрывая мрачного взгляда от пепелища. Ждал ответа? Не было ответа. Кто ж признает себя душегубом? Праздновал труса? Тоже нет. Просто предчувствовал, что не будет никакой победы. И кончится всё плохо. Так что же остаётся? Только одно – идти до конца. Всяко разно погибель. Он достал девичий крестик из поясной мошны, поцеловал его и бережно перепрятал в потайной мешочек, что всегда висел на гайтане…[116]
…Батожок неожиданно надломился и сложился вдвое. Карпуша громко чертыхнулся. На этот раз за воспоминаниями старик вовремя не узрел большую дорожную размоину с камнем на глубине. Сам в неё не угодил, а батог сломал. Он устало вздохнул и огляделся. Заприметил у обочины небольшой пень. Решил мало-мало передохнуть. Берёзовка-то ещё не близко. И только подошёл к пеньку, так и застыл с узелком в руках. Треснутые на солнце годовые кольца на срезе дерева вдруг поплыли перед глазами, и пень превратился в чёрный чурбан, иссечённый палаческим топором, – с застарелой, запёкшейся кровью в засеках. В тот самый чурбан, что ждал бунтовщиков на стылом помосте эшафота в Москве, на Болотной площади…
Жуткая картина! Виселицы с разверзнутыми для грешников петлями молча ожидают свои жертвы. Бродячие собаки роются среди груд мусора, отбросов и гниющей падали. Грызутся в стае, повизгивают, суетятся. Ждут не дождутся, когда перепадёт кусок человеческой мертвечины. И кругом зеваки, зеваки! Тоже ждут начала казни. Рты пораззявили. Шибко охота глянуть на мужицкого царя. Тем паче, когда колесовать будут. Вон ведут уже на эшафот. Карпуха провожал глазами своего вождя, не узнавая в нём того бравого, бесстрашного бунтаря, что подмял под себя немало волостей и уездов. И то сказать: «Клетка зверя остужает. Оробел крестьянский царь. Вон как стушевался перед судьями. И перед народом заискивает, коряво кланяется во все стороны, прощенья вымаливает. Поделом те, лютый блудодей! Эт те не девок сильничать. Взвоешь от муки смертной! Умоешься кровавыми слезами по безвинной душе!» – лелеял злобу Карпуха. Но его ожидания, да и городских зевак тоже, не оправдались. Желание дворянства и купечества медленной и мучительной смерти извергу через колесование не сбылось. Не мучился лиходей. Государыня одарила своего «личного врага» последней негласной милостью.
Емельян Пугачёв даже и вскрикнуть не успел, когда палач, якобы по ошибке, сразу снёс голову бунтовщику. И лишь потом поочерёдно отрубил самозванцу руки, ноги. Широко размахнулся и под гул толпы зашвырнул их на колесо.
Равнодушно смотрел Карпуха на позорную казнь гнилоносого Михайлы Голована. Того палач насмерть запорол кнутом из сыромятных, с заострёнными концами, ремней. Ошмётья кожи, куски мяса, кровавые брызги летели в разные стороны до той поры, пока палач тремя сокрушительными ударами по рёбрам не подарил преступнику быструю смерть.
Дошёл черёд и до Карпухи. Парень перекрестился, поклонился на четыре стороны и приготовился принять зверскую смерть кнутованием. Лёг на «кобылку»[117], склонил голову на доску. И тут шею нечаянно щекотнул шнур с заветным мешочком. Карпуша догадался: «Кроткая душа барышни, видать, простила мне душегубство за то, что её душу спас от срамного надругательства». Он торопливо вынул из него золотое распятие, прижал к губам и незаметно сунул оберег в ладонь кнутобойца. Тихо, но внятно попросил:
– Побойся Бога, не бей вусмерть. Бей так, чтобы жив остался!
– Гм-м… – непонятно пробурчал кнутобоец, но крестик прикарманил. Бил мастерски, чётко рассчитывая силу удара. Правда, первым ударом разрезал кожу так глубоко, что кровь по спине ручьём потекла-заструилась. Зато потом замахивался сильно, но бил слабо. Только текущую кровушку для видимости размазывал. Так что Карпуша встал с доски хоть и слабым, но живёхоньким. Поблагодарил истязателя долгим взглядом и побрёл на следующую экзекуцию – клеймение, где выжгли на лбу каторжанина буквицу «Б» (бунтарь), вырвали ноздри, обрядили в тяжёлые чугунные кандалы и отправили по этапу в далёкий таёжный край, как горько шутили сами этапники, «сибирских соболей ловить»…[118]
…Карп опомнился от тяжких дум и невольно потрогал лоб: «Каторгу с горба сбросил, а клеймо, видать, до конца жизни носить». Он суетливо прикрыл буквицу седой прядью, повесил узелок на палку, палку на плечо и пошёл себе дальше по греющей душу дороге – в белоствольно-вольную Берёзовку.
Глава третья
На новожитие
«Вольная, белоствольная… Так-то оно так. Глаз возрадуется. Душа возликует, – размышлял Карп, сбивая дыхание на подъёме, считай, последней горушки. – А сердце? Примет ли новожитие? Примут ли его, клеймёного каторжника, в порядочное поселенческое общество?»
И тут же усмехнулся: «Порядочное?» Остановился на взгорье, огляделся и вдруг понял, что зря мучает себя самоедством. Ежели рассудить, то и эта дорога под ногами не всегда была наезженным большаком. И Берёзовки тоже не было. Пошарил в памяти и припомнил, как местные вольнонаёмные сказывали про тайные таёжные тропочки, что шныряли здесь когда-то меж болотных кочек и по которым – в драных лаптях, с тощей котомкой на натруженном горбу – утекали сюда, в Сибирь, от мести помещиков-самодуров битые кнутами крепостные крестьяне. И вроде как одному из таких беглецов приглянулся в Тесинской волости потаённый распадок среди изумрудно-зелёных холмов, что по самую макушку зарос кучерявым улыбчиво-светлым березняком. Поначалу якобы беглый холоп соорудил на берегу реки из берёзовых веток шалаш, а за лето поставил сруб избёнки-одностопки. Ранней осенью покрыл крышу корьём дерева, а крохотное оконце затянул мутным заячьим пузырём. Сбил печурку из глины и с началом предзимья вселился в тёплое жильё. Так и перебедовал зиму. А по весне огородил «поскотину», отмерял покос и поднял нови, сколько силёнок хватило. Следом за ним в укромине распадка поселились другие беглые крепостные. Так и начался Берёзовский засёлок. Уж явно не от дворян родова…
Поговаривали, что и сами помещики, согласно Екатерининскому Указу о праве ссылать крестьян на каторгу, стали выпроваживать своих ослушников с их семьями на Сибирские рудники. Немало их споткнулось о Берёзовку, осело, вросло корнями. Но… тож не господа. Кого бояться? А тут ещё оказия: к крестьянам под бочок управляющие Ирбинского железоделательного завода взялись отправлять «на собственное пропитание» уже непригодных к горным и заводским работам каторжан. Хорош довесок! Почитай, и вовсе мне «родичи». Чай на вилы не подымут? Кто там ещё? А-а… Было время – завод остановил работы, но ушлые управленцы своё не упустили. Почесали затылки да стали приглашать на свои земли вольных переселенцев. Знающие люди сказывали, что сдавали им участки по бросовым ценам. С десятины, засеянной хлебом, по рублю. Целик же давал баснословные урожаи. За сенокос и рубку леса брали сущие копейки. А за пастбища и вовсе платы не требовали. Одно слово, дармовщина! Покатились в эти места табором телеги переселенцев из разных губерний России и Украины. Так и слепилась Берёзовка, выросла до большого поселения в 440 дворов. А когда Ирбинский завод снова воспрял и загромыхал железом, то и вольнонаёмные потянулись на заработки. И ожил большак. И пошло движение. Даже пыльные лопухи вдоль дороги были в ноль истоптаны копытами заводских тяжеловозов.
«Ну и чем я поганее всей этой разнопёрой братии?» – успокоил себя Карп и гордо произнёс: «Вольноотпущенный!» Слово грело душу и придавало силы. Хотя знал, что всех «вольноотпущенных», приписанных к Берёзовке, ехидно подначивали в спину: «Каторжная воля – до Берёзовского поля». «Пусть так, – шустрее застучал батожком старик. – Авось судьба-злодейка когда и ослабит поводья. А покудова и Берёзовский кут – божий приют. Не я первый, не я последний».
Только к сумеркам дотопал Карп до поселения. Остановился на окраине около «бабистого» дерева с толстым комлем внизу. Перекрестился на деревянный резной крест, что стоял на взгорке, как деревенский оберег от нечистой силы. Осмотрелся. Впереди стелилась широкая улица. Дома на ней большие, крестовые, с глухими непролазными заплотами. И меж ними огромная, не одного дождя, грязная лужа.
– Эге, да по этой лыве впору на лодке добираться! А то набузыкаешь себе полные чоботы грязи, а сушиться негде, – сказал себе Карп и снова повернул стопы к сухой околице. Присмотрел домишко на конце улицы. Прошёл через ветхую калитку во двор. Видит, ставни окон закрыты. Торкнулся в щелястую дверь. Заперто. Пригляделся, а на гнилом крыльце глиняный кувшин стоит. Рядом, похоже, хлеб, завёрнутый в чистую тряпицу. Догадался: «Видать, ухряпались хозяева. После трудов праведных крепко спят. А всё ж для горбачей[119] еду оставили с понятием. Днём-то беглые не выйдут из тайги в деревню. А ночью – пожалте вам, харчись, бегунец. Мол, и мы помним, откеда родом и чьей породы».
С чистой совестью присел оголодавший старик на чужом крыльце. Перекрестил еду и начал споро уминать даровое угощенье, неспешно рассуждая: «Хозяин, видать, не богатого десятка. Вишь, как избёнка заплошала. Брёвна старые, с зеленя. И в избе-то небось тоже горе скачет, горе пляшет, горе песенки поёт. Такой, поди, не заругает, пожалеет старика. Перекантуюсь-ка я ночку в его дворе». Завернул Карпуша остатки ковриги в тряпицу и пошёл в дощатый дровяник. Увидел брошенную на поленья рогожину. Притулился у поленницы. Сунул под голову берёзовое полешко и мирно уснул.
Утром, едва озарилось небо, его разбудил грубый тычок в бок:
– Эй, харэ ночевать, «бубенец»![120] Уж больно крепко ты дрыхнешь для бегунца.
Карп разлепил веки, протёр ладонями глаза. Перед ним стоял, воткнув руки в округлые бока, плотно сбитый мужичок. Он сразу напомнил Карпу мучной куль в верёвочной опояске. Наверху «мешка» торчал «сноп» пшеничных волос, стриженых «под горшок». Под ними губасто улыбалась задорная круглая мордаха с расквашенным носом и колючими усишками. Один смешливый голубой глаз губана заговорщицки подмигивал Карпу, а другой, бедовый, – заплыл лиловым синяком.
– Да не беглый я, – испуганно промямлил старик, – вольноотпущенный с завода. У меня и пачпорт есть.
– Коли так… не худо бы обмыть такое дело. Душа горит без опохмелки! – произнёс хозяин подворья, стукнул себя кулаком в грудь и вдруг задорно заголосил, дурашливо притопывая босыми ногами и лихо тарабаня ладонями по груди: – Эх! Без бутылки, без дуды – ноги ходят не туды! – И просительно уставился на Карпа. Но тот только развёл руками.
– Ну, на нет и суда нет, – покладисто вздохнул хозяин, сел рядом на чурку, достал кисет, протянул незваному гостю. Затем призывно хлопнул ладонью по соседней. Карп успокоился и охотно присел рядом. Оба свернули «козьи ножки», сладко задымили едучим табаком. Неловко помолчали.
– Откуль блямба? – осторожно поинтересовался Карп.
– Да так, пустяшно дело, – засмущался тот и стыдливо прикрыл ладонью синяк. – Вчерась с недельного перепою Большая улица с улицей Хохлатской зверски схлестнулись. Пластались нешуточно. Я не хотел встревать в таку бучу. А тут, как на грех, вижу: в толпе драчунов Колян Киряков. Вот и не утерпел. Я ему слегой зуб вышиб, он мне «мядаль» под глаз подвесил.
Мужичок безнадёжно махнул рукой и обнажил боевое увечье.
– Что так? Зуб на мужика, что ль, горит? – пошутил гость.
– А то! Я-то по выходным только потребляю, а он забулдыга беспредельная. Чуру ни в чём не знает. Как зальёт зенки, так давай мою сеструху лупцевать. И робятишек по избе гоняет.
– Родичи, значит, – заключил Карп.
– Ага! Родова-а-а! В одном овине пятки грели, – ехидно протянул мужичок. – Язви ево! Глаза б мои его сроду не видели! – И хмуро погрозил кулаком в противоположную сторону улицы: – Нич-о-о, свои люди, ещё сочтё-ё-мся!
– То-то и оно. Свои люди, а столковаться не можете, – грустно покачал седой головой каторжник. – Вот я живу на свете один, как перст. А была б родная душа рядом, бедовал бы легче. А так ни родни, ни кола, ни двора. – Горько вздохнул, сипло посетовал: – Где теперь на старости седую головушку-то преклонить?
– Ну, коли так, дед, – мужичок сочувственно заглянул в глаза бывшего каторжника, – может, поручкаемся уже? А то сидим, как два чурбана, ни имени тебе, ни отчества. – Дурашливо скривился и гнусаво затараторил, представляясь: – Вот я, Яшка-простота. Купил лошадь без хвоста. Поехал жениться, привязал корытце. Корыто мотается, Улька улыбается.
Хлопнул по коленкам:
– Улька – это жёнка моя. А сам я – Яков Шилов. А тебя, старинушка, как по батюшке звать-величать?
– Э-э-э! По батюшке-то меня давно ужо никто не величат. Всё Карпухой кликали. Я и сам-то отечество своё уже подзабыл. – Острожник в раздумье наморщил лоб и неуверенно предположил: – Кажись, Степанов сын я. Ковалёв Карп.
– Ну и ладушки! – добродушно пробасил хозяин и предложил: – Пошли, батя, в избу. Чай поуркаем и поснедаем, что бог послал.
Он решительно встал, но, увидев смущённое лицо старика, развёл руками:
– На угощение не обессудь. На разносолы я не богат. Богат только детвой. Жись-то она какова? У богача водятся деньги, а у бедняка – детки. Моя лебедица их вывела вереницу. А что тут поделашь?
Он помог деду встать, взял его под локоток и уже на ходу продолжил:
– Рожат баба по два раза на году, третий на Покрову. А всё больше девок. А девки – это ж не дельные души[121]. На них государственна десятина не отрезается, поэтому земли и скота у меня мало. Подати плачу «с бойца», а «бойцы» мои сопливые. Не пахари, не помощники. Вот и бьюсь один, как рыба об лёд. Как чёрт на бересте кручусь, а богачества не нажил.
Вдруг шутливо толкнул старика в бок, хитро подмигнул:
– Скажи-ка, дед, вить ты бывалец. Всё перевидел, всё знашь. Ребятня что – от сырости, как мокрицы, заводится?
И захохотал громко и бесшабашно. А Карп подумал снисходительно:
«Молодцом мужик. С горем не вяжется, глядит весело, не ребром, а россыпью. Хоть душа и на семи ветрах, а сердце – золото».
Зашли в избу. Ребятишек и впрямь целая орава. Мал мала меньше. По лавкам, как козлята, скачут, голыми пятками стучат, визжат, балуются. Последний лобан в зыбке рожок дудонит. Хозяйка смеётся и с рушником гоняется за визгунами. Яков шуганул их и незлобливо ругнулся: – А-а! Штоб вас намочило и высушило! Шурш на палати, тараканье племя!
– С весёлым днём! – поприветствовал Карп румяную хозяйку и взглядом одобрил: «Баба-то хороша. Обиходница. В доме чисто. На подоконниках в горшках «петушиные гребешки» ярко алеют. Сама в опрятном цветном сарафане. Балазята в белёхоньких рубашонках порскают».
Особо для себя отметил, что в красном углу имеется дощатый треугольный придельничек. Ажурной салфеткой украшен. На нём – святые иконы. Резной киот затейливо обряжен в бумажные цветы. Знать, христолюбивые люди здесь живут. Карп перекрестился на образа. По избе плыли запахи свежеиспечённого хлеба и запашистого варева. Острожник сглотнул слюну. Ульяна радушно улыбнулась старику:
– А я-то гадаю, почто самовар спозаранку пищит? А он гостей ворожит.
Яков тоже заметил устремлённый на столешницу голодный взгляд старика и не стал томить гостя. Усадил за стол. Бережно порушил ковригу на большие ломти. Хозяйка достала из печи чугунок с духовитым варевом. Присмиревшая ребятня горохом сыпанула с полатей и села на лавке в рядок, как воробушки на ветке, с деревянными ложками наизготовку. Терпеливо ждали, когда родители прочтут молитву. Яков торжественно тянул густым басом: «Хлеб наш насущный даждь нам дне-е-есь…» Вдруг он заметил, как нахально потянулась к чаруше ложка шустрого мальца. Не прерывая моления, отец быстро стукнул по лбу ослушника своей карающей ложкой. Мол, не ломай, торопыга, веками заведённый порядок. Затем Яков важно кашлянул и первым зачерпнул неполную ложку пустых щей. И тогда, точно град по крыше, застучали хлёбалки по быстро пустеющему дну посудины. Хозяин черпал неторопко, а гость и вовсе стеснительно возил ложкой в хлёбаве. Яков заметил это и ободряюще улыбнулся:
– Брюхо, что туесок, собирай в его – не пропадёт, а хозяюшка добавки подольёт.
Позавтракали. Старик поблагодарил хозяев и накинул тощую котомку на плечо. Но Карпу Ковалёву очень не хотелось покидать гостеприимный двор. Тёплый уют светлого от улыбок дома, озорной гомон детишек, казалось, кандальными цепями приковали бывшего острожника к порогу. Он глубоко вздохнул, завидуя чужому счастью, откланялся и нехотя открыл двери. Яков переглянулся с Ульяной. Она согласно кивнула мужу. И хозяин басовито буркнул в спину Карпу:
– Да некуда те идтить, Степаныч. Оставайся. Поживи покуль в бане, а там видно будет. В дом-то, сам видишь, поселить не могу. У самих невпроворот.
– Спаси вас бог! – обернулся радостно старик и поклонился в пояс. – Благодарствую, добрые люди, за приют. – Прямо на пороге достал припрятанный заводской расчёт и предложил за постой несколько «барнаулок»[122]. Яков ломаться не стал. Принял монеты с благодарностью. А Карп, чтобы дать понять хозяевам серьёзность будущих намерений, не замедлил спросить: – Не подскажешь ли, мил человек, где здесь мангазин какой али лавка? Хочу товару прикупить да приторговывать на Ирбинском руднике. Там кажная мелочёвка куды как нужна острожнику. Навар будет. Глянь, и на ноги поднимусь.
Яков Шилов одобрительно цокнул языком и охотно повёл постояльца на Большую улицу. Самому тоже не терпелось побаловать семью гостинцами.
Над крыльцом одноэтажного каменного дома Карп увидел дощатую вывеску «Патюков и сын». Бакалея «Райские радости». Сельский малеван постарался и изукрасил надпись медными завитушками, золочёными яблоками и пухлыми облаками. Карп уже ступил на высокое крыльцо, но Яков предостерёг его:
– Не ходи к этому мироеду. Больно начётисто обойдётся. Богомольный-то, богомольный, а цены задирает не по-божески. Пойдём лучше в лавку Фролова. Вон его дом, напротив монопольки[123].
Пришли к деревянному дому с верандой. И хотя Яков старательно поворачивался к Фролову небитой стороной лица, но ушлый лавочник вмиг заприметил свежий кровоподтёк под глазом односельчанина. Отвёл в сторону вёрткие глаза. Кого этим удивишь в Берёзовке, где мужики как хватят лишку браги, так с кольями стенка на стенку хвощатся? Сделал вид, что не заметил и каторжанские отметины на роже незнакомца. Знал, выдашь беглого, так «сосновый батальон» немедля отомстит – непременно пустит в деревню «красного петуха». А деревенский мир с виновника общей беды крепко взыщет.
У осторожного лавочника Карп накупил копеечного товару – мотки суровых ниток, иглы, роговые и деревянные пуговицы на починку арестантского белья. Для сапожных работ взял тонкие гвоздики, просмоленную дратву, шилья. Для души выбрал самые душистые плитки чая.
Яков же взял дорогой подарочек для своей «лебёдушки» – кашемировую шаль. Маки на ней, как жар горели, глаз не оторвать! Детишкам – десятифунтовую жестяную банку с лампасейками. Пусть вволю налакомятся сахаристой сладостью. Редок для них такой праздник!
Довольный Яков приволок все покупки домой. Отдуваясь, свалил узел на крыльцо. Пошёл в сарай, принёс оттуда берестяной короб с заплечными ремнями, поставил в ноги Карпа:
– Вот што, Степаныч, в узле таскать всё это добро несподручно. Пользуйся пока моим «горбачом». А опосля и тебе сладим.
От радости Степаныч зашептал что-то невнятное и заморгал глазами. А чтоб Яков не видел хлюпающего носа, подхватил узел Якова и помог внести в дом. Перво-наперво муж накинул Ульяне на плечи желанную шалку. Та от счастья как маков цвет заалела. Ребятишки тут же облепили отца, ожидают гостинцев. Получили своё – и врассыпную по углам, лизать лакомство. Лишь одна девчушка в белом холщовом платьице подошла к острожнику и протянула ему горстку лампасеек.
– Накося, угостись, дедуня.
Карп смущённо глянул на белокурую девочку, и сердце дрогнуло. На худеньком, прозрачном личике сияли кротким сочувствием неземной голубизны глаза. Памятные тихие глаза… Тут и поплыл туман, и сверкнуло в глазах сабельное лезвие бунтаря Карпухи, что когда-то с маху располосовало тонкий батист девичьего платья. Острожник отшатнулся от ребёнка, суеверно перекрестился: «Хосподи! Неужто воскресла ангелица? Как есть воскресла барышня».
Тяжёлые, угрюмые слёзы навернулись ему на глаза. Каторжник упал на колени, затрясся в покаянном крике:
– Прости-и душегубца! Зарёкся я перед святой иконой Богоматери безвинные христианские души губить.
Яков с Ульяной с беспокойством переглянулись: «А дедок-то не в себе».
А девчушка всё гладила и гладила каторжанина липкими ладошками по мокрым щёкам до тех пор, пока тот не успокоился.
– Жалельница наша. С простинкой в голове, – присела рядом и сокрушённо улыбнулась Ульяна. – Все робяты у меня крепенькие, как грибки-боровички. Бойкущи-и-е! На ходу дыру в боку вертят. Озорны-ы-е – страсть! Цельный день, как козлята, бодаются. А тронь кто чужой, так друг за друга горой. Спуску обидчику не будет.
Но тут же мягко, ласково погладила по льняным кудряшкам дочь:
– Эту же словно подкинули нам. На особицу уродилася. Хлибенькая. Обидит кто, молчком проплачется. И зла не помнит. Обидчика же и пожалеет, коли тот ударится или что другое приключится с ним. Не робёнок, ангел безответный.
– А не пригульнула ли часом ты, мать, с каким барином нам энтого ангела? Што-то и обличьем Боженка не в нашу породу? Уж больно субтильная, – шутливо усомнился муженёк, чтобы хоть как-то развеять туман в голове деда.
– От дурень непутёвый, – с притворным возмущением шлёпнула его по белобрысому затылку Ульяна. – А цвет волос откуль? А глазки лазоревы?
Она поднялась с места, повела тонкой бровью и мягко упрекнула мужа:
– Ты, балабол, лучше бы баньку гостю истопил. Чай, в каторжанском бараке ночевать – не в барских покоях почивать. Грязь комочком, да живность кулёчком.
– И то, – спохватился хозяин и побежал скоренько во двор, к поленнице за берёзовыми дровами. Пока топилась баня, супруги шепотком о чём-то посоветовались. И вскоре Ульяна вынесла из лопотного амбара большой свёрток. Яков подал его постояльцу:
– Извиняй, Степаныч, но одёжку твою сжечь придётся. Новой лопоти для тебя не припасено. А эти пожитки хоть и доноски покойного свёкра, а тебе впору придутся.
Он прикинул на бывшего острожника довольно справную рубаху из домотканины, выцветшие, но целые портки. Подал кожаный потёртый картуз:
– Оболакайся, Карп Степаныч. Не тушуйся.
Случайно глянул на арестантские сморщенные коты и поморщился сам. Пошёл в сенцы, достал из угла ношеные, но ещё добротные сапоги с холщовыми голенищами:
– И воротяшки примерь.
Старик скинул с ноги грубую, тяжёлую обувь из одеревеневшей кожи. Вдел сухонькую ступню в сшитое дратвой из матерчатой изнанки мягкое голенище. Подтянул его, подвязал ниже колена ремешком. Довольно притопнул лёгоньким сапожком:
– В самый раз.
В жарко натопленной бане хозяин старательно наголо выскоблил каторжанину голову. Да так усердно скрёб кожу, будто напрочь выскрёбывал из остатков редких, вшивых волос и саму память о тяжкой острожной жизни. Долго растирал жёстким мочалом дряблое стариковское тело. А когда Карп оделся и глянул на себя, непривычно чистого, в зеркальном осколке в предбаннике, потрясённо изрёк:
– Любо-дорого! Кабы не рваные норки да не клеймёный лоб, то был бы ты, Карпуша, не хужей других здешних дедков. Ничо-о-о, Степаныч, – продолжал ободрять его Яков, садясь рядом на порожке остывающей бани, – вот наторгуешь деньжину – пойдём на сходню. Вместе поклонимся деревенскому обчеству. Попросим мирской помочи. Посулим на угощенье ведро вина. Мужики и поставят тебе избёнку. При своём углу будешь полным домохозяином.
В эту ночь Карпуша рано улёгся спать. Он лежал на духмяном полке, укрывшись пёстрым лоскутным одеялом, и по-детски безмятежно улыбался. Его душу тешила уверенность, что теперь-то он не околеет, как бездомная собака под чужим забором. Всё у него с божьей и людской помощью хоть на старости, да сладится. Будет и домик свой, и кусок хлеба на случай немощи. И ещё… Он смежил усталые веки, мгновенно уснул и… увидел небесно-голубой взгляд чистых, невинных глаз барышни. Она улыбалась ему и звала к светлой, радостной, неземной жизни. Карпуша едва пошевелил губами:
– Я приду. Я скоро приду…
Глава четвёртая
Роковая встреча
Ночью Карп проснулся от того, что сильно захотел по малой нужде. Вышел из бани в одних портах и рубахе. Завернул за угол, постоял немного, наслаждаясь возможностью свободно, без назойливого внимания охранников, побыть на свежем воздухе. Поднял голову вверх, к небу, усыпанному звёздным горохом. Затих в отрадном умилении: «Лет тридцать я вот так на ночное небо не глазел. В остроге, чуть сумерки, так в барак запирают. Ни одной ясной звёздочки сквозь бычий пузырь в оконце не разглядишь». Залюбовался Карп на звёздную россыпь: «Вон молочная полоска Мамаевой дороги, а рядом Утичье гнездо из мелких звёздочек. А вон к рассветному времени склонились Стожары».
Пронзительный холодок прошёлся по старческому телу сквозь расстёгнутый ворот и широкие рукава рубахи. Карп передёрнул плечами, крестьянской думкой посетовал: «Чё ль, к ранним заморозкам вызвездилось? Негоже. Как бы хлеба не сгубили, однако». Он поспешил вернуться под тёплое одеяло. Но, бросив последний взгляд на ночной купол, споткнулся о звёздное скопление на восточной стороне неба. И обомлел. Там, где горизонт начинал светлеть, необычайно яркие и крупные звёзды выстроились в огненный сияющий крест. А поперёк него багряным предрассветным лучом лёг кровавый меч. «О-ох, бяда! Ой, к худу така страшна заклюка»[124], – встревожился старик. Он торопливо трижды осенил себя крестным знамением и потрусил обратно. Долго и беспокойно ворочался на колком тюфячке, терзаемый недобрыми предчувствиями. Шептал молитвы, да так и уснул, зажав в ладони нательный крестик.
Утром Карп встал рано. Был задумчив и хмур. Молча позавтракал с хозяевами. Молча занялся укладкой товара в короб. Яков по утренней росе отправился на покос. Ульяна подняла детей, накормила, шуганула на улицу, а сама принялась хлопотать по хозяйству. Но тут прибежала запыхавшаяся Боженка, приласкалась к матери, затеребила её за рукав:
– Дай, дай, мамонька, мне хлебушка! Несчастненьким милостыньку подать хочу. Их к Ирбе гонят.
Карп прислушался. И впрямь с улицы доносились ржание лошадей, окрики конвоя, звон цепей. Рвал сердце надрывный вой кандальной песни: «Говори-и-ла сыну ма-а-ть, не води-и-сь с ворами, а то в каторгу-у-у пойдё-ё-шь, скова-а-н кандалами-и-и. Поведёт те-е-бя конвой, ты заплаче-е-шь горько-о-о…»
Ульяна впопыхах схватила ковригу, несколько варёных картошек. Боженка тоже прижала к себе картошины с куском хлеба и потянула за собой Карпа:
– Дедунь, дедуня, пойдём поглядим на бедняжек. Покормим…
Когда они вышли за ворота, партия каторжан уже месила грязь Большой улицы. Жалкие кандальники трясли-тянули грязные ладони за милостыней. Сердобольные селяне совали в костлявые руки кто что мог – хлеб, яйца, огурцы, картошку и даже куски варёного мяса. И везунчики, до которых дотягивались руки баб, грубо хватали подаяние и тут же грызли, боясь, что отберут другие. Эти другие, нарушая порядок строя, безнадёжно тянулись из середины, хватая пустой воздух. И набрасывались на счастливчиков: «Дай! Дай! Дай!» Верховые конями и плетьми теснили колодников, ломавших арестантский строй. Ударами ружейных прикладов и матерной бранью загоняли обратно в колонну. Жуть и сплошное непотребство!
Карпу, давно пережившему всё это, было нелегко снова видеть изуверскую картину этапа. Он замер на обочине дороги, не шелохнувшись. Только нервные желваки искажали лицо больной гримасой и выдавали его состояние. Вдруг девочка вырвала ручонку из ладони старика и побежала к этапникам. Широкоплечий верзила, гремя цепями, протиснулся сквозь толпу к девочке и жадно выхватил у неё хлеб. Крупные зубы тут же вгрызлись в мякиш, торопливо жевали, а цепкие, жёсткие пальцы уже тянулись за картошкой. Боженка вскрикнула, и варёные клубни посыпались прямо в грязь. Этапник слабо улыбнулся ребёнку, как бы прощая его, и кинулся собирать дармовой харч. Поднял вверх глаза и неожиданно встретился взглядом со стариком. Свет померк в глазах Карпа, и рассудок будто помрачился. «Емелька… Ей-богу, Пугач!» – признал он в этапнике крестьянского «царя». Тот же тяжёлый, непреклонный взгляд. Короткая чёрная борода, кудлатые сальные волосы, стриженные «под горшок». «Не может быть! Своими глазами видел, как палач ему башку снёс!» – Карп резко отдёрнул от Пугача бледную от страха девочку и прохрипел:
– Харэ, изверг, измываться над невинными.
Кандальник удивлённо сверкнул на него тёмными зрачками. Конвойный солдат прикладом ружья ударил верзилу в плечо и втолкнул обратно в строй. Колонна, обогнув глубокую лужу, свернула на травянистую окраину и направилась по дороге на Ирбинский рудник.
Ульяна, Боженка и Карп вернулись во двор. Боженка побежала в избу к братьям рассказывать о несчастненьких. Хозяйка вернулась к своим делам, а Карп в дом не пошёл. Сцепив за спиной дрожащие пальцы, беспокойно мерил двор широкими шагами. Он не знал, что делать. «По идее и по совести надо бы Емельку вывести на чистую воду. С другой стороны – как-то зазорно мне, бывшему острожнику, на старости лет становиться подлой «кукушкой»[125].
Мучительные мысли жалили душу чёрным шершнем сомнений: «А всё ж придётся предупредить власти о пришествии антихриста Пугача. Не поверят, расскажу о страшном знамении. Иначе быть на Малой Ирбе и окрест великому кровопролитию». Он остановился, поднял мокрые глаза к ясной голубизне неба и взмолился:
– Господи! Прости мя, грешного! Царствие небесное и убивцу не заказано, коль от сердца раскаялся.
Вдруг сорвался с места, кинулся в баню. Суетливо набросил дарёную верхнюю одёжку, схватил картуз и торопко побежал в избу.
– Куды, Карп Степаныч, так неурочно собрался? – изумилась Ульяна, поспешно вытирая о фартук мыльные руки.
– Торговать иду, торговать, – ответил второпях дед, захлопнул короб и закинул его за плечи. – Щас самая выгодная торговля на заводе будет. Свежая партия кандальников зараз всю мелочёвку сметёт.
– А что так спешно? Скоро Яков придёт. Поснедаем вместе, а потом и пойдёшь с Христом, – удерживала, как могла, постояльца заботливая женщина. А сама в беспокойстве думала: «Что-то старик какой-то блаженный. Кабы худа с ним не приключилось». Крикнула к порогу:
– Погодь чуток, Степаныч! Харч в дорогу налажу.
Но Карп только рукой махнул. Вскинул короб на спину, нырнул за дверь, юркнул в ворота и затрусил по дороге на Малую Ирбу. У околицы старика догнала быстроногая Боженка. Малышка сунула ему в руки узелок с дорожным припасом:
– Возьми, возьми, дедунь. Мамка передать велела!
Карп растроганно заглянул в небесную голубизну глаз ангелочка. Осторожно погладил льняные волосики, наскоро перекрестил и, словно прощаясь навсегда, ткнулся сухими губами в бархатистую щёчку. Он не был уверен, что вернётся назад в Берёзовку. Уверен был в другом. Коли прознает каторга, кто «прозвонил-прокуковал» властям, вмиг подкараулят и угостят доносчика кистенём. Или хлеще того, где-нибудь за барачным углом саданут ножом в бок и не перекрестятся. Арестантский закон к таким «звонарям» беспощаден. Карп вздохнул: «Храни тя Господь, светлое дитя!» И долго смотрел вслед бегущей к дому Боженке. Не выдержал. Развернулся и пошёл, не оглядываясь. «А чё? Ведь сбылась примета. Допреж обернулся, вот те и дорога обратно в ад…»
И долго не высыхали слёзы на старческом лице, хотя он то и дело вытирал их широким рукавом. А они всё лились и лились. По кому-чему? Известное дело… По бывшей бедовой жизни, съеденной разбоем и каторгой. По недолгому кусочку счастья, что подарила ему белоствольная Берёзовка.
«Может, опять оглянуться, чтоб обратно воротиться?» – ослабил напряг мысли Карпуша где-то уже на полпути к Ирбе. Но не успел. Неожиданно из кустов ему навстречу шагнул высокий молодчик в драном арестантском халате. Чёрный войлочный колпак бродяги нахлобучен до самых бровей. На впалых щеках ярко горел чахоточный румянец. Развязный оборванец, вроде как не нарочно, поиграл перед глазами старика острым лезвием ножа:
– Куды лапти топчешь, деревня? А нет ли у тебя, бабай[126], чем похарчиться? А можа, деньга или иное добро – не завалялись часом?
Но, увидев рваные ноздри, клеймёный лоб путника и короб за хилыми плечами, быстро опустил нож. Ощерился, широко раскинул грабли-руки и панибратски хлопнул старика по плечу:
– Да ты никак из нашенских, каторга? Давай обнюхаемся, что ль!
Он сдёрнул с себя замызганный колпак и паясничая изобразил подобие реверанса, несколько раз помахав колпаком у своих ног, словно дворянин широкополой шляпой.
– Я – Алёша Двупрозванный. Весной ломанулся с Каменского винокуренного завода – слушать кукушку[127]. Теперь живу в лесу, молюсь колесу.
Заговорщицки подмигнул:
– Ты, чай, тоже в бегах? Откеда лапти сплёл, бабай? Комар тя забодай…
– Вольноотпущенный я. С Ирбинского завода. Карп Ковалёв, – сдержанно ответил старик, стоя по каторжанской привычке солдатиком.
Беглец присвистнул и отступил на шаг.
– Вольны-ы-й! – протянул уважительно и оживился: – Так, поди, у тебя и харч есть? Не тяжеловато несть?
Он вывернул пустые карманы своего халата:
– Вишь, голяк? Третий день ни крошки в хлебале. Кишки к хребту липнут.
– Энто дело поправимо, Ляксей, – проникся к нему сочувствием бывший каторжанин и снял с костлявого плеча «горбач». Поискал глазами удобное место в глуби таёжной чистинки, где лежала поваленная ветром лиственница. Устало присел на ствол выворотня: – Я тож в пути оголодал. Вместе и повечеряем, чем бог послал…
Он откинул крышку и склонился над коробом. Бегунец вытянул шею и воровато зашарил глазами по раскрытому «горбачу». Старик вытащил узел с припасом, взвесил его рукой:
– Тут снеди на двоих, пожалуй, за глаза хватит.
Алёшка плюхнулся рядом и нетерпеливо потёр ладони:
– Эх, щас вдосыть требуху набью.
Старик развязал узел цветного платка. Разложил на стволе нехитрый припас. Алёшка первым схватил пупырчатый огурец, смачно хрустнул им и похвалил:
– Скусный, хрусткий, – жадно схватил хлебную краюху и без остановки рвал её гнилыми зубами.
Когда насытился, косо глянул на старика и стал есть впрок. Наконец, рыгнул, погладил себя по животу ладонью. Лениво ковыряя концом обломанной ветки в зубных щелях, занозисто изрёк:
– А всё одно, я маракую, лучше голодно, да вольно, – надсадно закашлялся и выхаркнул на траву кровавый сгусток. – Я, как чахотку заробил, так решил про себя: «Харэ! Околевать буду на свежем воздухе. Сколь ни протяну, а всё моё времечко будет. До последней минуточки».
Карп, прибиравший в узелок остатки пищи, понимающе кивал. Парень скользнул наглыми глазами по затылку старца, вкрадчиво поинтересовался:
– А куда ты, плешка, чапаешь?
– В Малую Ирбу, – коротко ответил Карп.
– Да ну! – выронил огрызок веточки Алёшка. – Никак по каторге соскучился?
– Надо, – уклончиво ответил бывший острожник и захлопнул крышку короба. Двупрозванный впился взглядом в его руки и осипшим голосом предостерёг:
– Дед, ты бы, на ночь глядя, по тайге не шатался. Тут в этих местах, бают местные, такой ведмедь завёлся, не приведи Господи! От старости на дичь не охотится, так скрадывает домашнюю скотину.
И тише добавил:
– А ещё языком брякают, к человечинке зверь шибко пристрастился. Недавно бабёнка в лес по грибы пошла, так и не вернулась. Охотники выстораживают людоеда, а всё без толку. Хитёр, зверюга.
Карп уже закинул за спину «горбач», шагнул к дороге. Но при этих словах остановился, задумался. Предзакатное солнце начало быстро меркнуть. Лес глухо шумел в наступавших сумерках. Тревожно стало…
А бродяга не унимался, подливал масла в огонь:
– В этих местах ведмедь и шастает. Не ровён час, напорешься на него. Давай-ка лучше костерок разложим и заночуем здесь, от греха подальше.
Старик с сомнением посмотрел на продувную рожу бегунца. Неохотно, но согласился. Они споро собрали хворосту, валежника. Подтянули трухлявый ствол поваленного дерева. Запалили костёр. Наломали лапника, устроили лежанки. Глядя в звёздную высь, Алёшка Двупрозванный вдруг глубоко, прерывисто выдохнул:
– Эх, нарядность-то какая! Даже подыхать неохота. Считай, век прокуковал за холщовый мех и бубновый туз на горбу. – Повернулся на бок и мечтательно пробубнил: – Хоть бы какой завалящий купчишка по дороге проехал, что ли. Уж я бы его тряхнул! Живо бы ему ливер-то наружу выпустил.
Карп нахмурился:
– На кой?
– Как на кой? А тити-мити? – Он многозначно пошелестел пальцами. – Вот тисну жирный гаманок с цуциками, в сыте и в пьяне напоследок покуражусь. Когда околеванец придёт, будет что вспомнить.
Карп приподнялся на локте, внимательно посмотрел в шалые глаза бегунца, резко оборвал его:
– Окстись! Жалеть опосля не будешь?
– О чём? Что жирному квас пустил?[128] – удивился Алёшка и брезгливо харкнул в костёр. – Я – босяк[129] битый.
– Значит, кровушки пролить не боишься? – уточнил для себя Карп Ковалёв и осуждающе покачал седой головой. – Я, пожалуй, битей тебя буду. Руки по локоть в крови. Щас рад бы отмолиться, да грехи больно тяжкие.
– Да ну! – не поверил бегунец, окидывая взглядом тщедушную фигуру старика. Но всё же всем телом подался вперёд. Глаза бродяги лихорадочно заблестели: – Сказывай, дед.
– Слухай сюда, паря. Я ведь с Пугачом по Рассеюшке гуливал. Тот, бывало, часто говаривал: «Или удасся чем поживиться мне, или убитому быть на войне». Любил Емелька побарствовать. На плечах – парчовая бекеша. Сапоги красные, сафьяновые. Шапка из покровов церковных. На рукояти сабельной огромный адамант. Конь в попоне парчовой. Полюбовниц, дочек дворянских и купеческих кровей, целый обоз. Гуляла душа казацкая в полный размах!
– Вот бы мне хоть денёк так кучеряво пожить! – вырвалось у Алёшки.
Глянул Карп на беглого каторжника и осёкся: «Глаза у парня загрёбистые. Лихорадка зависти в них, как кострище, полыхает».
– А правда, что Пугачёв в какой-то пещере сховал свои сокровища? – тихо спросил бегунец.
Старик сел, раздумчиво подгрёб сухой веткой прогоревшие угли в круг и подкинул ещё хвороста. Взглянул искоса на бегунца, подумал: «Как бы слюной паря не подавился!» – и сухо обрезал:
– Говорьё это пустое. Не было никакого клада.
Алёшка разочарованно мыкнул, но с вопросами не отлип.
– А дальше-то? Дальше что было!
– Так и не понял я Пугача. То ли и впрямь хотел за правду народную постоять, то ли извергом-душегубом был? Но кашу на Руси заварил кровавую. Так мстил за крепость господскую, так куражился над купчинами и дворянчиками, что вконец остервенел. А может, вбил себе в башку, вот, как и ты сейчас, вдосыть наесться, напиться до отвала людской кровушки?
Старик усмехнулся, глядя на Алёшкино восторженное лицо. Беглец с вызовом процедил:
– А как иначе-то? Не век же бедовать, пора и волю добывать! Тут уж либо мужицкий царь, либо дубовая плаха!
Он с силой швырнул в угли охапку сухостоя. Огонь ярко вспыхнул, заплясал и напомнил Карпу пожары пугачёвской вольницы.
– Да он хуже лютого зверя. Казнил и правых, и виноватых. Да так, что аж волос на голове дыбарём становился.
– В такой мясне[130] разве станешь разбирать, кто там повинный, а кто нет? – вступился за казацкого атамана бегунец.
– А убиенную тобой душу невинного, к примеру, ты можешь воскресить? – настаивал на своём старик.
– Нет, – признал очевидность Алёшка Двупрозванный.
– То-то же! Одному Господу дано право отымать человечью жизнь.
– На фиг мне их воскрешать? Обрыбятся, – криво улыбнулся бродяга, – а наши житухи кто дал право барам отымать? Твою – за железо. Мою – за спиртягу. Наша жисть для них – медный пятак. Пущай таперича оне платят сполна. Своими житухами.
– А коли перед тобой несмышлёнок барский? Рука поднимется? – пытливо взглянул ему вглубь зрачков бывший пугачёвский соратник.
Алёшка злобно ощерился:
– Не сумлевайся, бабай. Не дрогнет. На раз буду давить гнедёнышей. Бесполезно жалобить меня.
Старик гневно ткнул пальцем в грудь Алёшке:
– Э-э! Тебе только дай потачку, похлеще Емельки от чужого богачества и всесилья ошалеешь.
Алёшка, побагровев, вскочил с места:
– Чтоб язвило тя, старый чёрт! А как ты хотел? Сколь можно задарма горб на бар гнуть? Кто им право дал господствовать над нами? Чем они лучше нас? Умнее? Святее? Не-е-т! Нет! Их таким же грехом делали и из тех же срамных ворот они на свет белый вывалились, – гнусно ухмыляясь, он показал похабный жест. Поприостыл, уселся на землю, хищно обнажив бескровные дёсны:
– Нет, дядька, кончай скулёж! Ты меня красной юшкой не напугаешь!
Карп отшатнулся от него и прошелестел побелевшими губами:
– Осподи! Недаром на небе знамение видел. Кровавый меч лёг поперёк милосердного креста. Быть бунту великому в сих местах. Анчихрист уже прельщает работный народ на Ирбинском заводе. Польётся кровушка винная и безвинная. А на крови царства божьего не воздвигнешь.
Перекрестился и начал творить молитву. Но бродяга грубо оборвал его:
– Мутный ты какой-то, дядька! Будя сопли по щекам размазывать. Я хоть и крещёный, а мне твоего царствия небесного не надо! Мне бы на грешной земле пожить безбедно. – И с издёвкой процедил сквозь зубы: – Да что с тебя спрашивать? Лета твои глубокие. Знать, гнилушки в башке совсем протухли. Из рассудков выжил… – Он для наглядности постучал согнутым пальцем себе по лбу и ехидно добавил: – Ишь, господничек-то какой! На кладбище поглядываешь? О душе печалишься?
Вконец раздухарился Алёшка. Будто шлея под хвост попала. А то не шлея, то чеплашка, что была захована под халатом бывшего каторжника винного завода. «У колодца да не напиться?» Вот и прихватил бегунец спиртяги, что грела грудь и придавала силы в таёжных дебрях. Но делиться с дедком не стал. «Мало осталось!» Незаметно от Карпа глотнул пару раз, согрел нутро и пошёл блажить. Вскочил на тощие костыли, закружил шутом вокруг костра, замахал руками, как крыльями:
– Твоя правда хирувимом в поднебесье порхает! Кар, кар, кар…
Но вдруг замер и судорожно прижал к щуплой груди костлявые пальцы. Скорчился, зашёлся долгим, сухим, надсадным кашлем. Отдышался, выхаркнул на траву кровавый сгусток. Драным рукавом вытер посиневшие губы и криво улыбнулся:
– А моя, – тут чахоточник поднял у ног увесистый камень и с трудом разогнулся, – моя правда – земная, тяжёлая, как этот шутильник[131].
Он подкинул на ладони камень и точно прицелился в Карпа:
– А как «пошутишь», так прибьёт наповал. А уж в кого попадёт, тому и аминь! – швырнул булыжник на землю и плюнул старику под ноги: – Мне теперь твой Бог не в копейку, а чёртушка – брат! – И нарочито широко зевнул: – Харэ тарахтеть! Что-то у меня глаза уже сплющиваются. Давай-ка дрыхнуть, бабай.
Они снова улеглись. Старик незаметно задремал, крепко зажав в руках ремни короба. Мол, бережёного бог бережёт. А как небо светлеть начало, проснулся оттого, что кто-то тихо, но настойчиво тянул ремни короба. Карп вскинулся, ухватился за короб, но бродяга уже нагло дёрнул его на себя.
– А-а-а! Взбрындил! Не желашь с братом-каторжником делиться? Отдай безартачно короб!
С издёвочкой хохотнул:
– Ещё жалобишь, угодничек Божий, с барами без кровушки обойтись. Брехня! Небось без неё с ними дела тож не сладить.
Алёшка угрожающе сверкнул ножом:
– Ну! Отчепись же!
Но Карп намертво, как в последнюю надежду дожить остаток века достойно, вцепился в короб:
– Ах ты, варначина! Така твоя благодарность…
– Получай, сквалыга! – разбойник пырнул Карпа ножом в живот. Вырвал из слабеющих рук «горбач» и обтёр лезвие о траву. Раскрыл короб, залез рукой внутрь, пошарился и вытащил горсть мелких гвоздей и иголок. С недоумением рассмотрел добычу и презрительно фыркнул:
– Тьфу ты! Старый брехун! А темнил, что пугачёвцем был. Кабы взаправду разбойничал, закурковал бы красный товар[132], а не дряньцо.
Он с досадой оттолкнул от себя короб:
– Не пофартило. Хотя… – Он быстро передумал и вскинул «горбач» на плечо: «С паршивой овцы и шерсти клок – барыш».
Старик проводил его мутнеющим взглядом: «Хреново, когда человек уподобится зверю». Застонал, зажав живот ладонями. Упал на траву, медленно пополз к дереву. Прислонился спиной к стволу, открыл булькающую рану. Понял – это остатки жизни выходили из него кровяными толчками. «Вот и конец. Чего уж других срамить? Успеть бы самому покаяться. Сколь невинной кровушки пролил – один Господь ведает. Прости мя, Всевышний!»
И в это время полыхнула на востоке багряная заря, окропив придорожную траву красными брызгами. Чёрная туча накрыла горизонт. Отдалённо прорычал гром. Поднялся сильный ветер, и тайга грозно загудела. На запах свежей крови вышел из урочища старый грязно-бурый медведь. Остановился напротив раненого, оценивая долгим взглядом свою жертву. Обессиленный Карп даже не шевельнулся. Только глянул исподлобья прямо в глаза зверю – с лютой ненавистью, с диким нежеланием умереть в его смрадной пасти. Знал, что нельзя, ох, нельзя было смотреть в налитые кровью зрачки зверя-людоеда. Это вызов для него. Повод для вспышки гнева. И Карп не выдержал, сдался. Прикрыл усталые веки. И как-то сразу обмяк. В полуобморочном состоянии поднял кровавые ладони. Скользнула последняя мысль:
– Жаль, не успел в Ирбу. Не дошёл. Быть крови великой. Быть…
Книга вторая
В одной связке
Часть первая
Невольничьи судьбы
Глава первая
Жажда
Лето 1824 года вползло в хонгорайскую степь нестерпимым зноем, съедая зелёные краски и без того небогатой растительности, вынуждая всю мелкую живность прятаться в глубоких прохладных норках. Птицы тоже не выдерживали повисшего над степью марева и к полудню забились в глубь мироточащих влагой расщелин ближайшей скальной гряды. И только огромный старый коршун одиноко восседал на остром каменном уступе. Он беспокойно высматривал в выжженной траве хоть какую-нибудь жертву – стоящего солдатиком беззащитного суслика или юркую глупую мышь. Увы! Недвижна степь. Мертва. Но тогда его зоркий взгляд, возможно, обнаружит звериную падаль или человеческий труп? Такое здесь не редкость. Бывало, Тесинские чуди, копаясь в древних курганах, выкидывали на поверхность древние мощи, чтобы освободить места для знатных местных князьков. Случалось, что жёнки хонгораев, по обычаю, приносили к скалам умерших от болезней младенцев и рыдая оставляли их на упокой в неглубокой расщелине. Всякое бывало…
Вдруг послышался отдалённый гулкий голос бубна. Коршун напрягся, повернул вскинутую голову на звук, заметил людскую похоронную процессию и снова замер, почуяв поживу. Выжидающе наблюдал, как местные хонгораи необычно громко несли очередного покойника на вершину кургана, шумно и со страхом отгоняя его дух от своих живых тел. Не иначе хоронят шамана. Вот они остановились под одинокой сосной, что упрямо выбросила свой ствол на самом краю скального выступа, накрепко обхватив булыжный камень цепкими корнями. Изогнутые ветрами сосновые ветки напоминали заломленные в горе руки. Под ними и поставили помост с телом, зашитым в войлок. Потом разожгли рядом костёр и стали готовить поминальное «угощение».
Коршун терпеливо ждал. Вот-вот окончится людская трапеза и начнётся его пир. Время шло, а люди не уходили. В тревоге птица оторвалась от камня, но снова присела, заслышав новые жуткие звуки. Один из хонгораев подобрал с земли камень, подошёл к покойнику и стал выбивать оставшиеся зубы. Так лишали умершего могущества и магических сил, дабы не смел более вредить живым. Старейший из соплеменников изо всей силы ударил в бубен. Тоскливо завыла конская кожа. Тугая гладь лопнула, и дух бубна вырвался на свободу. Хонгораи, не то причитая, не то ликуя, схватили жезл, испорченный бубен и кинулись к сосне. Крепко-накрепко привязали шаманские вещи к шершавому стволу. Иначе, по поверью, эти вещи, как преданные слуги, приведут мертвеца обратно, к порогу покинутой юрты. И тогда не миновать беды. Наконец, скорбная процессия почтительно попрощалась с усопшим и поспешила прочь.
Коршун взмыл в небо, покружил над сосной и, убедившись, что никто более не посягает на его добычу, медленно опустился на место трапезы. Стал неспешно выбирать бараньи обглодыши – пожирнее да позапашистее. Но вот за холмом послышались новые странные звуки: звон кандальных цепей, лязг ружейных затворов, ржание лошадей, громкие окрики людей. Коршун недовольно повернул голову. Зоркий взгляд хищной птицы сразу обнаружил знакомое ему зрелище. Из-за кургана медленно выползала пыльная полоса, в которой постепенно проявлялись серые тени измученных зноем каторжан, еле волочивших сбитые ноги по блёкло-бурой степи. Передний конвойный зло понукал усталую неходкую лошадь. Иногда, в нетерпении, приподнимался в стременах, прикладывал ладонь к лаковому козырьку фуражки, всматривался вдаль: не блеснёт ли долгожданная нитка реки – конец знойному мороку и людским мучениям.
Потревоженный коршун недовольно взмахнул тяжёлыми крылами и взлетел на дерево, не желая оставлять без присмотра свою добычу.
Командир взвода гарнизонных войск Марк Леонидович Щербатов утомлённо вглядывался в дрожащее марево раскалённого воздуха. Проследив полёт беспокойной птицы, он вспомнил вдруг другую – гравировкой на серебряной фляжке. Достал её из кожаной сумки, удивился поразительному сходству птиц и поспешил отвинтить крышечку. Жадно присосался губастым ртом к узкому горлышку. Сглотнул остатки воды, сокрушённо вытряс последние капли на узкую ладонь. Обтёр красное лицо с жидкими бакенбардами и щегольскими усиками. Затем вялым мановением руки подозвал казака, сопровождавшего отделение Минусинского гарнизонного взвода.
– Э-э-э, скажи-ка, голубчик, – медленно протянул он, – далеко ли ещё до водопоя? Кони в пути изнурились.
Седовласый младший урядник Саянской станицы Пётр Сыч молодцевато вытянулся в струнку. Лихо козырнул:
– Никак нет, господин фельдфебель! Сёдни доберёмся до реки Берёзовки.
– А до Малой Ирбы ещё долго добираться? И когда только эта чёртова степь закончится?
– Ну, от Берёзовки недалече осталось, – уже буднично ответил казак. – Ноне у реки заночуем, а потом и до деревни потопаем.
Он снял фуражку, кулаком обтёр морщинистый лоб, неопределённо махнул рукой в сторону лесистых гор.
– Опосля вдоль лога выйдем к тайге. А там по охотничьей тропе на болото. Там легче станет, – обнадёжил фельдфебеля казак. – Грязница до самого завода брёвнами вымощена.
К обеду солдаты и каторжане вышли к белокорой рощице на берегу реки. Синева воды под раскалённым добела солнцем ярко блеснула в глаза путникам и поманила ласковой прохладой неторопливых волн.
Фельдфебель Щербатов первым направил живо фыркающую лошадь в реку. Вслед за ним солдаты бросились в воду смывать дорожную пыль и едкий пот с загорелых до черноты лиц. Наконец, и арестантам позволили спуститься с берега к водной благости. Колодники, гремя цепями, с радостным гомоном кинулись в реку. Суетливо совали полубритые, выжаренные на солнце головы в бодрящие струи. Жадно глотали из пригоршней взбулгаченную ногами и цепями, мутную, прохладную воду. То-то было плеску, звону, радости!
Рослый каторжанин с тёмно-русой бородкой забылся и потянулся дальше, к чистой, незамутнённой полосе реки. Забрёл в воду по широченные плечи и невольно поволок за собой на глубину сразу девять этапников, прикованных наручниками к единому железному «шнуру». Рядом с ним, потеряв дно, громко забултыхала ногами молодая баба с бледным, угрюмым лицом. Замызганный подол серой юбки всплыл, бесстыдно оголяя смуглые колени. Возле неё буйком выскочил и уцепился руками за «шнур» карточный шулер и вор Ванька Сиверцев. Он сразу же похотливо зашарил взглядом по тугим грудям, соблазнительно облепленным мокрой тканью. Поодаль покорно булькнул и запускал пузыри тощий бродяжка Мирон Петров. Тяжёлые цепи сразу же потянули старика на дно. Верзила оглянулся, нашарил в воде лысую голову, крепко уцепился за ворот рубахи и вытянул «утопленника» наверх. Старик от страха фыркал, отплёвывался и в крик бранился:
– Сдай, бугаина, взапятки. Я ж сроду плавать не умею.
– Чтоб выучиться плавать, надо слазить в воду. Да тя ж ухватить-то не за что. Волос от волосу, не слыхать голосу, – добродушно отшучивался верзила, пятясь к берегу.
– Тьфу-у ты! Осподи, царица небесная, и народили ж такое долготьё! – сердито ворчал бродяжка, тыкаясь затылком тому ниже пояса. – Утопишь вить ни за копейку.
Заслышав крики, к ним подскочил на лошади фельдфебель. Наехал на рослого арестанта конской грудью. Грозно выкатил и без того выпуклые глаза. С остервенением ожёг плёткой широкую спину этапника. Со злобной улыбкой пихнул резной рукоятью в лицо верзиле и процедил:
– У-у! Морда каторжная, порядка не блюдёшь? Пшёл из реки!
Глаза арестанта потемнели. Он выпустил старика, молча развернулся. Левой рукой ухватился за конец плети. Намотнул на кисть «ёлочное» плетево. Правой ладонью, похожей на рачью клешню из-за отсутствия пальцев, резко столкнул фельдфебеля с седла, а лошадку похлопал по крупу. И та, взбрыкнув, сиганула на берег под крики испуганного унтер-офицера, плюхнувшегося в воду.
Каторжане застыли в ожидании. Подскочил торопливый Сыч, что ближе других оказался к буче. Седой казак выловил командира из мутной воды и поволок на сушу. Спохватившиеся конвойные дружно стали теснить каторжан к берегу, пытаясь восстановить порядок.
Мокрый до нитки, от чего выглядел ещё пуще худосочным, фельдфебель Щербатов сидел на прибрежном камне, выливал из сапог воду, сконфуженно воротил взгляд от насмешливых морщин проводника и пискляво ругал колодника:
– Быдло! Скот! Погоди ужо! Придём в острог, ты у меня хлебнёшь лиха по самые ноздри.
Сыч, услужливо выжимая мундир командира, удивился: «Эка, сам с вершок, а злобы с горшок. Ишь, глазепучка брыластая, как взъелся на арестанта». И, повесив мундир на ближайший кустарник, вопросительно глянул на Щербатова.
Унтер-офицер заметил неодобрение в глазах ветерана, с вызовом процедил сквозь сжатые зубы:
– К этому арестанту у меня особый взыск.
Теперь Пётр Сыч с любопытством оглянулся в сторону рослого колодника. Обратил внимание на гарнизонный заношенный мундир с жёлтым истёртым воротником и затрёпанными обшлагами. Отметил для себя неизгладимую солдатскую выправку арестанта:
– Так он что, из солдат? Поди, дерунец?
Фельдфебель, уже в сапогах, воинственно дрыгнул тощей ляжкой. Взлягнул копытом-каблуком по изумрудной травке, как боевой жеребчик, и высокомерно пояснил:
– А то! Матёрый дезертирище!
Он подошёл к коню, вытащил из притороченной к седлу кожаной сумки списки арестантов. Близоруко прищурился, поднёс документы к остроносому лицу и медленно, но с напором, прочитал:
– Бывший рядовой Минусинской инвалидной команды Тихон Бекетов. Рекрут-отказник.
Враждебно глянул на верзилу:
– Из солдатских детей ведь, сукин сын. А бегает от солдатчины, как бес от грома. Не хочет достойно служить.
Унтер-офицер снова уткнулся длинным носом в бумаги и противно взвизгнул:
– Вот, извольте взглянуть: «За побег из арестантской роты наказан шпицрутенами. Прогнан сквозь строй двенадцать раз. За умышленное членовредительство приговорён навечно в каторжные работы».
– Вишь ты! Стало быть, лямка солдатская не в любовинку, – покачал головой Пётр Сыч.
– Его б не в каторгу, а сразу под расстрел! Хотя нет. – Фельдфебель выпрямился и принял героическую позу. Вздёрнул вверх узкий подбородок, подбоченился левой рукой, правой сжал рукоять сабли. Смерил младшего урядника надменным взглядом и напыщенно провозгласил:
– Такая тварь пули не достойна! Пули достоин солдат-отчизнолюбец, а не предатель, который не желает служить царю и Отечеству.
Пётр Сыч в ответ невольно козырнул, но с неприязнью подумал о фельдфебеле: «Каков архаровец? Уж не срамился бы про достойную службу талдычить. Прозвонили звоны, за какое геройство тя лишили капитанского звания. И за какое лихо отправили служить в Сибирь – без права повышения в чинах. Баяли знающие люди, как ты в Петропавловском батальоне солдатню люто мордовал. Чай, не одного сипа[133] в гроб загнал, гнида».
Он отошёл от крикливого унтер-офицера в сторону и расседлал коня. Привязал длинной верёвкой к дереву. Стреножил передние ноги и ласково похлопал жеребца:
– Пасись вволю, Гнедко, покуль время есть. С утрева снова в путь.
Он окинул взором берег, где сидя и вповалку отдыхали каторжане, и стал готовиться к ночлегу сам. Расстелил на траве грубую, с вплетением конского волоса, длинную овечью бурку. В головах поставил седло. Уселся на накидку, развязал вьючные ремни и отделил от седла кожаную торбу. Вынул из неё горсть сухарей. Один засунул в голодный рот. Медленно с наслаждением зажевал, размачивая слюной чёрствый мякиш. Неторопливо огляделся по сторонам и вдруг поперхнулся сухими крошками. Мучительно, взахлёб закашлялся. Тёр кулаком слезящиеся глаза на побагровевшем лице, изумлённо таращась на Марка Щербатова. Столичный унтер на одной из походных телег раскатывал… перину.
– Вот это житуха! Как у Христа за пазухой! – присвистнул Пётр Сыч. – Не хило Смешилов печётся о племяше. – И снова задохнулся в кашле, увидев, как офицер костистыми кулачками взбивал… большую подушку:
– Тьфу ты, осподи! Поди, сроду пороху не нюхал? Видать, и нонче дядька сплавил тя на Ирбинский рудник, чтобы часом не загребли на Кавказ. Как же! Там черкесы да чеченцы шибко озоруют, запросто жизни лишают. А тя и впрямь соплёй перешибить можно. Защитничек хренов… Глиста в обмороке… Штоб тя мошка сибирская заела и выплюнула!
И он с силой шлёпнул ладонью по щеке, прибив сразу несколько кровососов. Чтобы успокоиться, Сыч вновь зашарил рукой в торбе. Вынул последний сухарь, огорчённо вздохнул. Поднялся с подстилки, подошёл к коню и протянул угощение:
– Хрупай, хрупай, Гнедко, – с нежной осторожностью погладил косой шрам на лошадиной шее. – Товарищ мой боевой. Настоящий друг и защитник… Человечище…
Глава вторая
Ночёвка
К вечеру на берегу стали раскладывать костры. Арестанты и солдаты доставали из мешков чугунные и глиняные сколотые горшки, собирались кучками у огня. Пётр Сыч долго ворочался под деревом на войлочной подстилке. Рядом тихо фыркал и хлестал хвостом, отгоняя назойливых комаров, мокрый от вечернего купания Гнедко. Полчища гнуса остервенело зудели по-над берегом и людьми. Как ни кутался младший урядник в плотную бурку, неистребимые кровососы проникали даже в самые крошечные прорехи. И Сыч не выдержал. Он поднялся и начал бесцельно слоняться по берегу, отмахиваясь от мошки берёзовой веткой. Держался подальше от телеги неприятного фельдфебеля, но поближе к дымам каторжанских костров, от которых к тому же шли дразнящие запахи варева. В животе младшего урядника голодно заурчало. Он мысленно ругнул станичного атамана, что спешно отправил младшего урядника сопровождать сводную колонну преступников, которую неожиданно срочно погнали на каторжные работы на Ирбинский железоделательный завод. Времени на сборы не было. А приказ есть приказ! Сыч наспех прихватил какую-никакую снедь, да вот не рассчитал. Не хватило еды до места. Последним сухарём с другом поделился. Но об том не жалел, а стал думать, где едой разжиться.
И ноги сразу почему-то побрели к той связке острожников, где приметил Сыч непокорного дезертира. Он приостановился возле и с любопытством рассматривал загорелое лицо рослого арестанта. Казаку нравился прямой, добродушный взгляд тёмных глаз под широким полукружьем густых бровей. Стеснительная улыбка изредка раздвигала тёмно-русые усы и короткую бородку этапника. Но больше всего бывалому казаку пришлось по сердцу то, как штрафник-дезертир смело посрамил заносчивого обер-офицера.
Каторжане сидели кружком у закопчённого чугунка, ожидая жидкое варево и держа наготове грубо струганные деревянные ложки. Угрюмая баба угнездилась в стороне от них – так далеко, сколь позволяла натянутая от «шнура» цепь. Она отвернулась от мужчин, пониже надвинула тёмный платок на глаза и всухомятку грызла ржаную корку.
– Не пустите ли, робяты, к огоньку меня? – приспросился седой казак.
– А не зазорно с приводными людьми[134] сидеть? – с ехидцей выпалил Ванька Сиверцев.
– Моё дело телячье, – отшутился Пётр, – я над вами караула не несу.
– Рад не рад, а говори: «Милости просим», – поучительно наставил Сиверцева бродяжка Мирон Петров и приветливо улыбнулся гостю: – Садись, служивый. Чай, то ж с утра без маковой росинки во рту? Ложка есть? А то вить гляденьем сыт не будешь.
– Благодарствую. А и верно, без ужина и подушка под головой вертится. Была бы еда, а ложка сыщется всегда, – с весёлой готовностью отозвался Сыч и ловко достал деревянную ложку из-за голенища сапога.
– Здра-а-асьте вам! – взъерепенился Ванька Сиверцев. – Пришёл проведать, а остался обедать. Пустили погреться, а он и детей рад крестить.
Казак сконфузился и начал прятать ложку обратно в сапог.
– Каков ни есть, а тожа хочет есть, – резко оборвал шулера Тихон Бекетов. Штрафник потеснил Сиверцева, освобождая место для Сыча. Извиняющимся тоном добавил: – Тока не обессудь, жранина у нас уж больно скудна. Вода, крапива да картоха-мятуха. А от воды навару, сам знаешь. Одно слово – заболдуйка[135]. Попросту без луку, на крестьянскую руку.
Он повернулся к угрюмой бабе и мягко проговорил:
– И ты, Аграфёна, то ж придвигайся ближе к огню. Чай, ночью не жарко, задрогнешь. Да и похлебай за кумпанию.
– Што ж ты к нам всё, как не родна-а-ая! – с нарочитой ласковостью встрял карманник. – Вон Лизка-жирёха ко всем с дорогой душой, весь свой «шнур» уважила. Потому в этапе не голодует, гладёхонькая, как и была ране. А ты всё корки грызёшь. Така тоща стала, што и помацать не за што.
Бекетов длинно и тяжело посмотрел ему в глаза:
– Всё неймётся, кобелина? Мало ли других баб в партии?
– Да ты никак сам на неё глаз положил? – закривлялся Ванька Сиверцев. – Так и мне охота. А давай-ка мы спор полюбовно решим.
Он шустро достал из кармана затёртую колоду карт:
– Сыгранём на счастье? Чей фарт, того и баба будет.
И юркими пальцами с лихим приговором растасовал колоду:
– Шиш-мариш, никому не говоришь, во все глаза глядишь, а ничего не зришь. Лахман[136]-лах[137] – твои дела швах!
– Попридержи язык, сквернавец. И убери свои гадские карты. Коль сама на то согласится, то – дело полюбовное. А играть на живую душу – дело последнее, – сердито проворчал Мирон Петров.
– Ты что это, дядька Сарай[138], никак загрубил мне? – Вор мигом взбеленился и рванул потрёпанную рубаху на щуплой груди. – Мне, благородному крадуну? Меня перед чесным обчеством срамить вздумал?
Он вскочил с места и замахнулся на старика:
– Щас врежу по бестолковке, шоб знал, с кем дело имеешь, гнида.
– Угомонись! – сверкнул глазами на него Тихон.
Но Ванька топотал за спиной Мирона туда-сюда, сколь позволяла цепь. Вошёл в раж. Гремел и цепями, и голосом:
– А, заступнички! Ну, ну! Лучше поспрошайте-ка старого хрыча, за што его в сумерешные годы погнали берёзки столбовые считать?[139] Не за снохачество ли? А? – остановился, подмигнул колодникам и наклонился к уху Мирона: – Сынок в поле робить, а ты к невестке под подол. Што? Седина в бороду, бес в ребро?
