Князь-раб. Том 1: Азъ грѣшный
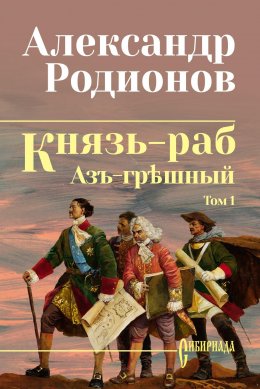
© Родионов А. М., наследники, 2025
© ООО «Издательство „Вече“», 2025
Словарь устаревших и заимствованных слов
Адат – обычай
Айван – колоннада перед дворцом
Алман — дань, ясак
Аманат – заложник
Багинет – штык
Байберек – парчовая ткань
Баранта – набег, грабеж
Барантача – грабитель
Барбет – земляной окоп, вал
Беспречь – не переставая
Бечевник – узкая береговая полоса
Бздиловатый – трусливый
Брезга – рассвет
Вавилон – крутой поворот (дороги, реки)
Важивать – водить, возить
Вервие – веревка
Вертлюги – суставы
Взаболь – всерьез
Взнять – поднять
Взорлить – возвыситься
Войт – сход должностных лиц
Вшивица – затылок, голова
Вывершить – выйти к верху
Газардовать – входить в азарт, рисковать
Гайтан – шнурок на шее
Гер – дворцовый войлочный шатер
Гулган – княжеский совет у джунгар
Джида – кустарник
Дискреция – сдача на волю победителя
Долик – желобок на клинке
Дощаник – речное судно
Ерик – протока
Ертаульный – передовой
Еспе – колодец
Живот – богатство
Забереги – береговая полоса воды, свободная ото льда
Забока – заросли в низкой пойме
Заклюка – поворот
Захребетник – работник по найму, не имеющий ни дома, ни земли
Зелейный – пороховой
Зендель – лентяй
Игреневый – конская масть коричневого оттенка
Избутелый – застойный
Изголов – исток
Калабалык – красная рыба
Камка – китайская ткань низшего сорта
Камча – плетка
Канфа – ткань
Капище – кумирня, языческий храм
Кармазиновый – ярко-алый
Китайка – простая хлопчатобумажная ткань
Консидерация – соединение
Контайша – великий джунгарский князь
Конфирмовать – утверждать, подписывать
Копанец – мелкий колодец
Корволант – соединенный отряд
Коч – небольшое судно
Крушцы – руда земная, металл
Крюйсовать – курсировать
Кузары – гусары
Култук – рыбное угодье
Кунтуш – польский кафтан
Курт – сушеный сыр
Лал – сапфир
Лядунка – кожаный мешочек для пороха
Мазарчалык – кладбище
Мапа – карта
Маршалк – слуга
Матоветь – помутнеть
Мешкотливый – медленный
Мотчанье – промедление
Мошенство – мошенничество
Найман – род тюрок на Алтае, в Прииртышье
Незнать – человек недворянского сословия
Новик – новобранец
Нукер – всадник, воин
Обаче – однако, впрочем
Обгарина – шлак
Одинцы – непарные шкурки
Опричь – кроме
Отпачий – отчаянный
Отпуск – копия
Отуриться – отчалить
Паки – опять
Паузки – маленькие судна для прибрежной разгрузки
Пахтанье – сливки
Пежить – донимать
Пипка – курительная трубка
Плавеж – брод, переправа
Плутонги – форма построения войска
Повалиха – мучная каша с маслом
Подгортанник – кадык
Подсада – самый нижний пуховой слой дешевых собольих шкурок
Подуванить – поделить
Поелику, понеже – ибо, потому что
Позлащенная – позолоченная
Поминок – подарок
Поморговать – побрезговать
Потентат – правитель
Протори – убытки
Проториться – понести убытки, обмануться
Разболокаться – раздеваться
Рамена – плечи
Регимент, региментарий – полк
Региментарь – полковник
Решпект – уважение
Рогатки – укрепление из бруса с множеством отверстий, в которые крест-накрест выставлялись короткие копья
Рында – слуга
Саадак – колчан
Саккос – одежда священника с колокольцами
Сакма – тропа
Сарбаз — воин ханской гвардии
Свейский – шведский
Седмица – неделя
Селле – чалма у персов
Сикурс – помощь, выручка
Сиречь – то есть
Скудельный – глиняный, слабый
Слюзный – шлюзный
Соловый – конская масть серовато-белесого цвета
Солощий – прожорливый, жадный
Спрохвала – легко, походя
Стратилат – предводитель воинства
Стратожема – военная хитрость
Сулейка – бутылка
Сутунок – короткое бревно
Тайша – джунгарский князь
Тельпек – шапка из каракуля
Точию – только
Трактамент – условия, плата
Транжемент – укрепление, земляной вал
Тчан – специальное устройство для литья пушечных стволов
Убродный – глубокий
Урга – кочевая ставка Великого хунтайджи
Утеклец – беглый, беглец
Фашинник – связка хвороста
Фельдшанц – полевое укрепление
Ферраш – расстилальщик ковров
Фряжский – заморский
Хорадж – дань (туркм.)
Хуре – кибитки, расставленные по кругу
Хурул – кочевой монастырь ламаистов
Ценинный – фаянсовый
Цидулки – письма, записки
Чемер – болезнь, недуг
Шаить – тлеть
Шандал – подсвечник
Шанцы – окопы
Шерть – клятва, присяга
Шертовальный – клятвенный
Шкоцкий – шведский
Шнява – мелкое судно
Шпег – шпион
Щербот – небольшое гребное судно
Ясырь – пленник
Часть I
Невысокая кривая дверь распахнулась, и свет выхватил из темноты лица, парики, и над всем этим колыханием голов нависала туфля слуги, освещающего фонарем вход в странное, совершенно круглое сооружение, вознесенное лад землей едва ли не на сажень. Собравшаяся внизу компания невольно выстроилась перед лестницей гуськом: только следуя друг за другом, можно было попасть в это диковинное вместилище, стоявшее неподалеку от летнего дворца Петра. Царь поднялся по лесенке-времянке первым и, согнувшись в три погибели, перешагнул порог, почти напрочь заслонив собой идущий изнутри свет. За ним проворно последовал светлейший князь Меншиков, пропыхтел грузно адмирал Апраксин, неторопко поднялся кабинет-секретарь Макаров, а там и господа сенаторы, помогая друг другу, поднялись к дверному проему, своим очертанием напоминавшему крутобокую присадистую пивную бочку. Казалось, там, внутри, за небольшим круглым столом, вовсе уже нет места, но еще взбирался нетвердо по ступеням вице-губернатор Петербурга Корсаков, и, тычась в его спину, хватался за подрагивающий поручень начальник столичной канцелярии городовых дел.
Матвей Петрович Гагарин, сибирский губернатор, всем дорогу уступал, но нога его уже утвердилась на первой ступеньке, и он, пропуская вперед себя всю свиту, как бы выказывал своим видом – мы издалека, мы с краешку… Свет в дверном проеме закрывался очередной фигурой, и лицо Гагарина, всякий раз кратко освещаясь, оставалось неизменным. «Хорошо, хоть не чертова дюжина на мне замкнется, – подумал губернатор, втискиваясь в круг застолья, – кажись, двенадцатым вошел».
Компания, стеснившаяся велением царя, сидела в глобусе, недавно доставленном из Голштинии. Глобус был так велик снаружи и причудлив внутри, что дюжина на внутренних стенах этого петровского трофея, выхваченного из Готторпа не то как подарок от голштинского администратора Христиана Августа, не то как плата за некие царские услуги заморскому княжеству. Но поскольку вокруг стола все же было тесновато, то каждый мог видеть перед собой только небольшой лоскут нарисованного немецким мастером неба. Царь, войдя первым, не без умысла сел напротив Большой Медведицы и, как только изумление окружения стало пригасать, сказал, снимая нагар со свечи:
– Тесно, друзья мои любезные, да каждому на небе видна своя планида.
– Своя-то своя, государь, да вот что-то я ее поименованья разобрать не могу, – прищурился светлейший, делая вид, что силится понять надпись над созвездием напротив.
– А ты можешь и век жмуриться – все без толку. Не разумеешь немецкого слога, – усмехнулся царь и добавил: – Да и по-нашему читать никак не выучишься. И как это тебе, бестии, удается от грамоты четвертый десяток лет отлынивать?
– Марсовы дела не позволяют, государь.
– Марсовы… Отодвинутся же когда-нибудь и они. Али тебе не легло на память, что я вчера говорил?
Вчера, празднуя спуск на воду нового корабля, Петр произнес в кают-компании, набитой гостями, долгую речь, малоподходящую для корабельного случая. Ждали слова о флоте, а он начал с того, что «доволен случаем напомнить гостям о том, как несколько лет назад даже и не смел мечтать, что вот здесь, на берегу Остзейского моря, мы соберемся в городе, который построили сами. Да нам и не снилось, что в сем граде мы увидим столь многих славных российских мужей, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смышлеными; не мечталось, что увидим у себя такое множество иноземных художников и хитромастеров, и не снилось – доживем, что его, царя, и его царедворцев станут весьма уважать чужестранные государи!»
Гагарин слушал царя внешне подобострастно, но между делом успевал искоса метнуть взгляд то на британского посланника Витворта, то на брауншвейгского резидента Вебера, видать, для них государь расстарался краснословьем. И только когда Петр сказал: «Теперь очередь доходит до нас, если вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких оговорок. Передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдается мне, что со временем науки оставят свое теперешнее местопребывание в Англии, Франции и Германии и задержатся на несколько веков у нас… Помните поговорку…» – Тут царь произнес что-то по-иноземному, и большинство ничего бы не поняло, если бы Петр сам не перевел: «Молитесь и трудитесь», – только после этих слов до Гагарина дошло, что царь не красуется перед иноземцами, а слова его предназначаются в первую голову всем этим вырванным из насиженных московских гнезд боярам, которых Петр вынудил специальным на то указом переселиться в новую столицу.
Вчера среди бесчисленных тостов трудно было пробиться к царю, не оставлявшему вниманием гостей заморских, но Матвей Петрович все же улучил момент, спросил из-за Петрова плеча: «Так когда же, государь мой, Петр Лексеич, разговор со мной будет?»
Царь глянул на губернатора, полуоборотясь, трезвым глазом:
– Разговор прилюдно или?..
– Как пожелает ваше…
– Дело порубежное или иное какое?
– И такое есть, и всякое, ваше величество.
– Завтрашний вечер будь в Летнем доме, – бросил Петр и, будто и не прерывался, продолжил беседу с брауншвейгским посланником.
Матвей Петрович пришел к Летнему дворцу загодя, надеясь, царь будет говорить с ним о сибирских делах, если не наедине, то хотя бы в узком кругу. Дожидаясь назначенной встречи, Гагарин, уже более года не бывавший в Петербурге, пошел осмотреть Летний сад. Ровнехонькие ряды молодых лип уходили по прямой линии от дворца, вершины их еще не сомкнулись, и дорожки просматривались далеко и насквозь, истончаясь в глубине сада до острия шпаги. А пообочь от дорожек, то там, то сям стояли нагие белокаменные тела, будто вышедшие из кустов, чтобы рассмотреть прогуливавшегося человека поближе. Гагарин полюбопытствовал, что за надписи на мраморных круглых пеньках, на коих взгромождены бесстыдные телеса, но ничего прочитать не смог – латынь. Он как-то не заметил среди вечереющих кустов того самого странного сооружения, которое оказалось глобусом и в котором, по затее царя, теперь оказалась вся немалолюдная компания. «И ведь все у него одно на уме – носом в заморское тыкать. Теперь вот нашел способ – приставил всех носом к измалеванному небу», – ворчливо размышлял Гагарин, не показывая виду, что ему эти звезды и планиды хоть и не сияй, что голова под париком давно взмокла, что ему сидеть здесь весьма неудобно: неширокие плечи князя оказались заслонены с одной стороны Меншиковым, а с другой – пышными заемными локонами Долгорукова.
Слуга, стесненно кренясь набок, через плечи сидевших поставил на стол бокалы с мошкательвейном, и царь, сжимая в руке подогретое стекло, не вставая, заговорил:
– Жаль вот Брюса нет, не приспел еще к Петербургу из Саксонии, а то сей бы час все точно знали: кому какая звезда выпала по его картам, астрологией определенным, и кто под какой звездой здесь восседает. Непременно сказано всем будет: каково планеты нынче выстраиваются и какие кому беды и радости от того противорасположения будут в году предбудущем. Вот только Вилим вернется. А сей глобус, – царь вытер тыльной стороной ладони рот, потом вытер салфеткой руки, – станет украшать куншткамору. Не зря Меншиков вместе с Брюсом в Шлезвиг вояжировали и там рассудили одноконечно: брать или не брать у немцев эту чрезвычайно редкую вещь. А тебе, – Петр глянул в сторону Черкасского, – надо расчислить с архитектом, как глобус поднять и вместить на втором жилье куншткаморы. Позаботься, чтоб сия вещь стояла отдельно от монстров. Разве может такая красота расположиться рядом с уродцами, с этими усмешками Божьего промысла?
– Государь! Как же у Господа может быть усмешка? – искательно съязвил Меншиков.
– А ты взгляни в ином деле на себя! В деле воинском – усмешки Божьей над тобой нету. Воин. Да вот оставил я на тебя недостроенный город – и что? Ты и доли моих указов не исполнил. Не заложил Господь в тебя строителя. Тут не усмешка, тут ошибка. Но не Господа, а моя да твоя, понеже ты доселе города токмо разрушал. Дай срок – исправлю я в тебе и сей недочет вместе с прочими… – И Петр отвернулся от светлейшего, сдерживая себя.
Недосказанность повисла над Меншиковым хуже ругани, так что он в продолжение всего вечера уже помалкивал и в разговор не встревал.
– И уж коли я вспомнил о монстрах, то когда ж от тебя, князь, будут обещанные «шитые рожи»[1]? – обратился царь к Гагарину.
– Заминка, государь мой, вышла. Нерасторопство комендантское. И воевода якутский подвел.
– Каких же воевод ты там по городам насажал? И что за воеводы такие, у коих вчера был город, а ныне нет города?! Ты вот в новую столицу приехал, а одного города не довез!
– Прости, государь, не пойму, аз грешный…
– Бикатунский городок где?
– Калмыки спалили.
– О калмыцких нападках разговор еще будет. Ты допрежь ответь мне о воеводах сибирских. Они у тебя ничему иному не способны, точию бунташным казакам шеи подставлять. Растолкуй мне, за что Атласова в Большерецком остроге казаки жизни лишили? И кто главный убоец? Кто взнял бунт?
Сибирский губернатор знал эту способность царя застольно переходить от разговоров малозначащих к делам непустяшным, и поэтому ожидал, что вслед за «шитыми рожами» будут вопросы и посерьезнее. Да ведь и сам напросился, сам поторопил эти вопросы.
– То не бунт, государь, то грабеж. Убоец Григорий Переломов сговорился с казаками – взяли государеву казну. Прикащик Атласов ясак вывозить собирался в Анадырь, да они его в пути встренули. И порешили Атласова да еще Липина с Чириковым.
– Как же не бунт, коли казаки в камчатских острогах, и в Верхнем и в Нижнем, знамена выносили, круги свои воровские учиняли, атаманов новых выбирали!
– Все же, государь, то не бунт. Переломов на виске пытан, дано ему с десяток ударов, сказал, дескать, из-за живота он позарился, прельстился он, вишь, соболями, лисицами красными ясашными…
– Да разве тот, кто на ясак государев позарился, не вор? Ты своих воров сибирских не отмывай добела. Атласов сколько островов под Камчаткой, за переливами, под ясак привел! Да за такого государева человека шкуру спустить мало!
– Да слова нет…
– И кто у тебя, – Петр входил в страсть, – как Атласов, новые острова находит и мне пользу, а казне прибыль?
– Есть такие людишки, государь мой, есть…
– Почему не знаю их?
– Отписки воеводские не поспели. Вот Алексей Васильевич, – князь Гагарин с надеждой глянул в сторону кабинет-секретаря Макарова, – он не даст соврать. Приискиваются новые земли, и острова новые примечены. А под ясак еще не приведены – неведомо, есть ли на тех островах люди.
– Было, Петр Алексеич, было о том известно. Винюсь, не стал тревожить твою персону, поелику дело еще не прояснилось, – проговорил торопливо Макаров. – Отписывал мне о том князь Матвей Петрович, что казак Пермяков бывал на устье Лены, а оттоле шел морем до Ковымы-реки. И напротив устья Хромой реки, где пошел в море камень Святой Нос, видел-де он, Пермяков, с коча – остров в море или землица. А есть ли на ней люди – не ведает, отнесло…
– Тебе, князь Матвей Петрович, про то ни на день забывать нельзя. Что, казаки в острогах перевелись? Или кочи у них порассыхались? Шли грамоту в Якутск: прознать не мешкая, что там – остров ли, землица ли?
Застолье слушало царя притихше. Всяк был готов – царь в любой миг может перевести разговор с Гагарина, с его сибирских новостей на иную тему, и тогда уж язык во рту не жуй, а покажи, что все по своему разряду-приказу ведаешь. Но когда царь произнес отстранение: «Землица ли?» – никто не мог предсказать, как повернется разговор дальше.
Царь выпрямил спину и, положа ладони на стол, глянул на близкий небесный свод. Задержался на Полярной звезде, как бы утверждаясь в ориентире, снова заговорил:
– Вот что дивным не перестает мне казаться. Астрономы, звездочеты поди-ка все звезды на небе посчитали. Путнику по тем звездам с пути невозможно сбиться. Однако ж звезды известны, а до сей поры нет нам и по звездам пути к тому месту, где великая на земле загадка. Меня домогается уже кой год известный всей Европе великой учености человек Лейбниц. То письма слал, а тут и сам на аудиенцию явился. В Торгау беседовал я с ним. Паки начал говорить: срослась ли Азия с Америкой? И говорил, поелику другим мореходам сие место срастания недоступно разведать, то способней всего ответ нам искать. Говорил, точию ваше величество может разрешить сей вопрос. А вы, друзья мои нелюбопытные, гадаете: остров или землица?.. Князь Матвей! Ты, видно, тож заодно со всеми гадаешь?
– Срослась или не срослась, государь?
– Не то. До сего дня ты не вызнал, зачем к калмыцкому хану Аюке китайские посланцы собираются? Вижу – не вызнал!
Гагарин виновато и беспомощно покачал головой.
– Стало быть, ты поверил россказням, что они направятся к калмыкам сватать Аюкину дочь за китайского хана?
– Как же можно такое, государь! Лжа это все…
– А купчины твои в Китай ходят только-только торговать?
– Вот вернется оттуль купчина Гусятников, может, и точно ответит, зачем послы готовятся. Да не скоро, государь, это будет. Вернется он через два года.
Гавриил Головкин момента не упустил, вставил:
– Петр Лексеич! В Посольском есть листы от хана Аюки. Дескать, посол намерен просить у него дочь. Он, Аюка, вишь, и за приданым в Астрахань людей послал: платья дочке покупать. Упаси меня бог, да не верю я такому дальнему сватовству. Аюка с Китаями и раньше пословался, но тогда посольства Сибирью не ходили. А теперича тот путь по степям и чрез Камень стал больно опасен от каракалпаков. Вот и явилась им нужда ходить по нашей земле. Посланец Аюки еще в зиму подавал листы – просит пропустить его посольство в Китай числом полсотни человек, да чтоб шли от Казани Сибирью.
– Не собрался ли Аюка кого сватать себе в Китаях? – ощерился в усмешке Петр.
– Да намудрил он в листах – зачем посольство. Верно помню, что пишет: «Та посылка посольств меж ими чинится для любви на обе стороны».
– Это как же, на обе стороны? И с Китаями любовь, и с нами? Подданный русского царя, а тоскует по другому владетелю, – усмехнулся желчно Петр.
И хотя все поняли двусмыслие калмыцкого письма и ерническое толкование его, но никто царю не возразил.
Глава Посольского приказа граф Головкин слушал настороженно, ждал: вот-вот о китайском государстве еще вопросы последуют. Но Петр, видно, хотел расспросить более других Гагарина, не полагаясь на его письменные доклады, а больше уповая на живой разговор. Для долгой беседы с губернатором сибирским у царя никак не находилось времени. Он целыми днями пропадал на Скампавейном дворе[2], подле устья Мойки, где еще зимой было заложено к постройке шестьдесят галер. Петра не оставляла затея с десантом на шведскую сторону. Но и на сей раз подробный разговор с Гагариным не завершился.
В кривом проеме распахнутой двери, где матовело не нарисованное, а настоящее небо, показалась низенькая фигура вице-канцлера Шафирова. Он протискивался в глобус боком, хотя такой маневр был просто бессмысленным – Шафиров был округло толст. Под хохот царя и всей компании он почти вкатил себя в смрадную от вина и табака сферу глобуса и с одышкой стал говорить, что припозднился вовсе не потому, что ему сюда не хотелось, а дела задержали. Прибыл наконец-то к Москве хивинский посланник, распорядиться надо по части доставки его в Петербург… Но Шафирова никто не слушал.
– Посольский к посольскому двигайся! – зазывал его к себе поближе Толстой, тесня других и освобождая местечко для Шафирова. Но Петр сам решил, где усадить вице-канцлера:
– Пусть сват со сватом потесней сойдутся. Нечасто рядом сидят. И тут же расчистилось место подле Гагарина. Князь вздохнул посвободней, но только до того, как Шафиров оказался рядом. Он вклинился в застольный круг, и теперь уже никто не мог в него втиснуться, не выдавив кого-то из этого живого кольца царедворцев. Опоздавший потянулся к бокалу, но Петр поднял палец, крутнул головой и полуспросил:
– Большого орла?
– Большого! Большого! Он, пока на султановых харчах сидел, наш обычай потерял! Орла ему! – приговорила компания.
Пауза не затянулась – тут же из дворца спроворили огромный кубок, и Шафирову налили штрафную. И, даже когда он запрокинул голову, доливая в рот остатнее вино, никто не видел, есть ли у него под складками жира хотя бы намек на кадык, волнистая от складок кожа колыхнулась и замерла при последнем глотке.
– Виват посольским! – сказал Петр, любуясь проворным вельможей, которого он подобрал некогда в торговом московском переулке и возвысил. – А тебе, видать, сидение в Туретчине, в тюрьме ихней, на пользу не пошло. И там тебе похудеть не посчастливилось!
– Да ведь уже сколько миновало, как я с тюремным харчем распрощался. И все ж не зря отсиживались мы с Толстым в заложниках. Мы, государь, пересидели-таки Карлуса.
Петр мгновенно напрягся:
– Есть известия о короле?
– Особых нет, государь. Кроме одной, коей нескоро состариться. Высидели мы свое. И, как того добивались, только без нашего конвою, Карл убрался из Порты[3]. В том меня великий визирь уверил, а я всех тут уверяю.
– Ты расскажи, расскажи, не всем сия история известна, – подбодрил царь Шафирова. – Расскажи, как турки из шведского короля калабалык сделали.
Матвей Петрович еще не успел войти во все столичные новости. Он знал, что с Турцией наконец-то заключен мир, но ему еще никто не рассказал, что до замиренья пришлось Петровым дипломатам Толстому и Шафирову отсидеть заложниками пять месяцев в стамбульской тюрьме. И хотя условия мира, подписанные в Андрианополе, были оскорбительно яремными – Россия потеряла Азов, считай, Черное море потеряла! – никто в Петербурге вслед за царем не считал это проигрышем, поскольку война снова становилась только Северной. Уверенность, что теперь противник только один и вдобавок противник этот бит под Полтавой, под Лесной, под Калишем – швед, – бросала такая уверенность свой отблеск и на поощрительно-веселый тон, с которым царь позволил Шафирову: «Расскажи…»
– На четвертый год гостеванья в Порте, – начал, приосанясь, Шафиров, – после того, ваше величество, как не удалось нашим драгунам достичь Карлуса у переправы на Днепре, кончилось для шведского потентата почестное ество и питье. И турки уже не чаяли, и крымское татаровье голову ломало, как стряхнуть с шеи северного владыку. Крымчак Девлет-Гирей удумал свейского короля выслать домой через Польшу, а там, будто бы по недосмотру, сдать его полякам. Но Карлус сей подвох разгадал. В дело вступил сам султан. Приказал отправить свейского высочайшего гостя из Бендер в Салоники на корабле, чтоб его к дому морем доставлять. Приказал султан, коли будет гость оказывать противность, то силой на корабль доставить. Указ султана есть, а казуса, с которым к гостю прилично подступиться, не хватает. И тут паша бендерский нашелся. Посылает к Карлусу своего конюшего. Передать – надобно в путь готовиться. Конюший, да еще бендерского паши, он же к европейскому политесу не привычен. Пришедши к Карлусу, обнажил саблю и объявил ультиматум: «Собирайся!» Для короля такое обхождение ни дать ни взять – афронт. Как же! К лучшему и первому в мире солдату некий конюший с саблей приступил! Карлус – шпагу наголо и кончил конюшего. Янычары взбеленились и приступом на дворец, где король со своей свитой. А там уже изготовились, пока случилось у паши замешательство. И транжементом двор окружили, и мортирки, какие при седлах случились, выставили. Отбили бендерских янычар…
Шафиров, рассказывая, смотрел только на царя, заранее зная, что все глядят на него, на Шафирова, поскольку Петр, похохатывая, любовался рассказчиком. Но Шафирову как бы не хватало некоего живья в подробностях сражения Карла с янычарами.
– Петр Андреевич! – обернулся с трудом он к Толстому, с которым они совсем недавно сидели в стамбульском Семибашенном замке. – Ведь помнишь, нам английский посланник сказывал, что султан пожаловал свейскому королю несколько жеребцов из Арабии. Какие это были скакуны!.. И был среди них белый, для предбудущего вступления короля шведов в Москву. Так что ты думаешь? Тех лошадей чистокровных Карлус велел забить. Пошла вся парадная животина на солонину. Оборону собирался король держать нешуточную, провиантом запасался. И поелику вошел в кураж, то это сражение в Бендерах затянулось. Янычары к нему подступятся, хотят взять живым, но чтоб повреждения ему не доставить. Ни даже волоска оборонить не велено. Видно, плохо у султана с аккуратными янычарами. То один сабелькой махнул и у короля отсек мочку уха, то пальчика владыка шведской на руке недосчитал, а то и вовсе попался неуважительный какой-то янычарище – кончик носа королю отсек. Нос укоротили, а совсем повязать короля способа нету. Исхитрились, загнали его с остатками сотни во дворец.
Выдержав паузу – было даже слышно, как потрескивает свечной фитиль, как воск плавится, Шафиров продолжил:
– Слышал я, закон магометанский не позволяет туркам рыбой баловаться. Рыбаки они, можно думать, неважные. Но в Бендерах во дворце изловчились. Запалили дворец, в суматохе набросили на Карлуса рыбачью сеть и так в сети, подвесив на шест, до самого Андрианополя и везли. Об этом и сказывал нам визирь великий: калабалык из Бендер прибыл к султанскому двору.
Гагарин хотел было спросить, что же сталось с королем в Андрианополе, но Петр перебил и того, и другого:
– Отсель гистория пойдет для нас не больно веселая. В Бендерах турки рыбину изловили изрядную. А вот куда они ее выпустили, в каких она водах ныне обретается и где выныривает, о том меня в известность никто не привел.
Благодушие, витавшее вокруг царя и своим краешком коснувшееся Шафирова, стало рассеиваться.
– Что короля швецкого в Порте нет, в том можно доверять словам визиря. Карл туркам теперь в обузу, он им теперь без надобности. Они свое, да не свое, а наше у нас взяли. Нам не с Портой сейчас воевать, а с Карлом, где б он ни объявился. И всем вам ведомо, господа, что денежная казна наша худа. Ты, князь Матвей Петрович, платил ли штраф за недоимки по своей губернии?
– Тыщу рублев, – понуро ответил Гагарин.
– И Апраксин в свое время за Казанскую, и другие губернаторы тож поплатились штрафами. А полного денежного сбору нет! Недоимка до того казну довела, что снова нам приспело портить серебряные монеты, половинить их и медные деньги поднимать в цене.
Петр пошарил в кармашке и достал серебряный рубль-новодел:
– Вы думаете, голландцы или соседственные им государства сами серебро копают? Они его везут из Нового Света – из мексиканских рудников. Сей куриозный рублевик я ношу уже лет восемь и сколько еще носить буду для показа нашим казначеям, монетчикам и рудокопам – то Бог ведает. Доколе из-под воинской моей амуниции, из-под российской брони будет торчать цивильный воротник иноземного правителя? – С этими словами царь кинул рубль на середину стола. – Всем показываю, чтоб помнили! На рубле, то бишь на талере, оттиснута моя персона. Да наши чеканные мастеры талер заморский так перечеканили, что от прежнего герба эрцгерцога Тирольского на мою грудь пересел его двуглавый орел и все сие окружено австрийскими гербами. Да воротник монашеский из-под латы высовывается… Такого одеяния я отродясь не нашивал. Как же с таким куриозом торговлю строить? Нужно свой «рубль заводить», пуще воздуху нужно! Хватит уж российский герб перетаскивать на чужие талеры да левки… Душно здесь. Засиделись мы, друзья мои, под этими небесами. Хоть и красно сфера небесная расписана, да пора на наше санкт-петербургское небо взглянуть, сойдем на землю.
Царедворцы выбрались наружу, осоловелые не столько от вина, сколько от спертости табачного духа, в котором они провели несколько часов кряду. Царь задержался у глобуса, еще и еще осматривая его пятнистое тело, схваченное бронзовыми обручами, изображающими меридианы и параллели. В предутренних сумерках бронза, покрытая серебристой мелкой росой, была отчетливо видна на фоне охристой суши. Один из меридианов пересекал Сибирь почти вдоль Каменного пояса. Там же крепился шарнир двери, ведущей внутрь глобуса.
– Гляди-ко, князь Гагарин! Мастер будто для тебя дверь в земли сибирские прорезал. В самую Азию дверь! Ты подумай, тут какая-нибудь да зарыта собака! – заржал самодовольно царь. – Подойди, подойди, князь. Покажи как хозяин губернии, где она у тебя кончается? Не покажешь! Потому краю ей еще нету: ни на север, ни к востоку, ни к полудню…
Не смея откланяться и уйти, вельможи толпились рядом, рассматривая то место на глобусе, где Азия должна была срастись с Америкой. Но утро в Санкт-Петербурге еще не налилось полным светом, в сумеречной мгле терялся край Сибири, врезаясь, словно зубом неведомого зверя, Камчатским полуостровом в темень океана. Там, где стоял Петр, прямо напротив его задранной головы, видно было кругловатое пятно Хвалынского моря[4], а из загадочно мерцавшей Индии, неведомой и всего лишь означенной надписью, текли на север, пересекая всю Сибирь, разветвленные в верховьях реки.
– Рублевик я при тебе не зря доставал, князь, – сказал на прощание Петр. – Приготовь мне отписку по Нерчинску. Хочу доподлинно знать, сколь от тебя каждогодно серебра ожидать можно, сколь всего добыл. Подашь листы Макарову. Сроку тебе – день!
Гагарин молча поклонился.
Едва царь ушел, компания тотчас распалась.
Ни будущий сват Гагарина, ни даже его настоящий сват Головкин не полюбопытствовали, где Матвей Петрович будет коротать остатки ночи. А может быть, заметив, что поближе к нему держится светлейший, поспешили оставить их вдвоем. Оказавшись рядом, они выглядели странно – высокий, огрузший Меншиков и приземистый, проворно шагающий рядом Гагарин. Видно, что-то их равняло и объединяло в сегодняшнем положении. Может быть, не очень расположительный тон царя, когда он в самом начале беседы осадил светлейшего, а Гагарина весь вечер попрекал нескладными делами сибирскими. Так или иначе, но, оставшись наедине и коротко перемолвившись, Меншиков с Гагариным спустились к Неве. Александр Данилыч мокрым ботфортом растолкал дремавшего на бревенчатом причале шкипера и спрыгнул в небольшую галеру. Гагарин с ухваткой сухопутного человека сполз следом и, когда уже входил под сень каютки, услышал, как Меншиков рыкнул на шкипера: «На какой – на мой! Домой, да не на мой, а на Васильевский!..» Матвей Петрович тихо пристроился в углу каюты, привалясь к стенке, обитой мягкой камкой, и стал исподтишка наблюдать за Меншиковым. Гагарину невдомек было, почему у некогда бесшабашного и всегда беспечального любимчика Петра нынче такой поникший вид. А угрюмство имело свои причины, и немалые. Поборы мирных жителей в Польше, учиненные Меншиковым, и последовавшее за тем предупреждение Петра: не терять «славы и кредиту»! – все это едва ли оставило на челе Данилыча хотя бы морщинку заботы. Польша была всего лишь походным эпизодом в судьбе этого ненасытного поборщика, о покупке графских и княжеских достоинств которому хлопотали в доброхотные дни русские дипломаты в Вене, а то и сам царь просил австрийского императора удостоить Меншикова, за изрядную мзду, дипломом князя Священной Римской империи. Польский случай Данилыч прикрыл воинской необходимостью. Но вот скверного управления Санкт-Петербургской губернией оправдать было нечем. Среди чиновников Ингерманладской канцелярии[5] заскользил, завился неслабеющей поземкой слушок: как бы не сместили наместника ингерманландского, то бишь Данилыча. Пухнут от награбленных денег его подручные в той земле, а казенные доходы губернии в горсти к столице приносят. Буря еще не грянула, но светлейший лакейским чутьем проник – долго ждать не придется. Сегодня царь вроде бы ни с того ни с сего объявил ему днем: отбирает он своей волей подаренный Меншикову Васильевский остров. А светлейший уже третий год кряду, переправляясь через Неву, привык командовать шкиперу: «Греби на мой остров! На Меншиков!» А теперь на Васильев? Да и кто такой Василий? Офицеришко бомбардирской роты, отличился, отбивая шведский десант, и за это острову – его имя? «Эк его повернуло! – про себя с досадой воскликнул Меншиков, вспоминая слова царя о Васильевском. – Выходит, моим остров был на время. Попользовался – верни? Вот тебе и кредит царский!»
Уже и дорогу сквозь густой орешник не нужно было освещать, и вовсе рассвело, когда Меншиков и Гагарин подходили к деревянному дворцу светлейшего, одиноко стоящему среди просторной луговины, окаймленной дикой порослью. Данилыч в передней шарахнул по двери маршалка своего тростью и рявкнул:
– Водки! – Протаранил створчатые двери гостиной и, падая в кресло, забурчал: – Надоело мне в компании подканцлера распивать эрмитажное. Глаза б мои твоего сватушку не видели. Что, уж совсем решено – сговор был и рукобитье? Так женишь ты или нет своего Алешку на шафировой толстухе? – спросил он Гагарина.
– Сговор был, – ответил Гагарин, внешне сумрачный.
– Все одно милей государю не станешь.
– Не для того женитьба.
– Как же! Поверил я. Ты же видишь, как вьется-стелется перед Петром Алексеичем Шафиров. И он, государь наш, больно полюбил его. За мир с Портой. Да не Шафирова там заслуга – Толстой умом проявился. Ты верно сведущ, что не велено нам говоренного в Сенате до времени разглашать. Да все равно скоро известно станет, орден Шафирову повесят за подвиги турецкие. Азов потеряли, а Шафирову – орден!
– Все ж заслуга-то есть… – попытался слабо защитить будущего родственника Гагарин.
– Заслуга? А ты не помнишь, сколь соболей и рублей серебром стравливают наши послы, коли штыком да саблей дело не могем сделать? Сколько мягкой рухляди через твои руки в Посольский приказ перетекло, пока ты на Москве сидел губернатором. И куда все? На подношения. Вот и цена любви. Ежели сумеешь укупить государскою казной супротивника – тебе за это последует любовь царская. А она коротка, ой коротка…
Меншиков все прикладывался и прикладывался к сулейке, даже не глядя на пододвигаемую слугой закуску, вовсе не обращая внимания на то, что пьет один, а Гагарин только слушает его да поддакивает или вяло отнекивается.
– И что я стал примечать. Небеспредельна любовь государя. Она у него, как тот глобус, где мы сегодня аудиенцию имели. Вмещается в ту любовь точию столь, сколь предусмотрел тот, кто эту пустую землю в обручах состроил. И любовь у человеков та же. Человек – сосуд скудельный, в пустоту его всего мира не вместишь. Кто бы и хотел попасть внутрь – нету уж места. Кого-то вышвыривать из сердечного сосуда надобно, чтоб на место выкидыша новый поместился. Вспомни-ка, князь Матвей, кто до тебя в Сибирском приказе главенствовал? Лучший советчик государя – Андрюшка Виниус. А как он усидеть хотел в приказе, как цеплялся! А уж такой непременный был. И Пушкарским приказом и Аптекарским – всем ведал. И Сибирский упустить жаль. А мы его – чик! – Меншиков попытался было показать, как он саблей достает воображаемого Виниуса, но сделал это излишне резко. Тяжело кувыркнувшись, Меншиков уткнулся в ножку кресла под Гагариным и оттуда договорил: – А мы его – чик-чик! Петру Алексеичу – чик! Нас хотят виниусы укупить. Да, вернейший Виниус…
Светлейший поднял голову и, глядя останавливающимися глазами на Гагарина, еле провернул сквозь плач язык:
– А нам с этого «чик-чик» что? Государевой любви больше.
– Ну так что ж, что укупить. Это все тебе в почесть! От чистого нрава. Андрей Андреич, слова про него худого не скажу, был душевный человек. Он ведь меня спас, ты это знаешь, он меня в Енисейске из-под сыска вызволил.
– Укупить? – завопил припадочно Меншиков. – Да кто ж так укупает?! Кто за такое место – голова Сибирского приказа – дает всего десять тысяч! Издеватель. Он такой ничтожной суммой, такой малостью меня и привел в обиду. И ты его не возвышай! Ты с ним дружелюбство имел, а кто о тебе в столице радел? Кто?
– Так ведь он же меня и взял к Москве из-под стражи в Енисейском. Своей волей и взял. Полно тебе, Александр Данилыч, – попытался успокоить Гагарин издрызганного водкой, обидой и плачем Меншикова. – Что Виниус? Его уж и нету…
– Тебя, Матвейка, кто из грязи в князи вернул? Теперь ты князь, и я князь! Кто тебя главным судьей в Сибирском приказе выставил? От кого ты дружеского сикурсу дождался?! То-то же. Не Виниус тебя воздвиг на такое высокое поприще. Ты бы, может, и по сей день сновал челноком из Москвы в Преображенское, Ромодановскому бы цидулки подьяческие важивал. Он-то, князь-кесарь, тоже не больно хотел приказ Сибирский из-под себя выпускать. Да он такого ломтя ни в жизнь бы не отдал по доброй воле. Надо было к тому Петра Алексеича склонить. А кто склонил? И почему к твоей персоне все склонилось?
– Данилыч! Помилуй! Да ведь и я в долгу не остался. А только Виниус…
– Что тебе сегодня въехал в башку этот Виниус! – снова взъярился светлейший.
Одно упоминание имени Виниуса вызывало в Меншикове какой-то звериный протест. Попервоначалу Гагарин принял это за некую маскировку. Он знал еще по Москве, как умеет наседать на свою очередную жертву петровский слуга. Ошеломив намеченную фигуру потоком вопросов, Данилыч умел возвыситься над ней, а уж потом, взорлив, принимался выжимать из жертвы все, что пожелает. О, это искусство – доить зависимого человечка! Меншиков не доил кого попало, а выбирал провинившегося боярина, прикрывал его своим крылом от гнева Петра, постепенно выводил благодарную жертву на доходную должность, а уж когда защищенный и спасенный светлейшим комиссар[6] или откупщик начинал набухать деньгой, тогда-то и возникал рядом Меншиков и принимался трясти его с усердием благодетеля. Когда-то виноватый и спасенный редко оказывался неблагодарным. Так было и в первый приезд Гагарина в Петербург в 1710 году, когда, канюча и сетуя на безденежье, Меншиков пожалился: государь велит строить в новой столице хоромы, а где денег взять? Дворец обойдется в немалый кошт. Тогда Гагарин в очередной раз раскошелился. Но что-то сегодняшнее поведение наместника Ингерманландии не походило на его обычные обхаживания. Матвей Петрович еще не видел светлейшего таким поблекшим и разбитым. Что-то, видно, стряслось здесь, в столице, за то время, пока Гагарин сидел в Сибири, коли нынче вдребезги пьяный Меншиков плачет о царевой любви, как об уходящей красавице, да еще и не выдает, даром что пьян, истинной причины расстройства, а все укрывается за гневом на давно выпавшего из царского круга Виниуса.
Слуга сунулся было к Меншикову с уговорами отдохнуть, но тот и слушать не хотел. Весь день то принимался снова пить, то погружался в полубред, но едва Гагарин пытался уйти, он тут же вскидывал бровь и взглядом вдавливал сибирского губернатора в кресло. Гагарин уж и на надобность явиться к Макарову ссылался, но светлейший потребовал:
– Будешь при мне! Я тебе чем не Макаров? Даже лучше Макарова. Со мной к Бахусу вход без доклада!
К вечеру набрякший водкой Меншиков, покрытый густой испариной, попытался встать, потянулся за тростью, но внезапно побледнел и рухнул на ковер. Его хотели унести на постель, но у светлейшего горлом хлынула кровь. В суматохе домочадцы не сразу сообразили послать за лекарем. А когда доктора доставили с того берега Невы, Александр Данилыч уже не подавал признаков сознания. Лекарь стал считать пульс. Он трижды перевернул часы-минутники, прежде чем сказал:
– Кровь отворить надобно. Либо за пиявками послать придется.
Гагарин все время неотступно был при Меншикове. Оставить его в таком положении – бог избавь! Потом ни царь, ни Катерина Алексеевна не простят. Когда лекарь принялся пускать кровь, Гагарин подумал: «За пиявками зря не послал. Я хотел бы посмотреть, как они будут сосать кровь из этой государевой пьявицы… – Но тут же осенил себя крестом: – Свят, свят… Что это я так нехорошо о благодетеле своем? Не хотел, Данилыч, прости. Бес мне накинул морок на разум…»
Протолкавшись до утра среди притихшей прислуги и домочадцев светлейшего, время от времени пуская слезу и украдкой подремывая, Гагарин на следующий день вышел из меншиковских хором к Неве. И не свежий ветер согнал с лица Матвея Петровича несказанное огорчение по поводу болезни Меншикова, а им произнесенные и засевшие в мозгу слова: «Ты князь, и я князь…», вызвавшие в Гагарине необоримую внутреннюю ярость: «Известно всей подлой Москве, всем подворотням кокуйским, каков ты князь!»
Гагарин не кичился своим княжеским происхождением. Родовитая кровь сама себя оберегает. Чего и выказывать себя, коли он, Матвей Гагарин, по наследному праву еще с младых ногтей был пожалован в государевы стольники. Безродных в такую почесть не записывают.
Кто знает, может быть, представитель двадцать пятого колена рода Гагариных уже и не помнил, что родословная их идет от Всеволода Большое Гнездо. Вряд ли он помнил и об Иване Всеволодовиче Стародубском, поставившем на крыло такие известные на Руси княжеские фамилии, как Палецкие, Пожарские, Хилковы, Ряполовские, Татевы, Ромодановские. Прозвище Гагара получил князь Михайло Иванович Стародубский-Голибесовский. Этот первый Гагара был уже семнадцатым от Рюрика коленом. Вот этого – колено от Рюрика! – на Руси никто из князей не забывал.
Наследники первого Гагары в истории московской, памятной потомкам, особой славы не стяжали, но и незаметными не остались. В Смутное время Роман Иванович Гагара был ближайшим сподвижником князя Пожарского. Данило Григорьевич Гагара, по прозванию Короб, имел свое слово при избрании царя Михаила Федоровича, а затем воеводствовал в Пскове. С этим городом предки Матвея Петровича имели самую прямую связь. Тут нельзя не вспомнить судьбу Афанасия Федоровича Гагарина – деда сибирского губернатора. В молодости он с Борисом Годуновым ходил на Серпухов, воеводствовал на пару с князем Григорием Ромодановским в Кашире, а через пять лет оказался товарищем[7] воеводы в Пскове. Это время для Псковского края отмечено очередным шведским нашествием.
Вместе с воеводой псковским Федором Леонтичем Бутурлиным Афанасий Гагарин устроил оборону города, и Псков выстоял. Успешное сидение против шведов, сохранившее крепость, было отмечено царем, но тут вышла заминка, показавшая, что князья Гагарины цену себе знают. Посланники царя Московского привезли воеводе и его товарищу пожалованные государем рубли. Царский золотой Афанасий Гагарин отверг, поскольку точно такой же рубль был уже вручен Бутурлину. Вторым Афанасий Гагарин быть не пожелал. Кто знает, это ли стремление не быть вторым сделало свое или сыграло роль то, что непринятый рубль вернулся к царю, но только вскорости после псковского сидения Афанасий Гагарин сменил калужского воеводу Дмитрия Пожарского. В такой чести он проходил всего три года и удостоился иной. Можно бы назвать ее и не такой уж высокой, да место, куда всегда устремлялись люди честолюбивые, было высоким. В 1622 году Афанасий служил объезжим головой в Кремле для береженья от огня. Главным кремлевским пожарником он послужил недолго. С 1623 года начинается сибирский отрезок истории того рода Гагариных, продолжателем которого и являлся Матвей Петрович. Дед его, Афанасий, сел томским воеводой после «береженья Кремля от огня». Хотел ли он быть в Сибири или не хотел – это сегодня неведомо. В Сибирь за отличие и в награду не посылали никогда. Афанасий до отъезда в Томск успел похлопотать за сына Петра, и того определили в государевы стольники. Без доброй славы кончил свой век в Томске Афанасий. Посадский староста подал на него челобитную, обвинил в том, что, и года не прослужив, Гагарин присвоил весь пятинный хлеб[8] и ссыпал его в свои житницы. На этом и обрываются сведения о горделивом князе. А сын его, Петр, особой гордостью не отличался, довольствовался должностью стряпчего, но с возрастом княжеский гонор взял свое, и он попросился воеводой в Нарым. Тянет по каким-то причинам Гагариных в Сибирь. Как будто они для того и живут, чтобы, пообретавшись в молодые годы при дворе и насобачившись к матерому возрасту царедворским премудростям, уехать потом в Сибирь. Но, прежде чем лечь в тяжкий сибирский суглинок, Гагарины вдали от царева ока навластвуются вдосталь. Петр Афанасьевич помер воеводой в Березове в 1670 году.
Но на этих двух представителях фамилии Гагариных сибирский свет не сходился клином.
Осматривая Тобольск в 1711 году, первый сибирский губернатор – князь Матвей Петрович Гагарин – мог еще услышать отголоски того, как в Тобольске воеводствовал во времена Годунова Григорий Иванович Гагарин. Тоболяки еще могли рассказать кое-что о том, как правили городом в середине века Иван Семенович Гагарин-Ветчинка и его сын Иван Иванович. Недолго воеводствовали, но это не редкость. Посаженные в тот или иной город на год-два воеводы тасовались, как карты. Видя в такой перетасовке охранительную от мздоимства меру, государев двор воспитал целое племя кочевавших по Сибири очень вертких воров, успевавших и за год так украсить рыльце пушком, что лика человеческого уже и не проглядывало. Множество Гагариных помнит Сибирь на своем веку. Но Матвей Петрович памятен особо. Даже на фоне тех двадцати семи князей Гагариных, что в конце семнадцатого века владели в России наследными имениями. Однако же на том доме, где в 1699 году находился Матвей Петрович, не красовалось его родового герба – большого щита, поделенного на четыре разноцветные части, где, по законам геральдики, размещалась рука со шпагою, красная крепость, медведь и дуб в серебряном поле как память о Стародубском, знаменитом основателе рода. И княжеской шапки, коей на гербе был покрыт малый центральный щиток с дубом на золотом поле, не было в том году на голове князя Матвея Гагарина, поскольку пребывал он в Енисейской острожной тюрьме. Опростоволосил перед Сибирью Гагарина посланец Петра думный дьяк Данило Полянский. Это он вызвал нерчинского воеводу Матвея Петровича Гагарина в Енисейск и учинил над ним розыск, который тянулся не один год.
Он не любил вспоминать своего нерчинского воеводства. Были на то свои причины. Но царь Петр затребовал отписку о Нерчинском серебре, и это вызвало в памяти лицо Романа Алмазника… Роман уже полгода как вернулся в Нерчинск из Китая. Он доставил нерчинскому воеводе заказанные серебряные вещицы, драгоценные камни и среди них прекрасный лал[9], да жемчугу привез – зерно к зерну. Скатный! На два ста рублей товару. А воевода все тянет, не отдает денег. Каменья и жемчуг, сверкнув, исчезли в кармане князя, а через несколько дней на Алмазника вместо денег посыпались угрозы: по какому праву торг заповедным товаром ведешь?! Будешь на площади глотку драть – сведут тебя к таможенному голове, там не откупишься. Гнев князя неподделен, неслучайные свидетели гнева прячут головы в воротники и отворачиваются. Но укоризна на лице Алмазника не проходит. Алмазник исчезает из Нерчинска, а Гагарину известно – он уже в Иркутске, ожидает возвратного каравана из Китая, чтобы податься к Москве…
Матвей Петрович вышел из лодки у Петропавловской крепости, и в мозгу шевельнулся петровский вопрос: «Сколько ждать серебра?..» Подумалось: «Знать, сколь ждать каждогодно я не могу. Тут без дьяков своих приказных я ничего не ведаю. Да ведь не скажешь Петру Лексеичу: а дьяк его знает. Мог бы выручить Ивашка Чепелев. Он с моих слов слал письма в Томск, чтоб оттуда перевели в Нерчинск для плавки серебра требуемых мастеров. Ему, Чепелеву, все потом ведомо было – книги приказные в его руках».
«Сколько ждать серебра?» – этот вопрос преследует его снова уже на пороге сенатского здания, и он должен ответствовать перед Макаровым, но отвечать не готов. Понурый вид Матвея Петровича встречные принимают за переживание по случаю припадка, случившегося с князем Меншиковым, все расспрашивают – ведь рядом со светлейшим был. Рассеянно отвечая, Гагарин наконец изворотливо озаряется – припадок все покроет.
И когда Матвей Петрович переступил порог кабинета Макарова, слезы едва не брызнули из его глаз.
Кабинет-секретарь встретил Гагарина внешне бесстрастно, но, однако же, выдержав приличествующую паузу, потревожился:
– Совсем плох Александр Данилыч?
– Не спрашивай, благодетель мой. Плох так, что хуже и подумать грех.
– Лекарь при нем?
– Неотступно. И я рядом неотступно, да вот Петр Лексеич велел мне быть к тебе еще вчерашний день. Потому и покинул…
Макаров отодвинул в сторону толстые конверты с множеством печатей – депеши от русских посланников за границей, какие-то листки челобитных на имя царя, длинные ведомости с соляных копей и прочие бумаги. И замер над чистым столом. К светлейшему Макаров не мог быть безучастным.
Десять лет назад он начал писарем в Ижорской канцелярии, коей в то время ведал обласканный царем Меншиков. В решительной мере нынешний кабинет-секретарь царя своим восхождением к такой должности был обязан не чему иному, как трудолюбию и сдержанности. Он как бы утихомиривал своей бесстрастностью и аккуратностью кипящий вокруг Петра водоворот реляций, депеш и прошений, давая всякой бумаге нужный ход в нужное время. Но ведь и началом своей карьеры он был обязан Меншикову.
– Ради Александра Данилыча государь не взыщет за опоздание. Ему сейчас, поди-ка, не до твоей отписки.
– Ты уж, мой благодетель, не прогневайся. Я и отписки подать не могу, понеже бумаг и книг записных с собой не привез. Все в Тобольском, а на память – как наугад…
В этом и я тебе, Матвей Петрович, не слуга. Твои записки – тебе и отвечать. Правда, помню, был указ послать в Нерчинск грека Семена Григорьева с плавильщиками для рудного промыслу, а обретавшегося там мастера Левандиана к себе, на артиллерийский двор в Москве, испрашивал у государя блаженной памяти царевич Имеретинский. Да ведь и Петр Алексеич об этом не забыл. Немного у нас греков-рудоплавильщиков, все наперечет.
Пока говорил Макаров, сибирский губернатор уцепился за спасительную мысль: не надо вовсе подавать никакой отписки. И сказал об этом вслух:
– Милостивец мой, Алексей Васильевич! А можешь ты доложить его величеству: Гагарин-де, раб грешный, явился, но никаких ведомостей не подал?
Такой поворот для Макарова был неожиданным. Крутые дуги его бровей стали еще круче. Губернатор на гнев царский нарывается.
– Ты, мой благодетель, усмотри случай, – продолжил Гагарин, – как будет Петр Алексеич пребывать в благодушестве, и скажи мне. Сам понимаешь, говорить надо не прилюдно. Чай, не праздновать к нему пойду. Усмотри случай да передай мою просьбишку. И чтоб поспеть до отхода его величества в море.
– Смотри, Матвей Петрович, – испытующе глянул Макаров на Гагарина, ставшего как будто еще меньше ростом. – Смотри, тебе ответ держать. Будет подходящий день – извещу.
– Пожалуй, мой благодетель, пожалуй. Не оставь вниманием… – глубоко вздыхая, произнес Гагарин, чувствуя, что Макаров искренне готов помочь ему. А коли так, то поможет непременно.
Кабинет-секретарь уже было приготовился заняться своим делом, как Гагарин снова заговорил:
– Да ведь все из-за сына, из-за Алешки. Возрос – делу пора обучать. Что он при мне там в Сибири увидит? Наукам бы его каким обучить. Что бы посоветовал? Пошлет его Петр Лексеич навигацкому делу али гамбургскому счету учиться? А может, и по слюзному делу пойдет?
– Выбирай что-нибудь одно. Государь гадать не любит. Да и зачем ты заторопился сына в иные земли посылать? Он женится, а ты его – за море!
– Так ненадолго. Года на два. Подождет молодая жена.
– Да я вижу, свадьба расстраивается?
– Упаси боже! – воскликнул Гагарин, зная, что Макаров дружен с его будущим сватом Шафировым. – К свадьбе дело ладно катится.
Когда дверь за губернатором сибирским закрылась, Макаров подошел к окну и посмотрел Гагарину вслед. Неожиданно тот обернулся, и Макаров удивился перемене в его лице. Только что перед кабинет-секретарем стоял и говорил привычный челобитчик, хоть и высокого званья. И на лице его, опухшем и красном после двух бессонных ночей, проведенных подле чахоточного Меншикова, была написана такая скорбь и забота, что невозможно было Гагарину не посочувствовать. А через несколько минут это уже был кряжистый, прочно ступающий по весенней грязи мужик властного и злого взгляда; ветер взбодрил и расправил его обвислые усы, оголил лоб, взрезанный морщинами. Оглядываясь, Гагарин едко ухмыльнулся чему-то и направился к Неве.
Макаров вернулся к делам и вспомнил: он до прихода Гагарина читал доношение посла из Дании о том, что вскорости морем в Санкт-Петербург прибудет труппа актеров парижской выучки. «Напрасно его величество выписывает из Парижа лицедеев, – подумал Макаров. – Тут и свои имеются. Такой феатр устроить можно… одни сиятельства будут на подмостках».
Матвей Петрович вышел к набережной. На Неве в полуденный час было многолюдно: возчики понукали лошадей, с трудом подворачивая по непролазной грязи к берегу, с телег работный народ сгружал хворост, и тут же артельщики готовили из него фашинник, закрепляя им откос, поднимая берег повыше. Там, где земляная насыпь поднималась над водой выше сажени, на берег мастеровые разгружали прямо с барж каменные глыбы. Доставленные издалека, многопудовые ноздреватые каменья с хрустом утопали в хворостяном ложе, вминаясь в чужеродную, тоже привезенную почву, которой отныне суждено было стать на веки вечные основой столичного берега. Гомона мастеровых и приказчиков не слышно было только у деревянного дома царя – там сход к реке был уже вымощен, и теперь полоса каменной наброски двигалась вниз по береговому урезу, в сторону крепости. Матвею Петровичу захотелось, хотя бы ненадолго, уединиться, но он не пошел к цареву домику, бегло окинул взглядом пустынный противоположный берег, где виднелись приземистые пеньковые амбары, скользнул взглядом в сторону стрелки Васильевского острова – там был едва виден дворец Меншикова, розовым плоским пятном он выделялся над низким серым берегом. «Там и без меня обойдутся», – подумал Гагарин и повернул к Троицкой площади, где вовсю кипела городская сутолока. У недавно отстроенного огромного трактира «Австерия» толпились новоявленные петербургские жители – ярославские, тверские, нижегородские и московские купцы вперемешку с редкими заморскими торговцами. Чуть поодаль обрастал чешуей черепицы новый Гостиный двор. Рядом с новостроем и стояла Троицкая деревянная церковь, невысокая, поставленная без особых затей, откровенно на время – абы как, лишь бы лоб перекрестить. Глядя на людскую сутолоку у «Австерии», Гагарин подумал: «От этого сраму можно только у Христа за пазухой спрятаться…» Но в церковь не вошел, а, перекрестясь, направился к своему дому.
Петербургский дом Гагарина стоял на улице, которую в народе все чаще называли Дворянской, поскольку располагалась она почти на окраине Петербургского острова, вблизи от первого домика царя, и жили на ней люди из царского ближнего окружения. Хоть и звалась улица Дворянской, вид ее по сравнению с родовитыми московскими улицами был вовсе не столичный. Невысокие домишки, похожие друг на друга, которых еще не коснулась печать обжитости, были разбросаны довольно просторно, а попросту как попало, и улица едва угадывалась. И хотя меж домов был простор скоту и птице, но уже окружились дома оградами, а усадьбу канцлера Головкина и подканцлера Шафирова разделяли высокие рогатки.
«Бог послал родственничков. Они же видеть друг друга не могут. А как мне с ними ладить? С каждым по отдельности родниться-сватоваться? Ну, ладно. Скуп Головкин, но и его я приданым доченьки моей отогрел. Шафирову самому надо подумать о приданом своей девице – тут мне голову не ломать, а брать в дом, какую выдадут. Приданым за ней будет государево расположение к Шафирову. Таким добром не всякий богат», – подумал Матвей Петрович, подходя к своему дому. Подошел и хохотнул: «И это дом губернатора Сибири! Да разве эту мазанку сравнить с моим тобольским дворцом, а тем паче с московскими хоромами?» Приземистости длинного строения о четырнадцати окнах, глядевших в сторону Невы, не скрашивал даже высокий мезонин, глядевшийся какой-то голубятней.
Московскому дому Гагарина на Тверской завидовал не один петровский вельможа. Красавец-особняк возвышался над построенными еще при Алексее Михайловиче усадьбами князей Троекуровых, Урусовых, Ромодановских, а уж что говорить о домишках каких-то окольничих или стряпчих. Дом строился, когда Матвей Петрович назывался генерал-президентом и губернатором Московским. В этом доме ели и пили с серебра, и благодаря множеству гостей московская молва разносила восхищения: каким пламенеющим шелком китайским и двоеморховым бархатом голландским обиты стены в столовой, как сияют перламутром стены, украшенные сплошь жемчужными раковинами и заморскими зеркалами. Не один московский разиня застывал перед домом, вглядываясь в окна, как будто надеялся разглядеть: а и вправду ли на потолках гагаринских хором в воде, чудным образом пущенной на крышу, плавают живые рыбы?.. А те, кому доводилось заглянуть в спальню губернатора московского, крестились, не столько пораженные видом изображенного на иконах, сколько ослепленные блеском бриллиантов, рассыпанных точной рукой ювелира по золоченым окладам. И над всем разгулом роскоши в парадной зале дворца, почти у потолка, украшенного «бегами небесными», златобуквенно красовался девиз: «Зрением и потребством вещей человек веселится».
Петербургский домишко, как называл его Матвей Петрович, князь вынужден был поставить в 1710 году, когда Петр затребовал Гагарина из Москвы с деньгами, собранными по губерниям на строительство новой столицы. И иные годы из Петербурга для приемки денег приезжал в Москву комиссар канцелярии городовых дел. А тут понадобился зачем-то государю сам Гагарин. Нудно и долго собирался тот медный караван. Каждый двор в Российском государстве облагался податью на строительство Санкт-Петербурга, каждый россиянин откладывал для новой столицы свою медную денежку. Целая рать счетчиков денег в Москве неделями просиживала в приказах, чтобы пересчитать медяки, ссыпать их в рогожу, опечатать, а затем еще и закупорить в бочки и еще раз опечатать. Каждая бочка вмещала по две с половиной тысячи рублей. И когда оттискивался на толстых днищах российский двуглавый орел, когда укрывался и увязывался на санях медный груз, тогда и трогались в путь, чтобы к сроку доставить на край страны эту тяжкую всероссийскую подать, способную хоть чуть-чуть утолить ненасытность прожорливого города-младенца.
Гагарин тогда пришел в столицу Петра с обозом в сорок подвод. Царь, не спрашивая согласия, отослал Гагарина к архитектору Трезини, и тот, глянув на чертеж, недолго размышляя – сам государь прислал князя! – ткнул острием циркуля в правый берег Невы: мол, здесь, князь, поближе к его величеству, будет твой дом. Гагарин даже и не отнекивался, указ Петра был всем известен. И не изменило никак этой необходимости обзаводиться Гагарину петербургским домом новое решение Петра. Раздумывая, кого послать в Сибирь наместником, он остановил свой выбор на Гагарине. Краток был тот разговор:
– Твой корень в Сибири. Сам ты, князь, терт, бит и теперь являешься господином генерал-президентом и генеральным судьей Сибирского приказа. Клят, мят, но оправдан! И коль ты в самую нелегкую пору на Москве готовил оружное и амуничное для Полтавы, для Риги и с делом хорошо управился, то тебе и сам Бог велел, и я велю в Сибири управиться!
Спустя два года после той беседы на всем пути следования Гагарина от Кунгура до Тобольска встречал народ небывалое для Сибири начальство. Не один фунт крупитчатого мелкого пороха заряжался в крепостные пушки, чтобы приветствовать первого губернатора Сибири. А когда от Верхотурья вся гагаринская свита перешла на судно и двинулась вниз по Туре, то какой сибирский дворянин в Туринске или Тюмени не мечтал ступить на палубу, обитую красным сукном. Всяк за честь почитал принять чарку за здравие князя Матвея Петровича и поздравить его с прибытием.
С той осенней поры 1711 года и жил Матвей Петрович на три дома, в трех столицах. Был, правда, еще один гагаринский дом, вотчинный, в Шацком уезде под Рязанью, но туда князю было недосуг. Пучина Сибири поглотила его, и выезжать из сибирской столицы, Тобольска, он мог только по царскому указу.
А теперь самое время взглянуть на пространство, поименованное петровским указом Сибирской губернией и простиравшееся от Кунгура до Анадыря. Чуть более ста лет миновало с тех пор, как окончательно рухнуло шаткое Сибирское царство, скроенное из лоскутов сине-желто-пегой Орды, когда Гагарин получил в свои руки губернию. Падение кучумлян и последних татарских князей почти совпало по времени с трагедийными событиями на западных границах Московии, потерявшей Балтику. Теряя на западе, московиты приобретали на востоке, как будто по каким-то неотвержимым законам взросления народа необходимо было ему пространство неутесненное. И вряд ли справедливы упования на стихию казачьей вольницы. Куда важнее помнить, что и до казачьего следа в Сибири оставили свои следы и новгородцы, и устюжане. Что казачий след! Он хоть и честен и утверждение его оплачено по́том и кровью, но, выходит, даже этого мало, чтобы отпечататься в памяти меняющихся царей. А иначе чего бы гадать Петру Великому: сошлась или не сошлась, срослась или не срослась Азия с Америкой? Знать, слаба была память о походе Семена Дежнева среди московской приказной братии, слаба была переданная царская память, коли склонял ухо царь Петр к рассуждениям философа Лейбница. Стало быть, плохо ведал самодержец, какое наследство он принял вместе со скипетром и монаршей шапкой. О великом казачьем шествии к океану, о выходе в его воды, занятые собой, московские правители забыли. Да как не забыть? Какой же след останется в студеной воде пролива? Даже и уголь от первопроходческих костров развеял без следа гуляющий по побережью ветер…
След едва ли будет заметен, если даже прошел атаман с ватагой по землям с битвами и были они удачны. Человеческий след обретает иное богатство, коли отложены в сторону пика и сабля, а воин ставит дом для житья, не утесняя того, кто пришел на эту землю раньше. Да только кому же захочется тесниться, хоть и просторна Сибирь?
Сказкой про белого бычка звучат заверения и утверждения о мирной планиде русских первопроходцев. Случалось, что и полвека и век уже стоял русский острог, а то и город в Сибирской земле, но вдруг приходили те, кто пришел сюда раньше, и воевали его. Штурмующие русские остроги несли на острие копий воодушевляющее воинов воспоминание: когда-то русских здесь не было! Да как им, воителям, скажешь: когда-то и вас тут не было. Некогда говорить, надо встречать гостя и ратоборствовать.
Но и не без азарта, не без похотливого дыхания ступали на новые земли казаки. Сунулась было ватага из Анадырского острога на Шантары, и всех до единого побили казаков гиляки – уж больно охальничать начали гости, меха щупать да в русские мешки упрятывать. А бывали и вовсе иные встречи на порубежье.
Не безродного предводителя войска послал китайский богдыхан император Канси, чтобы отнять у русских Аргунский острог. Послан был именитый маньчжур, четвертый сановник в государстве! Но «пришед к месту» и, как гласит летопись, «увидя русских людей житье доброе и поревновав тому житию», вернулся воин в Китай, велел женам и детям и всему роду своему сбираться в путь. Полтысячи человек привел он с собой в русские пределы. Чего только ни предпринимал богдыхан, чтобы вернуть утеклеца: сулил место третьего сановника, слал подарки, войско, наконец, за ним посылал. И даже был такой козырь у маньчжурской стороны на нерчинских переговорах, когда было сказано Федору Головину посланниками цинского правителя Сонготоу, Дунгувеганом и Лантенем: «Верните перебежчика. Наш он». На такое требование русский посол Головин ответил, ерничая: «Это того, который четыре года назад принял православный Христов закон и теперь зовется Петром? Дак его уж нет, помер в Нарыме. А вот сын его, тот и до Москвы дошел, и в дворянское звание пожалован, занесен в книгу по Московскому списку. Теперь он князем Павлом Гантимуровым, сыном Петровым зовется. Царь его подарками жаловал да, с Москвы отпуская, наказал: вернешься в те земли под Нерчинском, что твоими теперь записаны, сразу же из своих семи жен избери одну, сведи к попу, соблюди закон христианский, а остальных отпусти. Так что ныне не желает ворочаться князь Гантимуров к богдыхану. Вот разве что женки его, каких отбраковал, вернутся…»
Нелегко дались нерчинские переговоры стольнику и воеводе Федору Алексеевичу Головину. Иначе быть и не могло. Он пришел к даурским острогам, имея пять сотен московских стрельцов, да еще столько же было приверстано к Головину в Тобольске. Прочие сибирские города и остроги – Верхотурье, Тюмень, Пелым, Епанчин, Березов, Томск, Енисейск и Якутск – наскребли всего-то тысячу степных стрельцов, казаков и казачьих детей. Так что всего с Головиным было не более полутора тысяч воинов. С маньчжурской стороны к месту переговоров подошло десятитысячное воинство с артиллерией. Были с маньчжурами еще два воина из войска Христова: иезуиты француз Жербийон и португалец Перейра, имевшие миссионерские цели в Пекине. И хотя не дошло тогда под Нерчинском до прямого воинского дола, но два европейца в черных балахонах навредили русскому послу изрядно. Едва заходила речь о том, что на Амуре поставили русские поселения еще Василий Поярков, а затем и Ерофей Хабаров – уже полвека миновало, как маньчжуры удалялись на совет к иезуитам. Дошло в конце концов до разворачивания карт, и тогда главный маньчжурский мандарин, глядя на русскую карту, провел рукой по Лене и заявил: «Все, что к солнцу от этой реки, – наше!» Тут уж и Головин не сдержался и на какое-то время даже перестал выходить из своей палатки, прервал всякие разговоры, отвергая маньчжурскую наглость. Наглость нависала нешуточная, поскольку мандарин заявил: «Перебьем всю твою охрану, а там и Нерчинск возьмем». Отбросив речи о границе по Лене, вынужден был посланник московский на сдачу маньчжурам Албазинской крепости согласиться, но остального Даурского края не уступил. В той неравносильной пограничной тяжбе маньчжуры получили весь верхний и средний Амур. Несколько лет ни они, ни монголы русских острогов, в том числе и Нерчинска, не тревожили. К осторожности их вынуждали вовсе не гарнизоны русских крепостей. Мирными по отношению к северным соседям их делали соседи западные – джунгары. Вот с кем предстояло смертельно схватиться властителям Великой Поднебесной империи.
Головин осенью 1689 года отправился в Москву, оставив на воеводстве в Нерчинске Федора Скрипицына, а в «Ыркуцком», как гласит Сибирский летописный свод, сели «стольник князь Иван да князь Матфей княжеские Петровы дети Гагарины». Матвей ходил в товарищах у старшего брата. Кто знает, сколь бы длилось такое товарищество, если бы не воинский случай. Прилетел в Иркутск гонец от Федора Скрипицына с тревожной вестью: на противоположном берегу Шилки «мугальское[10] войско стоит скопом, готовится воевать острог». Иркутский воевода срочно снарядил на Шилку под Нерчинск две сотни казаков во главе со своим товарищем – Матвеем Гагариным. В Нерчинске он просидел с конца марта до середины апреля, пока не ушли «мугалы», распоряжаясь острожными делами наравне со Скрипицыным. Но двух воевод в одном остроге долго быть не могло. Как Гагарин сковырнул Скрипицына – бог весть. Но в 1693 году летописный свод Сибири пополнился такой записью: «В Даурах на границе китайской, в Нерчинску, на Федорове место Скрипицына столник князь Матвей Гагарин, переведен из товарыщев из Ыркуцка…»
В те годы, распоряжаясь Нерчинским воеводством, Матвей Гагарин не думал, не гадал, что судьба полтора десятка лет спустя заставит его перебирать в памяти все подробности не только малого угла Сибири, «зовомого Даурами», но и всей трудновместимой в сознание земли, Сибирского царства, границы которого на юге были весьма и весьма призрачны, если они пролегали не по берегам рек. Да и как проводить границу, коли всего три крепости – Нерчинск, Красный Яр да Кузнецк – обозначили: далее земли к полуденной стороне Белому царю не подвластны. И не только держать все внутренние события в памяти пришлось Гагарину, но и чутко следить за южными соседями, так же чутко и пристально, как это делал со своей стороны император цинский Канси, монгольские подданные которого переводили его имя весьма велеречиво, но неточно – «мирное спокойствие». Неточность заключалась в том, что на протяжении шестидесятилетнего царствования Канси вел почти непрерывную войну с Джунгарским ханством.
Воины этих двух государств в конце XVII века весьма часто находились друг от друга на расстоянии полета стрелы, случалось, джунгары подступали к Пекину; случалось, маньчжурские войска теснили джунгар почти до берегов Или. Для Цинской империи джунгары были бичом, особенно на северных и западных ее окраинах, населенных монголами и тибетцами. Канси писал о джунгарском хане Галдане: «Он так далеко распространил свои победы, что в западной и северной стороне живущих многих владельцев, а именно: Самархань, Бухар, Хасак, Бурут, Еркень, Сайрам, Турфань и Хами – под свое владение подбил и покорил». Завидуя такому усилению Галдана, маньчжурский император тем не менее не терял надежды, что оно шатко. И он не ошибся. Когда Галдан, ввязавшись в очередное сражение с маньчжурскими отрядами, оторвался от своих основных сил и вознамерился завоевать и обложить данью Халху[11], маньчжуры напрочь разбили пятидесятитысячное войско джунгар, и хану Галдану пришлось с остатками своих воинов укрываться в урочище Ага-Амтатай. Китайские известия – это не единственная версия событий, предваривших гибель Галдана. Монгольская летопись «Эрдэнийн эрихе» излагает подробности тех лет несколько иначе. Ожидая сына из Хами, куда он отправил Сетеньбалчжура за провиантом, Галдан рассорился со своим соратником Данцзилой. Сына по пути в Хами скараулили маньчжуры и схватили, Данцзила сбежал в Ширхагоби, и в дополнение ко всем бедам племянник Галдана Цеван-Рабтан, сколотив войско, засел у Алтайских гор, чтобы подкараулить мечущегося дядюшку, схватить его и передать императору Канси. Загнанный в урочище Ваий Ундур Галдан принял яд. Данцзила спешил доставить ко двору императора труп Галдана, просясь в маньчжурское подданство. Но, пока гонец Данцзилы ходил ко двору с такой вестью, Цеван-Рабтан напал на Данцзилу у гор Алтайских и, отняв у него подарки, предназначенные Канси, передал их как собственный вступительный пай, чтобы считаться подданным Поднебесной империи.
В каком урочище погиб Галдан, неизвестно, но известно содержание письма, полученного им накануне от Канси. Письмо было кратким: «Сдавайся». Галдан знал обычай Цинской империи выставлять голову врага на позор всему столичному люду. Принимая яд, обреченный приказал: «Труп мой сжечь». Увы, без Галданова трупа Цеван-Рабтану не с чем было явиться под руку Канси. И тайша Цеван-Рабтан стал контайшой, получив от императора право владеть землями от Алтая до реки Или всего лишь за то, что прислал Канси ступу с пеплом Галданова тела. Глашатаи маньчжурской столицы под вопли толпы рассеивали пепел некогда грозного врага, а Цеван-Рабтан получил краткое замирение в войне с Цинами. Он надеялся – спокойствия на востоке ему хватит, чтобы расправиться со своими врагами на западе. Тем более что казахи сами подали повод к расправе. Прикинувшись покорным Рабтану, прикрываясь отцовскими чувствами, казахский хан Тауке умолял нового контайшу вернуть ему сына, захваченного в плен в результате неудачного набега казахов на джунгарские улусы. Подчеркивая свою высокую приверженность ламаизму, Рабтан только что принял титул хана, и Лхаса признала его, он отправил столь именитого пленника в подарок далай-ламе. Просьба хана Тауке подоспела, когда Рабтану было еще жарко на востоке. А тут представилась возможность заручиться миром с казахами. И Рабтан решил вернуть сына хану Тауке. Из Лхасы неудачливого барантача сопровождало пятьсот джунгарских конников.
Тауке «отблагодарил» джунгарский конвой – все пятьсот были перебиты. Вдобавок хан Тауке увел в свои кочевья более сотни кибиток урянхаев, плативших дань Цеван-Рабтану. И этого было мало. Люди Тауке напали на караван, идущий в Джунгарию с Волги от калмыцкого хана Аюки. Ладно бы обычный джунгарский купеческий караван, хотя и такой караван казахи перехватили тоже. Нет, в том караване с Волги была одна кибитка, которую Цеван-Рабтан ожидал с вожделением. В ней везли очередную невесту джунгарскому контайше. Невеста была дочерью самого хана Аюки. Этот повод и положил начало затяжной полосе сражений между джунгарами и казахами, которая сошла на нет только к 1725 году.
Конечно же, междуханская распря шла не из-за невесты в кибитке. И джунгарский, и казахский ханы пытались срочно оседлать желанного коня – великий шелковый путь, торговый путь из Китая в Среднюю Азию. Оказавшись на одном крупе лицом к лицу, джунгары и казахи пытались свалить друг друга на землю всеми возможными и доступными способами.
Широка Великая степь, а не разминуться, не разъехаться!
Джунгария в это время оказалась зажатой в роковом для нее треугольнике: на востоке – Цинская империя, на западе – три мощных казахских жуза и каракалпаки, на севере – готовая к беседе, равно как и к отпору, Российская империя. И если в XVII веке Джунгария находилась в состоянии непрерывной войны и с маньчжурами, и с казахами, а успех в соперничестве был переменчив, то весь этот период для Москвы и Джунгарии был отмечен лишь мелкими пограничными неурядицами и обменом послов.
В самом начале XVIII века прошел через Тобольск на Москву посол Цеван-Рабтана зайсан Абдул-Еркей. Встречали и провожали его с подобающими почестями: дипломатический порох никого не опалил. Цеван-Рабтан к тому времени сидел в седле довольно прочно, что и побудило Канси отозваться о нем: «После того как был уничтожен Галдан да одержал он победу над „хасаками“ и получил некоторое число военнопленных, он начал мало-помалу переменяться…» И вскорости уже более резко выразился Канси: «Он час от часу становится надменнее». Пожалуй, это замечание вырвалось у императора Поднебесной после того, как Цеван-Рабтан из-под носа у маньчжур увел с верховий Енисея более десяти тысяч кибиток и переселил их в свои владения на Иссык-Куле. Для невеликого, но дальнего переселения контайше потребовалось всего-то две с половиной тысячи конвойных всадников. Верхушка Цинской империи снова заволновалась – не только увел киргизов Цеван-Рабтан, но еще и восстанавливает нарушенное Галданом, послал на Волгу хану Аюке в жены свою дочь Дармабалу. Если сомкнутся две родственные силы, джунгары станут непобедимы. Мандарины зачесали темя, а нет ли способа воспротивиться намечающемуся объединению? Император Канси выжидал несколько лет, пока обменявшиеся дочерями ханы, оба наследники великих ойратов, начали мелко враждовать даже на расстоянии.
И вот русского купчину Худякова, прибывшего в Пекин с очередным государевым караваном, приглашают на беседу в императорский дворец и просят сообщить в Тобольск, а уж там и в Москву о намерении императора Канси направить послов на Волгу. Пропустит ли русский Чагань-хан, так на маньчжурский манер перевели мандарины титул Петра I, китайское посольство на Волгу, к хану Аюке?
С разных сторон света, из разных земель наблюдали за Цеван-Рабтаном Канси и Гагарин, но их мнения о надменности контайши сходились. Гагарина к такому заключению склоняли воеводские доношения. Из Кузнецка писали, что только-только срубили крепостешку на слиянии Бии и Катуни, как явились контайшины люди и после недолгой битвы разорили крепостцу дотла. Чернолуцкий казачий голова с Иртыша доносил, что из тех же «зюнгорских улусов» повадились люди воровски брать алман с барабинских татар. А с кузнецких татар ясак требуют соболями и железом.
В Тобольске такое не задерживалось, вести дошли до царя Петра.
Тарский казачий голова Иван Чередов вернулся из Тобольска хмурый и неразговорчивый. Долгой отлучки будто и не было, он был вроде как и не рад встрече с домочадцами, мимоходом сунул ребятишкам гостинцы, и те, чутко улавливая настроение вернувшегося батьки, не ожидая привычных забав, отхлынули в кутний угол избы, к матери. Укоряя себя за черствость, молча постоял казак перед занавеской, за которой выжидающе замерла лавина нежности и тоски по отцовским дурашливым словам и шлепкам, где ребятня вопросительно поглядывала на мать – как дальше встреча повернется. И не качнул Чередов занавески, отошел. Поскрипев жестким поясом, повесил саблю на стену – нескоро теперь понадобится, окликнул жену и, глядя в сторону, сказал:
– Вели баню топить. Сбирай мне сухари, мяса вяленого достань поболе да сала. Бельишка исподнего смены три.
Не удивилась жена – мало ли срочных разъездов по Иртышу было, но на всякий случай спросила:
– На Ямыш? Али в степь?
– На Ямыш, – как-то нехотя и вяло ответил Чередов.
Баня приспела к вечеру. Выжидая, пока выдохнется угарный дух, Чередов обошел двор, заглядывая в такие закутки, куда он давным-давно не заглядывал. В сыром, припахивающем плесенью подвале нашарил за дверью кожаную сумку и отнес ее в дом. Проходя двором, отметил: еще над несколькими подворьями, за крепостным палисадом, курились-докуривались дымы. «Ну вот, не четверток подошел, а тара в бани снаряжается…» Чередов посидел в накаленных до звона стенах бани дольше обычного, призывая не раз казака: «Еще поддай, еще охлещи!» Припадая к полку, кряхтел сквозь зубы, ожидая в истоме всем телом каждой горячей волны и жгучей влажности веника. «Экой он сегодня ненасытный, – удивлялся парильщик. – Неужто в Тобольску все бани погорели?» После пятого захода азарт иссяк. Ополоснув голову щелоком, пахнущим березовой золой, Иван окатился из лохани колодезной водой и пошатываясь вышел на низкое крыльцо бани. Уже стояла плотная темь над Тарой, и только чуть повыше крепости, на берегу иртышской протоки, горели костры – у дощаников мелькали силуэты казаков, пофыркивали еле слышно кони.
Против обыкновения, Иван не потребовал после бани двойного[12] вина и молодых грибков, а, наскоро поужинав, подсел поближе к красному углу. Достал из-за божницы кожаную сумку и положил ее перед женой:
– Тут наше нажитое. Я тебе не показывал – случая не было.
– Нынче что за случай? – недоуменно прошептала жена.
– Случай не случай, а все же еду не на заячью охоту. В степи, говорят, больно живо стало. В Казачьей орде люди промеж себя секутся, а ну как мы в это самое «промеж себя» угодим ненароком. Не приведи господь. Одно слово, забери и спрячь. Тут всего-то нажитого – сыновьям коней к службе справить да еще кой-что выкроится.
– Так при чем степь-то, Ваня? Ты ж к Ямышу, говорил, пойдете…
– А не твоего бабьего ума дело, куда пойдем, – отмахнулся Чередов и достал из кожаного баула, побывавшего с ним в Тобольске, узкий сверток. Снял нагар со свечи, развернул хрусткую бумагу и стал читать, чуть-чуть шевеля губами. Он знал, что написанное – не обычное письмо князя Гагарина. Тяжелая отворчатая печать[13] в нижнем углу листа придавала какую-то незнакомую весомость и бумаге, и ему, казачьему голове, дотоле не знавшему никаких государевых забот, кроме береговых доездов до Иртышу. А тут бумага из самой губернской канцелярии гласила: «По указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца и по приказу губернатора сибирского Матвея Петровича Гагарина, татарскому казачьему голове Ивану Дмитриевичу сыну Чередову велено ехать из Тобольска в калмыцкие улусы к контайше…»
Иван прервал чтение и взглянул поверх листа. Напротив сидела жена и разглядывала мужа недоуменно. Чередов, однако же, не заметил растерянности в лице жены и снова опустил глаза к листу: «…и как приедет к его улусам, то, не доехав его, контайшина, улуса, послать ему наперед себя толмача с ведомостью от себя и велеть сказать ему, что по указу Великого государя, Его царского преосветленного Величества, губернатор Сибирский князь Матвей Петрович Гагарин прислал к нему, контайше, из Тоболеска с листом его, казачьего голову Ивана Чередова, и он бы, контайша, приказал, где ему, Ивану, его, контайшу, видеть…»
Наконец жена спросила:
– Не в себе ты. Письмо виновато?
– И это не бабье дело, – ответил Чередов и стал сворачивать бумагу в трубочку.
Утром на Иртыше жена Чередова увидела, что к берегу от съезжей избы приближаются три калмыка на своих низеньких лошадях. Казачий голова приветливо поздоровался с калмыками и даже заговорил с одним, ласково называя его Деркемушкой:
– Скоро, скоро все сладится, скоро тронемся в путь.
Тогда и екнуло бабье сердце.
– Ты скажи, Ваня! В калмаки пойдешь?
Он невесело посмотрел в настороженные глаза жены, обнял ее и, плохо скрывая ложь, успокоил:
– На Ямыш-озеро, на Ямыш. Что-то ты вся взметнулась… А ну-ка, закуси губу да смотри весело.
Слова эти не ускользнули от провожавших, и по толпе баб и ребятишек прополыхнула тревога переглядов. И когда семь прогонистых дощаников отурились от берега, когда мужики дружно ударили тяжелыми гребями и приплесок закипел, заходил воронками за кормой последнего дощаника, тут-то и взвыли тарские бабы, осеняя воздушными торопливыми крестами и правый берег, и воду, и все менее и менее различимые лица и спины мужиков. Плач стоял над широкой излукой до тех пор, пока дощаники, удаляясь, не превратились в легонькие, подрагивающие на воде скорлупки. И там, на судах, его тоже слышали до тех пор, пока не сравнялась с верхами сосен тарская крепостная колоколенка.
Выход каравана дощаников на Ямыш-озеро для Тары был делом обычным. Тара посылала туда своих добытчиков, почитай, уже лет сто, с тех пор как оборотистые казачьи разъезды проведали на правом берегу Иртыша богатое соляное озеро. И соль там была добро камениста и чиста. За ней приходили из Тобольска и даже из Сургута и прочих понизовых городов. Да и вся окрестная степь, разметнувшаяся на сотни верст, тянулась конными и верблюжьими караванами к богатой сибирской солонке, которой хватало на всех. Из Тары за солью ходили в конце лета, выждав, когда неуемная жара пропарит озеро, когда можно будет взять пласт подальше от берега, а чем дальше, тем чище будут сиять и переливаться на августовском солнце окаменевшие слоистые глыбы соли. Провожая ежегодный караван за солью, тарские бабы никогда не ревели в голос. На сей раз их насторожили калмыки, или, как тогда их называли простолюдины, калмаки. Кое-кто называл их и зюнгорцами – не привык русский язык к жесткому, как ременный жгут, слову «джунгары». Слово «калмаки» обронила на причале жена Чередова, и бабий переполох истолковал это упоминание на свой лад – утаили мужики правду о том, куда пошли. А вдруг все дощаники вовсе не за солью, снарядились? Иртышу конца краю нет, где лежит его изголов, там никто из тарских не бывал.
Вывершив речную волну до устья малоприметной речки Преснухи, впадающей в Иртыш справа, отоспавшись вволю под навесами на дощаниках, Иван Чередов с пятью казаками не вдруг вышел в степь. Уже и сентябрь присеребрил первыми заморозками посохшую траву на берегу Ямыш-озера, а его спутников, калмыцких посланцев Деркема и Лоузана, все не было. Из Тары они шли правым берегом, к вечеру поспевая в то место, где притыкались к берегу на ночевку дощаники. Но вот за неделю до выхода к Преснухе калмыки сказали, что уходят дальше степью на несколько дней и выйдут прямо к озеру. Миновала неделя, Деркем не появлялся. Тарские мужики каждое утро выезжали к озеру, лезли на отмелые места, бухали ломами по дну – ломали пласт. Уже оставалось нагрузить солью два дощаника. Пять других тяжело приосели в воду, готовые отправиться вниз по Иртышу, а провожатые, чередовские, не появлялись. Казачий голова все глаза проглядел, насмотрелся на левый, низкий, берег, строя догадки: может, люди из Казачьей орды перехватили зюнгорцев? Но левый берег был пуст, безлюден. Чередов слонялся по окрестностям озера, поминая недобрым словом Деркема. В один из вечеров, особенно ясный и тихий, даже ковыль не дрогнет, не шелохнется, даже залетная иртышская чайка не пискнет, засиделся Чередов у озера до самого заката. Сидел на сухом теплом песке, забыв о досаде на зюнгорцев, постругивая таловый прут, срезанный на берегу Преснухи. Давно ушли к палаткам и шалашам добытчики соли, ни звука над озером. И чем глубже в край неба западало солнце, тем явственней и гуще наливалось озеро малиновым цветом. Тяжелая и плотная вода, словно очарованная закатным преображением, была недвижна. Цвет, казалось, издавал еле уловимый звон – до того он был ощутим, что постепенно заполнил уши и поглотил Ивана своим неумолимым нарастанием всего, без остатка. «Господи, и как же такое чудо содеяно?! Ведь в нем нет и малой живинки, а ведь озеро-то живое, замерло, вздохнуть боится!..» – думал, забывшись, Чередов.
И лишь когда последний отблеск заката слабо отразился на лезвии присмиревшего чередовского ножа, тогда и сдул неожиданный ветерок и малиновый цвет и звон, превратив зеркало в мелкую, на глазах тускнеющую серебряную рябь. Иван повертел в руках таловый прут, уже почти в потемках сделал из него маленький крест. Выбрал место, где мужики выломали соль – нескоро сюда с ломиком кто-нибудь вернется, и погрузил крестик в темную воду. «Если крест никто не порушит, вернусь из калмыцких улусов – заберу с собой», – загадал Чередов и уже в прохладной сутеми двинулся к берегу Иртыша.
Еще неделю ходил казачий голова к озеру, уже и крестик его, видный в прозрачной стоячей воде, покрылся крупинками соли, и не подумаешь, что деревянный, а зюнгорцы все не появлялись. Они прибыли, когда Чередов уже решил – завтра сам уйду, без провожатых. Деркем, не слезая с лошади, постегивал камчой по борту дощаника, в котором спал Чередов, и монотонно тянул:
– Айда, Иван… Айда, Иван…
По-русски получалось: «Ай да Иван», и это разозлило Чередова, как будто он виноват, а не «зюнгорец», что две недели псу под хвост выброшено.
Деркем приехал к Иртышу не один. Поодаль, вокруг Лоузана, вертелось на конях человек двадцать незнакомых калмыков, и у каждого была еще и вьючная лошадь. «Эге, – смекнул Чередов, – понятно, где твоя некрещеная морда пропадала». Он разглядел среди конников нескольких барабинских татар. От последней русской крепости в Чернолучье Деркем пошел к востоку степью. И, видно, не впустую сходил – кого успел, объясачил. Какая же ему вера, такому послу? И эти, что пришли с ним, видно, где-то в условном месте ждали Деркема. Вот тебе и купцы-посланцы! Ясак дерут с наших татар. Вслух ничего не сказал казачий голова – уж чему-чему, а учтивости в обращении с зюнгорцами Чередова в Тобольске наставляли долго.
«Этак с тороками, набитыми в Барабе, долго мы до контайши будем ехать», – размышлял Чередов, проверяя свои походные вьюки, подтягивая подпругу. Но, вопреки чередовским ожиданиям, пошли они очень споро. Деркем отделил десяток человек из столпившихся возле огня калмыков, и те, с легкой ноги, взлетев в седло с высокой лукой, затрусили вперед, поджидая казаков. Два дня конного хода по правобережью Иртыша не сулили Чередову незнакомого – он бывал здесь и раньше, знал, что скоро выйдут к Калбасунской башне. Она и показалась вдали на исходе вторых суток. Оплывшее от времени глиняное строение было когда-то капищем для кочевых жителей этих мест, но, видно, это были не калмыки и не барабинцы, потому что и те и другие миновали башню, даже не взглянув в сторону заросших полынью, сглаженных дождями зубцов уцелевшей стены. Калмыки протрусили к берегу и стали устраиваться на ночлег. Рядом разожгли костер казаки Чередова.
– Как же они в седле на одном затуране держатся? – недоумевал молодой казак Андрей Бородихин. – Я с утра – шмат сала да в обед еще шмат. Вечером – варево. А они что же, так на одном толокне да на соленом кипятке до самого своего улуса дотянут?
– Ты днем приглядись – они изо рта курт не выпускают. Насушили им дома этого курта на всю дорогу, – растолковывал Чередов молодому калмыцкие хитрости. – Я пробовал курт, не угрызешь. А им – в сладость. И сыты надолго. Так и до своих бараньих мест доберутся.
До калмыцких разъездов дошли уже на исходе второй недели, встретив их в иссушенной каменистой степи. Правда, до этого была еще одна встреча. Только вышел отряд к иртышскому плавежу, где можно было переправиться без особого риска, как на той стороне реки показался человек на коне. И нельзя было понять по одежде, кто он. Помаячил и молча исчез. А когда стали сбором и принялись собирать плавник на костры, тут он и выехал снова. И заговорил, заговорил, будто радуясь звуку своего голоса:
– Я глядь-поглядь, что за наваждение? И калмыцкие шапки, и наши: все перемешалось. Думал, они ведут вас в плен, и то – их побольше числом. Ан нет, смотрю, переправились, не повязаны…
Чередов и казаки окружили всадника. Был он неимоверно тощ, и одежонка на нем трепыхалась, вовсе не предназначенная для осени: грязная рваная рубаха, армяк такой же прикрывали худущие плечи, а портки – да что там о них говорить…
– Ты откулева такой вывернулся? – простецки разглядывая пришельца, спросил Бородихин.
– И кто он такой? – тоном построже добавил Чередов.
– Да из орды я. От киргизов кайсацких ушел, а места мне здесь вовсе неведомые. Кузьма Скорняков я, с-под Самары. Далеко до наших городков? Хоть бы острог какой…
– Ты сперва сядь, сперва поешь, – заторопились казаки вокруг Скорнякова, – потом мы тебе и острог, и иную защиту укажем.
Защиту указывать не пришлось. Наутро Деркем подошел к Чередову с толмачом и приказал беглеца взять с собой.
– Ему до дому подаваться надо! – возразил было казачий голова, но за Деркемом стали остальные калмыки, охватывая русских почти сомкнувшейся подковой.
Потупились казаки, примолкли. Чередов оглядел всех своих пристально, развел руками: дескать, мы уже в гостях…
Наутро вместо того, чтобы двинуться к югу, Деркем ткнул камчой вниз по реке. Спустились версты три, и показалось несколько приземистых крыш. Калмыки начали спешиваться. Деркем приказал казакам ждать поодаль. Издали Чередов рассматривал строения, каких доселе не встречал: одна к одной лепились семь кирпичных башен с пологими скатами крыши. Вход каждой из них был обращен к востоку. Калмыки, однако же, в башенки не вошли, а замерли подле них на коленях, подставив обнаженные затылки осеннему солнцу. И стояли так, шепча что-то, пока не была переброшена слева направо последняя бусина на шелковом шнурке четок в руках Деркема. Он ушел от башен последним. Чередов разглядел, как Деркем взял что-то с порога самой высокой кумирни и спрятал на груди.
«Неужто камень за пазуху сунул? Эк его…» – подумал казак.
Калмыки расселись по седлам, и Деркем кивнул в полуденную сторону. И захрустела ломкая осенняя полынь под копытами, заластился к коленям лошадей белесый ковыль. Пошла изнуряющая с утра до вечера раскачка: то легкой рысью, а то и в намет, и совсем редко – шагом. Езда выматывала все силы из тулова, так что к вечеру падали казаки еле живые, засыпая, едва голова касалась брошенного на кошму седла, уже во сне со стоном разминая занемевшее в тряске тело.
Отсинел вдалеке, по правую руку, Балхаш, стали чаще встречаться безлюдные огромные кладбища. Уже миновали заросшие черемухой и тальником берега Лепсу, а Деркеп все не давал роздыха, только на короткое время позволял всему каравану вздремнуть в седле. Окидывал подозрительным взглядом невысокие сопки и снова поддавал коню под бок мягкой пяткой. Чередов спросил его в один из ночных привалов:
– Почему летим сломя голову?
Толмач послушал Деркема и ответил:
– Ты к кому послан с листом: к Великому хунтайджи или к Хаип-хану кайсацкому?
– Чево дурика валяешь? Ясно, до контайши лист.
– Деркем говорит, чтобы ты не отставал, а то угодишь, посол тобольский, в кайсацкие аулы.
Отряд шел через ничейное пространство. Ни калмыков, ни казахов в этом лоскутке Семиречья не было. И такое затишье настораживало Деркема. Он торопился, как торопится всякий путник, не уверенный в том, что его кто-то защитит в степном беспределье.
Скачка прекратилась, как только на левобережье Лепсу встретился первый калмыцкий разъезд. Из-под косматых зверовых шапок глянули на казаков любопытством вспыхнувшие глаза, но блеск поугас, как только Деркем сообщил, что урусы идут пословаться к великому контайше.
В первом же калмыцком улусе, на реке Чаган-Узун, стало посольство на дневной отдых, выменяли на ножи тобольской выделки барана. И еще не успели остыть остатки жира на донышке котла, как один из казаков, Максим Немтинов, поманил пальцем из-за кошмяного ската юрты Чередова к себе:
– Ты встречал в Тобольском ружейника Зеленовского?
– Встречал. Совсем недавно.
– Здеся он…
– Приблазнилось тебе. Откуль? Полтретья месяца тому, я его видел.
– Он в юрте у калмыков на кошме сидит. Милуется с ними, – указал Немтинов на белобокую разнаряженную юрту в самой середке улуса. – Весь подушками обложен.
– Щас сведаю, – раздраженно прошептал Чередов.
Но не успел он и на десяток шагов приблизиться к белой юрте, его остановили два молодых калмыка:
– Туда ходи нету!
Раздосадованный, Чередов отступил и стал наблюдать издалека. За пологом юрты исчезали слуги, подносившие вареную баранину и тяжко колебавшиеся бурдюки. Мелко семеня, двое пронесли дымящийся котел с каким-то варевом и, пятясь задом, с поклонами вывернулись из-под полога наружу и замерли у входа.
Чередов крякнул, вернулся к своим. В сердцах стукнул себя кулаком по колену и уставился в подернутые пеплом головешки костра. Позвал Немтинова:
– Принесите хворосту, а может, какую сухостоину найдете. Раз принесешь хворост, а на второй – останься в кустах. Все одно мы его скрадем. Утроба его подведет – вишь, какая жратва, не выдержит.
Казаки сходили за хворостом и снова разошлись в стороны. Калмыки возле кибиток что-то прокричали, толмач чередовский ответил.
– Че они там прогорготали? – спросил Чередов.
– Куда твои люди ходят, спрашивают. Я и сказал, что ночуем без юрты, ночной костер прожорливей дневного.
Чередов стал осматривать седло, кося взглядом в сторону большой юрты. Дождался-таки. Покачиваясь, оттуда вышел Зеленовский. Чередов узнал его по костлявой фигуре, да и месячной давности борода мало изменила наружность ружейного слесаря. Зеленовский поковылял в кусты, а Чередов нервно вертел седло и так и сяк. Слесарь двинулся в ту сторону, куда ушли Немтинов и Бородихин. Понуря голову, Чередов ждал. И когда из зарослей тальника раздался треск сучьев и вначале сдавленный, а потом на полную глотку крик Зеленовского, Иван, с досадой шлепнув разлапистой ладонью по блескучей коже седла, бросился на крик и, подбегая, увидел: сминая кусты, Немтинов и Бородихин извивались над мосластым телом оружейника, силясь захлестнуть его руки сыромятным ремнем и всунуть тряпку в рот. Портки на слесаре были спущены до колен, он ошарашенно вращал глазами и отбивался от Бородихина исцарапанными в кровь коленями. Чередов не успел даже и дотронуться до Зеленовского, как сзади его обвила и захлестнула на груди волосяная веревка, а через мгновение и казачков тоже спеленали и укротили. Чередов позавидовал проворности калмыков.
Зеленовский поднялся, надернул штаны и, узнавая Чередова, прохрипел ему в лицо:
– Собака! Сам бздиловатый, так недопесками травишь!
– Не трожь казаков. Сам пес. Куда хвост поджимал, когда из Тобольску срывался? Я тебя все одно домой заверну.
Ружейник, поддерживая одной рукой портки, поднес к обвислым усам казачьего головы грязную фигу и поплелся к юрте. Повязанных казаков повели к их кострищу, и там они увидели уже обмотанных веревками остальных своих спутников: и толмача Петрова, и самарца, и еще двух казаков. Чередов велел толмачу:
– Позови Деркема.
Петров прокричал в сторону белой юрты что-то, но никто оттуда не вышел. Еще покричал. Без ответа. Он глянул на Чередова и смолк. Усаженные рядком, слегка привалясь друг к другу, казаки молчали. Редко кто из них не посмотрел в сторону реки, уходившей к северу, неширокое русло которой угадывалось по змеящейся кайме тополевника.
К вечеру из юрты вывалились Деркем с Лоузаном, следом выглянули незнакомые калмыки, целая толпа повалила куда-то на окраину улуса. Проходя мимо связанных казаков, Деркем, не глядя на Чередова, уронил:
– Чево твоя хотел, Иван?
– Сам знаешь, чево. Ружейный слесарь записан в тобольских мастеровых. Живет в посаде. Зачем его у себя держите?
Деркем переглянулся с окружением, что-то спросил.
– Выспрашивает у своих улусных: ружейник сам ли к ним пришел? – перевел толмач.
Деркем повернулся к Чередову и говорил долго.
– Улусные люди сказывают, сам пришел. И просит отвести его к великому контайше, – тихо перевел Петров.
Чередов даже передернулся весь.
– Так он, пес, воровски из Тобольску ушел. Никто его оттуда не извергал. Он же вор! Мы его и сдадим дома как вора!
Обдумывая слова Чередова, Деркем качался из стороны в сторону, заложив руки за скрученный жгутом шелковый пояс. И спросил:
– Ты, Иван-бакши, в ургу идешь? Ты сам себя послал?
– Царь и губернатор. Тебе об этом в Тобольске толмачено было.
– Ты, Иван, называешься дома головой, но тебя послали. Так?
– Так, твою мать! Скажи ему, чево он изгаляется, ему ж все известно.
Петров терпеливо перевел, исключая только Деркемову мать. Деркем погладил живот и, уходя, бросил:
– Ты не сам идешь в ургу. Тебя послали. Ружейник сам идет. Не трожь его, мирно будет.
Чередов надолго замолчал, уткнувшись подбородком в грудь. Его вывел из задумчивости голос Скорнякова:
– И чево ж ему, мастеровому человеку, в Тобольску вашем не жилось? Ну, люди у вас. Я второй год уже томлюсь в орде и все уйти не могу. Меня под Самарой на покосе взяли. Налетела орава, и всех наших деревенских, кто был на лугах ночью, перевязали. Вас увидел – в радость было! А вышло, что из одной орды да в другую. Нет, у нас я такого случая, чтоб наш самарский да в орду самоходом, по доброй воле, не могу я такого припомнить. И что у вас там, в Тобольску, за жизнь такая, коли бегут люди?
– Люди как люди, – хмыкнув, без злобы ответил Чередов. Он сам недоумевал: что могло сорвать с места Зеленовского? И что он у контайши делать будет? Там оружие – стрела да сабля. И ничего не понимая, досадуя на веревку и на самого себя, Чередов все же выместил досаду на Бородихине и Немтинове:
– Вернемся в Тобольск, вы у меня начнете иначе служить. Будете у меня по полдня не только таловые прутья рубить. По целым дням почнете учиться друг друга вязать. Стыд какой – двое одного повязать не могли, а теперь вот все сидим, опутанные.
– Напрасно ты, Иван Митрич, укоряешь нас, – вступился толмач за спутников, – ну повязали бы его. А потом куда? Мы уж третью седмицу в пути. Эвон куда ушли! Что он тебе дался, этот Зеленовский? Да укупили его контайшины торговцы. Деркем тот же. Нужен он контайше для заведения огненного бою. Промеж себя они толковали, удивлялись, больно высокую цену урус ломит.
– Ты человек не оружной и в казачьи дела не суйся, – огрызнулся Чередов. – Они мое слово не сполнили. А что далеко заехали, то не лихо. Люди мы воинские, шерть казачью давали, саблю целовали и службу повсюду справлять должны. А кабы ты ранее сказал, мол, укупили ружейника, я б его там, в кустах, когда он, бесштанный, вырывался, и зарубил бы… – на этом Чередов осекся. Казаки расхохотались. Бородихин спросил ехидно:
– Эт чем же ты его, Митрич, рубить бы стал? Ты свою саблю в Таре на гвоздик повесил…
Чередов понял: занесло его и, делать нечего, тоже хохотнул:
– А хоть бы и прутом черемуховым засек. Или бы подошел вон к тому калмычонку молодому с поклоном, дескать, одолжи, любезный-дорогой, сабельку ненадолго – нечисть тут у вас в улусе завелась, с пути христианского скособочилась, надо ей шею малость поправить…
Повязанным посольство просидело до утра. Всю ночь рядом топталось несколько караульных калмыков. Утром из юрты вышел Зеленовский, за ним вынесли немудрящие его пожитки, и среди них оказался большой деревянный ящик. Чередов вспомнил его, он видел этот ящик в той кузне, где слесарь чинил ружья. Тогда ящик был полон всяких ключей и напильников, каких-то незнакомых казаку железных приспособлений. «Ишь ты, сволота, всю свою снасть прихватил. И как это наши пикеты смотрят, коли он с таким шкафом во вьюках мимо прошел», – изумился Чередов.
– Эй, оружейник! Ты в Тобольском не всю снасть забрал, – прокричал он Зеленовскому, – забыл кой-чего.
– О чем ты лаешь, собака гагаринская?
– Ты забыл на Панином бугре кол осиновый себе вырубить. Осиновый кол – он и в зюнгорской земле осиновый, и в твою могилу, как в дерьмо, войдет. Ты думаешь, свои рученьки золотые продал? Ты Христа продал! Креста на тебе нет!
Калмыки невозмутимо седлали и вьючили лошадей. Зеленовский отделился от своих провожатых, подошел к Чередову, на ходу расстегивая рубаху:
– Верно пролаял, приблядок гагаринский. Нет на мне креста! – И швырнул сорванное с шеи распятие прямо в лицо Чередову.
Казачий голова бессильно плюнул вслед Зеленовскому.
Сильный ветер ходил долиной реки с самого утра. Клонились оголенные тополя, сбрасывая лишние и слабые ветки, деревья над рекой словно пытались заглянуть в ненастные очи предзимья. Откуда-то из недальней степи пронесло высоким ветром над кочевым улусом серый шар перекати-поля. Он пронесся над тополями, ударился о маковку взгорья на противоположном берегу и, не задерживаясь, вприпрыжку покатился за дальнюю седловину, сливаясь с окрестностью.
Проводив небольшой отряд калмыков, с которыми ушел Зеленовский, Деркем велел развязать казаков. Почесывая носы и протирая рукавами глаза, те только покряхтывали, разгоняя немоту в суставах. Не давая времени на долгий роздых, Деркем, уже сидя в седле, что-то говорил толмачу.
– Что он лопочет? – спросил Чередов.
– Говорит, чай будете пить в другом улусе. Тропа идет по реке, никуда не сворачивать. И самарскому велит идти с ними.
Заседлали лошадей казаки и понуро пошли вслед за ускакавшими калмыками. Сзади посольство никто не сопровождал, не караулил.
Улусы стали встречаться все чаще и чаще. Джунгары и киргизы постепенно скатывались с горных пастбищ, чтобы к разгулу зимы успеть укрыться в калмыцких долинах Лепсу и Каратала. Теперь посольство ночевало не в улусах, а на окраинах кочевых селений, где указывали калмыки. Коли надо урусам в ургу – будут послушны.
За неделю до Покрова пошли затяжные дожди, застилавшие и ближние горы, и долину реки, по которой вслед за калмыками поднималось посольство. Дождь сменялся мокрым снегом, таким густым и плотным, что порой приходилось сдирать его с лошадиных морд. Набрякшая влагой одежда едва успевала провялиться у костров. «Только бы никто не скапустился, хворых не дай бог», – думал Чередов, глядя на своих спутников. В навечерие Покрова, когда люди готовились к ночлегу в жиденьком редколесье, Деркем передал Чередову, что дальше путь пойдет совсем без леса. Надо брать с собой запас дров. Запасные лошади тащились теперь следом, навьюченные связками еловых и можжевеловых сучьев. Снег уже лег плотно, и только его влажная податливость говорила о том, что выпал он недавно.
Через пять недель пути караван вышел на ровное плато, и костер развели уже в потемках. Ночью крепко приударил мороз, так что, когда Чередов поднялся из-под бараньего кожушка, чтобы взглянуть на лошадей, он сперва своим глазам не поверил – так низко и густо висели над ним звезды! Он обалдело глядел на сверканье неба, забыв, зачем он здесь, в этом вечно закрытом тучами каменистом краю. Скалы зубцами возвышались на горизонте, они были иссиня-черны и однолики под светом молодого месяца. Темное чистое небо обещало ясный день.
Утром казаков разбудило необычное оживление среди калмыков. Они все разом выбрались из-под заснеженных овчин и, опустившись на колени там, где их застал сон, начали истово шептать молитвы. Лица молящихся были обращены к югу. Оттуда, казалось, с самого неба, разливалось белоснежное сияние открывшейся вершины горы, как будто врезанной в необоримую серыми тучами высокую синеву. Калмыки неотрывно смотрели в сторону горы, и слышалось благоговейное: «Ом мане падме хум».
– Что они могли там увидеть? Что твердят?
– Гору увидели. Мы с тобой чему молимся? Они молятся горе. Промеж себя ее не называют – запретно, но сказывали бывалые люди, что она у них прозывается не то Мустаг, не то Музарт.
– Про что ж они шепчут? Ишь, вон какой-то «хум» повторяют…
– Знал бы – сказал. Вроде какое-то свое сокровище поминают, какой-то цветок.
Доселе Чередов не удивлялся, когда наблюдал, как после удачного брода или прощаясь с очередным перевалом, калмыки оставляли на приметном дереве какой-либо лоскуток, а на камень клали куски мяса или курта. Таких чудес он и в Барабе насмотрелся, да и остяки так же поступали при нем на Оби. «А тут почти как у нас за молитву взялись», – заметил про себя Чередов, и щепоть его правой руки невольно взлетела ко лбу, упала к груди и коснулась плеч. Остальные казаки, глядя на него, тоже перекрестились.
Пониже заледенелой громады гор, как бы парящей над всеми остальными, налево и направо цепью простирались ее подобия – такие же островерхие и неприступные. Сияющая ледово-каменная гряда низвергала на путника весь свой размах, и казалось, в этой поднебесной зубчатой стене, отгородившей от мелких сопок и степей ту неведомую страну, куда направлялся Чередов с казаками, нет и не может быть никакого прохода, никакого просвета. И под ногами был лед, усеянный глыбами камней, острой щебенкой. Караван стоял на самом языке ледника, из-под которого источалось воркование родившегося ручья.
После калмыцкого моления двинулись вверх по леднику, а гора нависала над путниками не один день до тех пор, пока весь караван не втянулся в каменистое ущелье. Узкая полоска неба светлела вверху, как будто люди двигались по дну глубокой и совершенно прозрачной реки.
Ущелье кончилось неожиданно – караван оказался перед продуваемым со всех сторон гольцом на обширной седловине. Калмыки стеснились у подножия гольца и стали доставать кто откуда небольшие камни и бросать их в одну кучу. Деркем глянул в сторону Чередова:
– До урги осталось семь переходов.
После перевала дорога не стала ровней и безопасней, порой она шла по узкой полочке карнизов над пропастью, но она вела вниз, в затопленную дымкой чашу высокогорной степи. За день до выхода в долину реки Или с отрогов хребта казакам стала видна просторная округа, покрытая мелкими бледно-коричневыми сопками, совсем как в степи, где кочует кайсацкая орда. Но здесь, в глубокой чаше, окаймленной заснеженными горами, лежала страна совсем иная: там и сям виднелись признаки жилья и даже различался далекий город, как потом узналось, это была Кульджа.
Посольство вышло к берегу Или в конце октября. На противоположном берегу, за завесой пыли, взметенной холодным ветром, тысячами кибиток и юрт лежала урга – ставка Великого хунтайджи Цеван-Рабтана. Изредка среди островерхих калмыцких юрт проглядывали плоские крыши домов. Ни единого минарета не возвышалось над этим скопищем войлочных крыш, Великий хунтайджи не терпел в своем окружении правоверных.
Деркем оставил посольство на берегу, сам переправился на ту сторону, где мычала и блеяла ставка, предупредив Чередова, чтоб он дожидался его здесь. Тарскому казаку такой порядок не понравился, и он вслед за Деркемом послал своего толмача Петрова – так и было велено поступать самим Гагариным. Петров вернулся к вечеру не один, впереди него на добром жеребце красовался крупный, мясистый калмык, одетый в дорогой пестрый халат с меховой опушкой. Петров сообщил:
– От контайши человек, зайсан Чинбиль.
Чинбиль небрежно окинул взглядом сваленные прямо на берегу вьюки, изнуренных дорогой людей и понуро замерший табун голодных коней. Похоже было, что его вовсе не интересуют эти пришлые люди, и он приехал к ним лишь для того, чтобы спросить: «От кого посольство?» Этот вопрос и услышал Чередов.
– Передай Великому контайше, что прибыли мы с листом на его высокое имя, – твердо выговорил тобольский посланник, глядя на Чинбиля.
Тот, не удостоив Чередова взглядом, ткнул в его сторону костяной, изузоренной серебром рукоятью камчи:
– От кого лист? От царя Белого? Или губернатор послал?
– Петров! Растолкуй господину зайсану Чинбилю, что так про наше царское величество разговаривать непристойно, – принялся наводить посольский лоск на грязном берегу Чередов. – Пусть спросит: от царского ли величества я приехал или от губернаторской светлости…
Совет на калмыка не подействовал. Он коротко спросил:
– От кого человек? Из какого города?
Получив пространный ответ – Чередов говорил заученные слова, как в Тобольске наставили – Чинбиль повернул коня к броду.
– Узнай, – поторопил Чередов толмача, – когда меня до контайши допустят?
Петров прокричал все это вслед Чинбилю, но тот, даже не придержав коня, проговорил что-то отрывисто.
– Ну? Что? – спросил Чередов.
– Сказал, ждите. Позовут.
– Где ждите? На голом месте? Толмач молча пожал плечами.
Чередову пришлось ждать почти месяц. Первые дни отряд стоял табором, прямо у переправы. Урга источала тысячи дымов в холодное небо – никто не звал тобольских посланников. Глава посольства наконец плюнул на такое глупое, неустроенное житье и велел казакам найти где-нибудь поблизости удобное место в урочище: кормить коней нечем, под открытым небом ночевать все труднее – холода подступают. Надо, на худой конец, хотя бы ошалашиться. Отошли версты три вниз по реке, забрались в заросшую ильмом забоку и соорудили два шалаша, накрыв их ветками джиды. Житье показалось более сносным, когда в шалашах расстелили вместо потников пестрые теплые кошмы – их купил у найманов, направлявшихся с торгом в Кульджу, расторопный Бородихин.
Каждое утро начиналось с чертыханья Чередова, что он больше ни в какое посольство не пойдет, пусть его хоть на площади плетью секут. И каждое утро он брал с собой толмача и, торя тропу сквозь заросли хмеля и шиповника, выбирался к переправе. Толмач неторопливо выводил Ивана Дмитрича из состояния угнетенности.
– Тебе, Иван Митрич, не зря сказывали в Тобольску: сядь в канцелярии у воеводы, прочитай, какие есть, старые статейные списки. И допрежь тебя с контайшой пословались. Там ведь много чего про калмыцкие завычки отписано. Зачем тому дивоваться и досадовать – не зовут нас. Все ждали. И нам придется ждать.
Но Чередов ярился и посылал вновь и вновь толмача в ургу. Тот возвращался ни с чем. Снег с окрестных гор мало-помалу спустился к самым закрайкам речной долины, прикрыв подножие склонов. У переправы стали редеть торговые караваны, идущие в Кульджу и обратно, реже раздавалось размеренное натруженное дыхание верблюдов и мулов, которых погонщики правили в ургу. Петров, сидя у переправы, пытался уловить по случайным разговорам, какой караван, откуда прошел. Иногда он напрямую спрашивал караванщиков, и те отвечали, что идут из Эркета, другие называли Кашгар или Аксу. Попадались и торговцы из Большой Бухарии, из Андижана и Коканда. Искаженные разноязычьем названия городов с трудом узнавались, а иные и вовсе были внове для сибирского слуха. Петров переводил свои разговоры с торговцами не очень уверенно, идя к смыслу на ощупь, но Чередов каждый день заставлял его сидеть у переправы и слушать, о чем беседуют путники, что несут эти обрывки разговоров, плывущие мимо, как осенняя листва по Или. Указывая на людей в полосатых халатах и тяжелых бараньих шапках, Петров тихо рассказывал сидящему рядом главе посольства:
– Эти идут с коврами из Мерва. После них в зиму больше никаких караванов не будет, они еле прошли через гору Музарт – снегом перевал завалило. Теперь до весны хода в Малую Бухарию и из нее нет.
Разноязыкий, разноликий, пестрый азиатский мир, объединенный караванным ритмом жизни, медленно струился двумя встречными потоками вдоль берегов Или, погруженный в вековечную думу о превратностях пути, о том, как миновать смертоносные воронки военных завихрений, возникавшие неожиданно на ветвях Великого шелкового пути. Здесь же, на переправе через Или, купцы зачастую столковывались с вооруженными калмыками, за какую плату проводит воинский человек со своим отрядом караван до граничных земель с Китаем или Авганом. Охраны не нанимали только китайские купцы. Уверенные в своей неприкосновенности, они вели себя вольготно. Высокое покровительство Канси простирало и до берегов Или свою длань, оберегая покой над плоскими войлочными шляпами китайцев и за пределами Поднебесной империи. В пестроте караванного потока, пересекавшего пределы Джунгарского ханства, не были видны разве что глубокие лисьи треухи киргиз-кайсаков. Петров проведал у бухарских людей, что нет в этом году крупной сечи между кайсаками и зюнгорцами, даже мелкая порубежная баранта прекратилась. Чередов слушал тихие рассказы толмача и мотал все эти случайные новости на ус.
В один из поздних дней ноября почти половина урги вдруг пришла в движение, и бесконечная вереница кибиток двинулась по Или к ее верховьям. Чередов вопрошающе глянул на толмача. Ни слова не говоря, тот быстренько смотался в ставку контайши. Вернулся возбужденный:
– Снимаются на Хоргос. На Хоргосе у них зимовка, туда откочуют.
– А контайша?
– И он туда же уйдет.
– Придется и нам на этот Хоргос?
– Лучше здесь подождем. Может, еще позовут.
Позвали. Так неожиданно, рано утром позвали, что Чередов, когда появился посланный от контайши Чинбиль, долго и суетно рылся в тороках, отыскивая свой посольский наряд, наконец он оделся в кармазинового сукна однорядку с желтыми шнуровыми петлями застежек и нахлобучил пофорсистей высокую поярковую шапку. В ургу с казачьим головой пустили только толмача Петрова, тоже приодевшегося в свежий ездовой кафтан. Подседлали еще одну лошадь, как того требовал обычай, и навьючили подарками для контайши. Губернатор Гагарин велел отобрать для подношения только фряжские товары: тончайшее сукно из Лондона, итальянский бархат, серебряные тарелки немецкой руки – и ничего китайского брать не велел. Пусть контайша видит, что у русских водятся вовсе не знакомые калмыкам вещи из тех стран, о которых калмыки, может быть, и слыхом не слыхивали.
Легкий снежок навевало сверху, он успевал тут же растаять, едва ложился на гриву коня, на рукав, на кожаный футляр с письмом от царя, которое вез контайше Чередов. Урга уходила с обжитых за лето стоянок – чернели круги утоптанной земли на месте снятых юрт. Редкий снег был бессилен прикрыть всю срамоту, накопившуюся за лето вокруг жилищ и овечьих загонов. Перед глинобитным, приплюснутым к земле дворцом контайши, однако же, было малость почище, и Чередов перестал брезгливо морщиться. Разглядывал ворота, ведущие во дворец. Ничего особенного они собой не являли: два столба, обозначавших проезд, возвышались над глиняным дувалом. Пышность воротам придавала многочисленная стража с копьями и саадаками, и Чередов походя отметил добротность и узорчатость кожаных колчанов, набитых совсем не безобидными стрелами с плоским оперением. «Не больно казисто живет их владетель, – думал Чередов у глиняной стены летнего дворца контайши, пока Чинбиль находился в покоях, сообщая о прибытии русского посольства, – у нашего губернатора палаты каменные, а этот глиной довольствуется», – вспомнил казачий голова тобольские хоромы Гагарина. И тут же в памяти всплыли напутствия губернатора: «Там особо не робей. Не пристало нам перед контайшой шапку ломать».
Шапку ломать все же пришлось, но не свою и не сразу, а много позже того, как оказался Чередов в просторной глубине дворца, где на небольшом возвышении, покрытом коврами, восседал Великий хунтайджи Цеван-Рабтан. Огонь нескольких очагов освещал стоящих около контайши зайсанов. Одетые в пышно пестрые халаты, они охватывали ложе своего властителя серебрящейся мерцающей подковой. Перед Цеван-Рабтаном поблескивала ценинная китайская посуда. Сам он как бы таился в глубине играющей бликами дорогой посуды и прочей утвари. Над лениво-надменными глазами хозяина дворца нависала роскошная меховая шапка с алым парчовым верхом. Полы раззолоченного халата были различимо грязны даже при неярком свете.
Чинбиль, кланяясь низко-низко, проговорил что-то негромко и коротко, обращаясь к контайше.
– О тебе докладывает, о письме, – перевел шепотом Петров, – он закончит, и тебе можно начинать.
Чередов никак не ожидал, что голос его осечется с первых же слов. Но так вышло, что, едва он заговорил о подарках, как голос подвел его. Никто на это внимания не обратил, контайша – тем более, он впервые слушал русского. Чередова вслед за оплошкой озадачило другое – контайша не встал принимать не только подарки, но и письмо велел взять одному из зайсанов, а подарки как бы смел взмахом руки в глубь сумрачного зала. Пока длилось шуршание церемонии с передачей подарков, Чередов прокашлялся, проверяя голос, и стал ждать, с чего же начнет контайша.
Тот заговорил, бесстрастно глядя на русского.
– Как здоровье твоего царя? – повторил Петров вслед за контайшой.
– Скажи ему, – полуобернулся к толмачу Чередов, – о нашем царском величестве надлежит говорить, сняв шапку.
Эти слова несколько озадачили контайшу. Но шапки он не снял и, не меняя позы, спросил:
– Что в письме написано? С чем приехали?
– В письме писано по таким пунктам, – приступил к изложению цели своей миссии Чередов. – Первостатейно писано, что иноземцы, живущие в Барабинских волостях, есть его царского величества ясачные люди, что платят они ясак его царскому величеству искони. И что к тем иноземцам приезжают контайшины люди и чинят великую обиду, и берут ясак с них… Вторая статья о том остроге на Бии и Катуни, который люди контайшины разорили. Острог поставлен по указу его царского величества на русских землях. Где Бикатунский острог – те земли царские, сибирские, а не контайшины, потому сибирские реки Обь, и Енисей, и Лена – искони наши от устья, где впали в Северное море, и до гор, из которых реки те потекли, – это земля царского величества. О том и самому Эрдени Журукты контайше ведомо. А в третьей статье его царское величество разрешает калмыцким торговцам торговать во всех сибирских городах беспошлинно, акромя как черными соболями и лисами чернобурыми…
Контайша выслушал слова толмача без оживления на лице, но когда заговорил сам, что-то в нем зазвенело повелительское, раздраженное.
– Разве неведомо Белому царю, что контайша на Барабинских землях кочует и они его издавна? – с оттенком утверждения перевел Петров.
– Ты еще раз ему скажи, что о нашем царском величестве надлежит говорить с вежеством и без шапки. Коли не так, то я и отвечать не стану, – приказал Петрову губернаторский посланник.
Контайша выслушал возжелание, и возникла неловкая пауза молчания. Неизвестно, сколько она продлилась бы, но тут раздался голос Чинбиля, обратившегося к контайше.
Петров нашептывал, склонившись к уху Чередова:
– Растолковывает, что-де у нас, у русских, как Богу молятся стоя и без шапок, так и о царском величестве говорят только стоя и непременно сняв шапку…
Помолчав, контайша медленно потянулся к шапке и обнажил сухой морщинистый лоб и глубокие заливы залысин. Следом за ним поснимали шапки зайсаны. Цеван-Рабтан указал Чередову место подле себя. Тот молча сел. Теперь, казалось, разговор пойдет поспокойней. Ан нет.
– Белому царю должно быть известно: еще когда правил Батыр-хан, кочевали ойраты под Ямышевым и в Барабинских землях.
– На такое мне велено сказать, – отвечал Чередов, – многие иноземцы под Астраханью, и Самарой, и Царицыным, и под иными многими городами его царского величества кочуют, а своей землей те места николи не называют и ссоры с людьми царского величества, как учинилось под Кузнецком, как на Бии и Катуни случилось, никогда не чинят.
– Много ли любезности от Белого царя получает хан Аюка? – снисходительно поинтересовался контайша.
– При хане Аюке каждодневно, по указу его царского величества, находится пять тыщ оружных людей из самого стройного и ученого войска для береженья хана. Сам хан Аюка царскому величеству служит и радеет верно и отсылает в крупные баталии, которые ведет его царское величество, по нескольку тыщ конных людей. Совсем недавно отряжал к Азову на оборону от турок и крымских татар большое войско.
Что-то, видимо, не понравилось в этих подробностях контайше, и он спрятался за вежливый вопрос:
– Где находится Белый царь?
– При своем флоте…
О таком предмете, как флот, контайша беседы не продолжил, а спросил:
– Что еще хотел сказать посланник?
Статейные вопросы посольской миссии были уже названы все, и Чередов перешел к тому, что накопилось у него за время долгого перехода от Тобольска до урги.
– В дороге на Иртыше контайшины люди забрали и увели полоняника, бежавшего из Казачьей орды, самарского жителя Скорнякова. Скорняков – подданный его царского величества. Калмыцкие люди, коими начальствовал Деркем, забрали у Скорнякова лошадей, на которых он убежал из орды. Пусть Великий контайша велит отпустить Скорнякова к дому, в свою землю.
– Что еще?
– Там же, в урочищах за Иртышом, встретился нам беглый тобольский ружейник Зеленовский, воровски ушедший из города. И его домой воротить надо.
– Еще?
– Велено мне дождаться отповеди на все статьи, указанные в поданном мне листе, а коли ответа не будет, то писал бы Великий контайша к его сиятельству господину губернатору сибирскому князю Гагарину в Тобольск.
Контайша молча надел шапку, давая понять, что разговор закончен.
Чередов с Петровым вернулись в свой табор в полном неведении о том, когда и какой они получат ответ и получат ли они его вообще. Однако перемены к ним сказались на следующий же день. Посольство водворили в глиняный дом в самой урге, и в котлах над очагом забулькало баранье варево, задымился густой чай. Но этих радостей хватило на неделю. Неопределенность ожидания затянулась и давила на одуревших от безделья казаков. Никто их никуда не звал, и за стены почти опустевшей ставки их не выпускали. Почти каждый день заглядывал к ним с двумя-тремя калмыками Деркем, чтобы удостовериться: «Живы, урусы? Сыты, урусы?..» Уже и февраль катился к середине – никакого ответа. После откочевки контайши на Хоргос жизнь в урге притихла, только небольшой сторожевой отряд охранял летнюю стоянку Цеван-Рабтана. Еще в самом начале житья на контайшиных харчах молодой казачок Бородихин, забавляясь от безделья, спросил у Деркема:
– Коли ты к нам приставлен в догляд, может, прикажешь баньку нам истопить?
Петров с улыбкой перевел бородихинскую просьбу. Деркем не уловил издевки, принялся всерьез растолковывать, что у них нет никаких бань. Зачем баня? Когда человек моется, он свое счастье смывает!
Бородихин долго хохотал над такими словами, продавливая слова сквозь судороги веселья:
– Так мы… считай, полгода… как самые счастливые без бани. А контайша? Он тоже счастливый?
Деркем ошалело смотрел на катавшегося по кошме казака и кричал:
– Чутхур? Чутхур?
– О чем он спрашивает? – просмеявшись, обернулся Бородихин к толмачу.
– Спрашивает, в тебя черт вселился? Что ты так ржешь? Видно же, не по ноздре ему твои шутки.
Деркем разозленно хлопнул дверью, на прощание пообещав свезти Бородихина к ламе – пусть он чутхура из уруса выгонит. Казачок посерьезнел и заключил, что негоже христианину к ламе на чистку ходить. А Чередов стал над насмешником сверху:
– Ты чужую жизнь не трожь! Пустобрех! У них на все свой закон, и тебе в нем понятья нету. Без закону да без уряда, ты думаещь, они смогли бы под собой столь городов и земель держать? Шиш! А ведь от мунгалов до Малых Бухар – все под контайшой!
Чередов явно осторожничал и спустил свою злость на молодого для острастки – а ну как забияка еще что-нибудь с калмыками выкинет. А еще нет никакого ответа на лист, нет известия, отпустят ли Скорнякова. Да еще как с этим вором Зеленовским дело обернется?
А все же как ни старался Чередов с уважением относиться к укладу калмыцкой жизни, но и он однажды пришел с берега Или весь взъерошенный. Бестолково потоптался у огня, озираясь, и низким, не своим, голосом проговорил:
– Андрюшка и ты, Петров, ступайте на берег. Там, под обрывом мальчонка мертвый лежит. Уже над ним воронье и собаки шалавые кружат. Хоть ногтями землю сгребите – закопайте, упокойте мальчонку.
– Какой мальчонка? Кто его? – медленно поднялся с кошмы Бородихин, вцепившись взглядом в старшого.
– А никто. Сам, видать, помер. Стою я, на реку смотрю – уже и забереги пошли. Тут подъезжает один из деркемовых охранников и волочит на веревке за собой этого мальчонку. Подъехал к обрыву, сметнул мальца вниз и уехал.
Казаки ушли на берег. Вернулись без слов, смурные и, не глядя друг на друга, уткнулись каждый в свой угол.
На следующий день Деркем, когда и Чередов не утерпел, а стал расспрашивать: «Как же так? Человека за всяк – просто собакам выбрасывают?» – ответил спокойно, давая понять, что ничего необычного не произошло:
– Если умер ребенок – не надо хоронить в землю. Его душа полетает по свету и попросится снова к отцу, к матери. И плохой ребенок может снова родиться. И снова умрет. Зачем такой? Надо обидеть плохого покойника, чтоб душа его не возвращалась. Так у нас всегда было.
Деркем ушел, а Чередов настолько был ошарашен отношением калмыков к покойникам, что даже спросить забыл, когда дадут отповедь на поданный контайше лист. Бородихин не удержался и принялся рассуждать вслух:
– Вот, вишь ты, у них душа летает после смерти. У нас насовсем улетает, а ихняя дом знает, к возврату стремится. Чудно! Как это я – поживу, поживу, помру, а потом снова нарождаться буду? Нет, такого со мной не станется. Моя душа в раю навечно поселится. А перед тем как ей там поселиться, душа моя, хоть я пока и не помер, летает кажин день над Иртышом. И вот уже вроде бы она, Тара наша, рядом, вот уже и над бором, и над ериком пролетаю, вот-вот поскотину миную, и дом мой в посаде вижу… А проснусь – все ваши рожи рядом да калмыцкое гаркатанье вокруг. Опостылело мне такое посольство.
…Уже на излете февраля, когда урга на Или стала постепенно оживать, ставка возвращалась из долины Хоргоса, Деркем повел Чередова к зайсанам, собравшимся на гулган в большой белой юрте, недавно поставленной у глиняного дворца контайши. Деркем назвал весь гулган Поименно: Чинбиль, Болован, Родой, Абага, Абаши, Бунчюк, Шара, Донжин. Киргизских выделил особо – Сонжюр и Ботю. Переговоры были короткими. Чередову сказали, что выходил их зайсан Духе со своими людьми под Кузнецк, под Томск и под Красный Яр разобрать обиды, почему урусы их ясашных людей утесняют. Но разыскать обидчиков не смог, а потому и воевал городки, людей по селам под Кузнецком брал, но отпустил. А что тот городок на Катуни и Бии сбил, спалил – то городок этот поставлен на контайшиной земле. Духе его разорил, и внове ставить его зайсаны не дадут.
Чередову передали небольшой свиток, где калмыцким письмом были отписаны контайшины слова губернатору Гагарину. Отповедь показалась Чередову короткой, но по-калмыцки он читать не умел, и Петров их письма не ведал тоже. Напоследок Чередов напомнил о Скорнякове и Зеленовском. Зайсаны дружно приговорили: ружейный мастер – теперь подданный Великого хунтайджи, его мы не отдадим, а Скорнякова забирайте вместе с его лошадьми.
Но и после беседы у зайсанов не вдруг покинул Чередов опостылевшую ургу. Пришлись ждать, пока откроется перевал Музарт и станут проходимы Джунгарские ворота – единственная узкая щель в горной цепи, отгородившей Малую Бухарию от Семиречья. Только в последней десятке мартовских дней тобольское посольство двинулось в горы, сопровождаемое все тем же Деркемом и еще двумя торговцами. Караван получился изрядный – калмыцкие купцы шли в Тобольск с тюками китайки и табака, зеленого чая и мягкой рухляди, собранной с подъясашных карагайских жителей и степных охотников, промышлявших волка, лисиц-белодушек и красных. В особых вьюках покачивались на верблюдах золоченые китайские кумганы. Перед самым выходом Деркем, как бы ненароком, постарался известить Чередова, что он везет на тобольский торг. Уже изведал калмыцкий купец, как дойдет дело до тарской таможни, так и потребуется покровитель. А уж если такому человеку, как Чередов, доверяют царские письма возить к самому хунтайджи, то в Таре он – не просто казачий бакши. Скажет свое слово, и никто не тронет деркемовских тюков с товаром.
Трудно перевалив Музарт, караван надолго застрял в урочищах Чаган-Узуна. По окрестным калмыцким улусам носились всадники, собирая воинов, – киргиз-кайсаки подступили к горам. Весь май просидел Чередов на Чаган-Узуне – никого в путь не выпускали. И вот потянулись к калмыцким улусам, поднимаясь от низовий, вереницы пленных кайсаков. Джунгары праздновали победу. Однако же и воинская удача не успокоила распорядителей каравана. Посольству и торговцам была выделена охрана в сто конных калмыков и столько же теленгутов. Вооруженные всадники провели караван опустошенной степью, даже пастушьих кочевок не встречалось. Охрана покинула Деркема и Чередова только на берегу Иртыша.
Вид каменистого правого берега Иртыша, заросшего красноствольными соснами, вызвал у казахов вздох облегчения – ну вот и дома почти, родным повеяло. На подходе к Семи Палатам, где караван собирался стать на дневку, Чередов рассудил: ордынские места миновали, кайсаки сюда после побоища не выйдут, на правом берегу – телеутские кочевья. Их, телеутов, не перестают доить алманщики контайши. Не ровен час, придется встретиться с большой откочевкой телеутов, авось удастся разойтись миром, все же посольство, да еще от контайши. А коли так, то ради чего ему, Чередову, тащиться рядом с верблюдами Деркема? От Иртыша надо идти наособицу от каравана, идти скорой рысью – душа вперед коня летит! Как только вышли к месту дневки, Чередов с толмачом подъехал к Деркему и объявил: дальше посольство пойдет само по себе, а торговцы – сами по себе. Посольству в Тобольск раньше надо поспеть.
– Ты, Деркем, вдругорядь идешь в Тобольск. Дорога известна. Давай мимо Тары токмо не проходи. Коли разминемся, я тебя сыщу в Тобольском, на Посольском дворе. – С этими словами Чередов уже было тронулся к плавежу через Иртыш, но, оглядев своих, не досчитал Бородихина.
– А этот вертун где?
– Да он все обочь того верблюда ехал, на котором Деркемова женка качается, – хохотнул Немтинов. – Ишь, кобелина, не считается, что муж рядом, все ей какие-то знаки подавал. И то – по бабе стосковался.
– Все стосковались! Вот я ему покажу и Деркемову женку, и кузькину мать! – озираясь по сторонам, пригрозил Чередов.
Нетерпеливее всех ждал переправы Кузьма Скорняков. Ему все еще не верилось, что он через несколько дней будет среди своих, где-нибудь за стенами острога или крепости, а самое большее – через месяц доберется до Тобольска. Самарец первым спустился к воде и ждал остальных, неотрывно глядя на правый берег. Конь под ним разбрызгивал копытами звонкую гальку, словно понимая седока, всю его дрожь улавливая чутким телом.
Бородихин появился совсем не оттуда, куда поглядывал раздраженно глава посольства. Андрей вывернулся из-под невысокого яра, подступавшего к Иртышу, и по мокрому бечевнику поскакал к своим.
– Я подумал, вы прямо к Палатам, – оправдывался он. – Я вас там ждал. Какой чемер вас тут к берегу прижал?
– Щас будет тебе чемер, как выстелю кнут по хребтине! – взъярился Чередов. – Где тебя носит нечистая? Или в тебя взаправду чутхур вселился! – ругался голова. – Плавиться на ту сторону надо, а его след простыл.
…Вечером на том и другом берегах Иртыша горели костры. На левом горело несколько, цепочкой – караванные, калмыцкие, на правом – один, казачий. Между огней, обозначавших во тьме ширину реки, плескалось и перекатывалось ее просторное тело, устремленное к северу. Огни не досаждали реке – наоборот, в ней как бы прибавилось свету. К отражению звезд добавилась пляска калмыцких огней и одного русского костерочка. Река знала: небесные высокие огни и эти, взошедшие над берегом всего на одну ночь, кочевые, к утру исчезнут, угаснут, и будущей весной, а может быть, уже и этой осенью в высокую воду она смоет кострища, девственно очищая свое ложе для каких-то новых путников.
Казаки, нахлебавшись густого кулеша, приправленного бараньим салом, допивали чай. Каждый молча в себе переживал возвращение на берег, где их, наверное, уже никто не тронет, не повяжет, никто не будет назойливо ехать рядом. Выговаривался только самарец Скорняков:
– У нас на Волге не то. Волга – она пошире. Правда, боры есть такие же красивые, как здеся. Я только глянул на утесы по берегу, еще издали только увидел, так и Жигули свои вспомнил. Здеся таких нет. У нас столбами! На них с воды глянешь – шапка падает. А как наверх заберешься да посмотришь – Самару видать!
– Куликуешь, как тот кулик, – беззлобно прервал самарца Бородихин. – Иртыш тебе, вишь, не нравится. Он тут еще молодой, да еще не в силе. Он заматереет, как с Тоболом сойдется. Вот там и посмотришь – в Тобольском, с Троицкой горы. Только смотри, как зайдешь на гору, вниз недолго заглядывайся, а то полетишь вперед шапки. Долго до воды лететь. Костоправов в Тобольском мало, а тебе надо берегчи кости-то, чай, до Самары долго-долго еще странствовать…
– Да не дольше, чем в орде мытарили. И с вами в калмыки угодил – год прибавь.
– Нешто их у вас на Волге нету калмыков? Я слыхивал, там, на Волге, хан Аюка. Он какой-то сродственник тому контайше, к которому мы ходили. Аюка хоть и под рукой нашего царя ходит, да слышал я, что народец у Аюки коварный. А хошь, я тебе грамотку дам на случай?
– На какой случай?
– Ну, попадешь в полон к своим калмыкам ал и еще как, а у тебя грамота! Скажешь, от контайши в самой Урге получена, именная. Вроде как на беспрепятственное житье в любом ихнем улусе…
– Нет таких грамоток! Врешь!
– А это видал? – Бородихин выхватил из-за пазухи узкий свиток и прихвастнул: – Золотом писана.
– Ну-ка, ну-ка, что там за грамотка? – приподнялся на локте Чередов.
– Да так… – попытался спрятать свиток Бородихин.
– Покажи! – с угрозой проговорил Чередов.
Бородихин молча протянул свиток.
Казачий голова с хрустом развернул сухой пергамент, подаваясь всем телом к огню. Поглядел недоуменно на золотистые знаки, побегал глазами в дебрях непостижимых завитков и, не зацепившись хотя бы за один разумом, позвал:
– Петров! Погляди.
Петров ткнулся носом в лист и вернул его Чередову. Тот уставился на Бородихина.
– Ты где его взял?
– Контайша на проводы дал, – шельмовато осклабился Бородихин.
– Андрюшка! Быть тебе поротым. Вот те крест! Как в Тару воротимся – так на козла распну под розги. Где взял? Откуда свиток?
– Это ему женка Деркемова любовь свою так изъяснила, – подъязвил Немтинов.
– Цыц! – одернул его Чередов. – Я прямо тут могу лозы в спину всыпать. Андрюшка! Где взял?
Дело принимало нешуточный оборот. Бородихин теребил пояс, глядя в сторону, выдавил:
– Где да где… зарядил одно. В кумирне взял.
– В какой кумирне?
– На той стороне, где калмыки еще о прошлый год молились. В палатах. Я ж туда вперед всех выехал.
– И что ты там еще напакостил?
– Да ничего я там не напакостил. Там грамоток – ворох! Я одну взял.
– Зачем взял?
– Так просто. Писано больно красиво. Я таких и не видел отродясь.
– И не увидишь, – захрустел пергаментом Чередов, пряча его в кожаный чехол, где лежало письмо контайши к Гагарину.
– Эх, дурак я, дурак! – тоскливо воскликнул Бородихин, заваливаясь на спину и глядя в звездное небо. – Вот приедем в Тару, в Тоболеск, может, случится поехать. Пойду я на любой кружечный двор, а лучше в кабак «Притык», подойду к целовальнику и скажу ему: «Дайка мне двойного вина, больно я по нему соскучился, пока у контайши гостевал, поелику не пьет контайша сам и другим вокруг себя не велит». И только-только целовальник свое нюхало наглое для насмешки надо мной поднимет, дескать, где тебе, маломерку, до контайши, тут я ему прямо к носу эту грамотку и представил бы. Смотри, мол, темень ты кабацкая, чево мне контайша как ближнему приятелю прописал, для меня как для лучшего друга золота не пожалел. И тут, глядишь, целовальник, может статься, тоже вина бы задарма не пожалел. И стал бы я гулять, как полагается казаку после похода.
До Калбасунской башни, по расчетам Чередова, оставалось два-три дня ходу. Жара стояла в белесой степи крепкая, лето было в самой силе. Чтобы не изнурял июльский зной, выезжали до восхода, а когда солнце выкатывалось в зенит и замирало там, отлеживались в прибрежном тальнике, чтобы через час-другой снова не оставлять седла до полных сумерек. В одну из таких дневок, перед тем как нырнуть в благодать тенистого куста, Немтинов вышел на суглинистый яр оглядеться. Вернулся не сразу и между прочим обронил:
– Совсем недалеко впереди нас кто-то берегом идет.
– С чего ты взял? – лениво спросил разморенный Чередов.
– Саженей сто отсюда – балка. Там кострище свежее. Земля горячая.
– На таком пекле все горячее.
– Да нет. Костер в устье ручья жжен, земля под золой не остыла, головешки еще шают.
– Наверстаем. Что там за люди, посмотрим, – позевывая, заключил Чередов.
В нем еще не проснулся тот бывалый доездчик, которого воспитала сторожевая служба. Сейчас ему хотелось одного – развалиться на этой тихой степной земле и наконец-то отдохнуть душой от постоянного стеснения, которое он испытывал, пребывая в ставке контайши да и пока шел под охраной. Погружаясь в дрему, почему-то вспомнил недавние мечтания Андрюшки Бородихина у иртышского плавежа: «…и стал бы я гулять, как положено казаку после похода». Да-а-а… Погулять – не глупо. Погулять – дело молодое. Да и ему, Чередову, должен ведь быть какой-то роздых за исполненный выезд в контайшины улусы, в ставку контайши. А может, и добавка в жалованье за удачное посольство будет… Или мне добавку придется самому учинить, как пойдут через Тару калмыцкие торговые люди? А пойдут они теперь чаще – царь позволил. Пойдут не пойдут, но пора напомнить губернатору, что обещал мне место повыше казачьего головы. Посмотрим, чем князь пожалует…
Тени от тальника поползли по береговому откосу. Казаки ополоснули в реке вспотевшие лица, двинулись вдоль обрыва – у воды хоть малая пощада от зноя.
Ночевать остановились у начала глубокой излуки Иртыша. Когда вовсе стемнело, Немтинов вылез на обрыв и позвал Чередова:
– Я ж тебе говорил, вон они… – указал он рукой на мерцающий огонек.
Чередов спустился к табору и объявил:
– Завтра пойдем без дневного спанья – узнаем, кто там так проворно поспешает.
На следующий день казаки заметили впереди идущих задолго до вечера. Пять всадников шли вдоль берега, не поднимаясь на уступ. «Раз они идут бичевником, значит, хоронятся под берегом, – размышлял Чередов, – боятся, чтоб со степи кто не увидел. С той стороны опаски никакой – тут через Иртыш вдруг не переправишься». Не теряя из виду всадников, шли следом за ними до вечера, а когда неизвестные уже расположились табором, выехали чередовские казаки прямо к огню.
– Здорово ночевать, – сказал нарочито спокойно казачий голова.
– Спаси Бог. Милости просим к нам, – ответил старик, помешивая в котелке. – На наше счастье, спопутчиков Бог послал?
– Куда вам попутно? Да и откуда вы?
– С промыслу, милый, с промыслу. А вы?
– Да ты что, дедок, али не видишь, доезд береговой, – высунулся на свет Бородихин.
– Уж больно далеко вас занесло… – неопределенно сказал старик.
Спутники его молчали.
– Э-э-э, отец! Да разве для казака такой путь – далеко? Через день, глядишь, и Калбасунская башня высунется, а там и Ямыш-озеро недалече, – развьючивая коня, поддержал разговор Чередов.
Старик, пожалуй, был не очень к тому расположен. А на вопрос: «А чево промышляли-то?» ответил уклончиво:
– Да так…
– Так он и есть так, считай, что ничего, – допытывался заигрывающим голосом Чередов.
– Соль в степи приглядывали.
– Аль ямышевская не солона?
– Солона-то солона, да вроде как и на ее ноне подать наложили. А нам не по копейке этакое наложение. Раньше задарма пользовали озеро.
– Ну, так что же в степи? Нашли соль?
– Набрели на одно малое блюдечко – сажен сто поперек будет. Есть соль да вроде горчит чуток.
– А не врешь, что горчит? Старик промолчал.
Ужинали казаки отдельно. Спали тоже чуть поодаль от артельщиков, но за ночь дважды менялся караульный, которого Чередов нарочито выставил у костра. Утром казачий голова подошел к промысловым.
– Ну-тко, отец, покажь мне своих молодцов, дай-ка, я погляжу, что за птицы у меня по степи летают? – И он обратился ко всем сразу, приказывая: – Рукава закатайте до локтя и руки мне вот так, чтобы запястье со всех сторон, показывайте.
Артельщики вначале не поняли, зачем это. Но старик смекнул.
– Ты, видать, беглых рекрутов ищешь?
– Молодец, старый! Их самых.
– Дак у моих робят – ни синь пороху! Никто им крестов рекрутских на запястьях не выкалывал. Мои робятки порохом не тертые.
Молодые русобородые парни стояли понуро, покорно обнажив руки до локтя.
– Откуда ж они будут, твои робятки? Ты вчерашний вечер смолчал на такой вопрос. Да и сам ты откуда, старик?
– Все Коркинской слободы.
Не обнаружив у артельщиков наколотых крестов, которыми в России с петровских пор стали метить рекрутов, Чередов вроде бы пообмяк и переспросил примирительно:
– Коркинские, говоришь?
Старик осенил себя крестом.
– Вижу-вижу, что коркинские, – удовлетворенно произнес Чередов, – там вас, двуперстников непуганых, много собралось.
– Каждый человек по совести своей печется о блаженстве Божьем, – смиренно ответил старик. – Что ж такого, что двуперстники?
– Да, для дела не помеха. Токмо дело ваше мне зело как непонятно. Шибко далеко за солью вышли. А может, и не соль промышляли?
– Как бы тебе сказать. Да ведь и ты со своими заединщиками не больно-то похож на казачий доезд, – возразил старший артельщик. – Ни пики, ни сабли. Какой же доезд?
– Эвон ты как! – насупился Чередов. – Ну-ну. Будет вам и пика, будем вам и сабля, только до Тары дойдем, а паче Тары в Чернолуцкой крепости разберемся, какие вы коркинские. Сбирайте свои манатки, дальше пойдете с нами.
И тут холодные темные глаза Чередова натолкнулись на взгляд пронзительный. Синеглазо смотрел на него молодой артельщик. Как будто дохнуло тем ясным небом, что осеняло горную высь там, перед хребтом по пути в Джунгарию. На Чередова в упор смотрел парень лет двадцати. До светлой желтизны выгоревший чуб прикрывал его лоб, молодая борода сбегала по скулам к воротнику рубахи – парень смотрел исподлобья, уперев подбородок в грудь.
– А ведь я тебя, дядя Иван, помню, – тихо сказал он, не отводя взгляда от Чередова.
– Где ж, милок, мы с тобой сустретились?
– Лет семь назад приезжали вы со своим братом, дядя Яков его зовут, были в нашей слободе. И говаривали тогда, что тарские казаки ни за что не станут носить немецкого платья и бород стричь не станут. Говорили и осеняли себя двуеперстно…
– И как же твоя фамиль, коли ты такой памятливый? – с издевкой спросил Чередов, припоминая все, что говорил молодой артельщик.
– Костылев. Степашка Костылев.
– Ну вот что, Костылев Степашка. Не тебе надо мной разыскивать. Чай, говоришь ты с казачьим головой Тары. И я каждой встречной сопле ответствовать не должен. Сбирайтесь! И чтоб все время ехали впереди, на виду чтоб ехали.
Чередов долго приглядывался к неожиданным спутникам, убеждаясь, не соль они искали в степи. Вокруг Коркинской на Ишиме своих озер – хоть огребись солью. Спать ложатся – котомки не просто бросят, а под голову. Котомки тощие, да, видно, непустые, что-то в них веское. И уж так любовно да крепко они их приторочивают к седлам, будто стекло везут. Чередов вырос в Таре, степь знал. Знал и о том, что не первый десяток лет выходят праздные люди за казачьи пикеты, ищут в степи старые бугры и копают их – клады ищут. И находят. Он наблюдал за коркинскими слобожанами и решался: «А не пощупать ли их с золотого боку?» На подходе к Ямышу он поравнялся со стариком и начальственно обронил:
– Приотстанем.
Приотстали.
– В бугры ходили? – пошел в наступление Чередов.
– А хоша и в бугры, – устало ответил старик.
– Что сыскали – подуванили?
– Не много-то сыскалось…
– Так подуванили?
– Давно, еще в буграх.
– Указ о невыезде в степь вам в слободе оглашали?
– Сказывают, был прочётный[14]. А самому слышать не привелось…
– Давай полюбовно. Теперича со мной находки делить будете. Мне – половину.
– Не по-божески.
– Ладно. Я все по-божески улажу. Всех за преступленье против губернаторского указу – в острог. И тогда все на казну отпишем. Гагарин любит степные находки, слыхивал я. Седни придем на Ямыш. Утром чтоб в моем бауле все положено было.
…После полудня показалась речка Преснуха, а на востоке в мареве едва виднелось соляное озеро. Старый табор за целый год, видно, никому не понадобился: шалаши зимой раздавил снег, и они теперь стояли суковатыми скелетами. Как только развьючили лошадей, нахлебались варева, Чередов сказал Петрову:
– Останешься за старшего. Я – к озеру, обернусь быстро. Приглядывайте за промысловыми.
Не без труда нашел он то место, где опустил в воду крест из тальникового прута. Чередов извлек свою памятку. Стекая с креста, застучал по песку рассол, обнявший деревянный остов сияньем искристых крупинок. Крест стал тяжелым и играл на закатном солнце живым светом – соль сияла. Но некогда было любоваться Чередову его красотой – в табор торопился. Уже подъезжая к шалашам, понял: что-то произошло. Растерянность, с которой встретил его толмач, подтвердила опасения.
– Чего ты весь скапустился? – еще не доехав до костра, прокричал Чередов.
– Артельщики ушли…
– Как ушли? Все?
– Двое. Костылев и еще один.
– Куда ж ты глядел? Раззява!
– Они вроде как на водопой да коней искупать в Иртыше. А сами вплавь на ордынскую сторону…
– Где старик?
– Вот он я, – тоже виновато и с готовностью ко всему показался у шалаша старший из промысловых.
– Ты знал, что твои молодцы утекать собираются?
– Ни сном ни духом! – Старик положил крест.
– А почто упустил?
Старик помялся и, наконец, решившись, глянул на Чередова открыто:
– Тебе, господин голова, самому должно сдогадаться…
Никто из казаков не понял истинного значения этих слов, но после них Чередов отстал от старика, напомнив все же:
– Стало быть, решили по закону, по указу… Так-так.
Оставшиеся артельщики ходили, словно в воду опущенные.
Ночью, озираясь – нет ли глаз посторонних, принес старик тряпицу и молча положил ее под бок Чередову. Рука казачьего головы во тьме разлаписто накрыла сверток, а когда шорох стариковских шагов затих, Чередов приподнял припасенное, прикидывая: «Фунта четыре, а то и боле будет… Хорош подкидыш». Прикинул и подгреб «подкидыша» к изголовью. Полежал неподвижно и вдруг заворочался. «А могло быть не четыре, все семь, не упусти этот полоротый толмач Костылева…» – подумал Чередов и долго-долго не мог уснуть.
Артельщики шли с тобольскими посланцами еще с неделю, а затем старик начал проситься на левый берег Иртыша:
– Нам на Ишим править надо. Тут до Коркиной короче: через Тару крюк верст в полтораста.
Чередов согласился отпустить коркинских. На прощание напомнил:
– Костылеву Степашке и его дружку передай: должок за ними. Али сам в Тару доставит, али я к ему в гости наведаюсь. Ступайте с Богом.
…К началу сентября посланцы Гагарина благополучно пришли в Тару. Разбирая дорожный баул, Чередов положил на стол тряпицу с золотыми бляшками, не разворачивая ее. Он насмотрелся на «подкидыша» в степи. Разные мысли крутились в голове на том пьянящем просторе, но ни одной ясной не было. Вслед за золотом он извлек другой сверток, поменьше, в котором лежал его соляной крест. Развернул – и екнуло в груди! Верхняя перекладинка креста надломилась, и ее половинки, словно руки, сникли книзу, едва держась на таловой коре, да и основа креста была совсем нарушена. На изломе в искристой соляной оболочке виднелся слабый остов с коричневатой рыхлой сердцевиной.
В те дни, когда Чередов с калмыцким караваном спускался с гор, отгородивших Малую Бухарию от киргиз-кайсацкого Семиречья и прибалхашских степей, пославший его к контайше сибирский губернатор был занят делами, на первый взгляд, к Сибири отношения не имеющими. Царь еще одним указом заставил всех царедворцев ставить в новой столице каменные дома, но и в прежних, мазанковых, еще не все обжились. И не во всех петербургских новосвитых дворянских гнездах, от стен которых тянуло болотной плесневелой сыростью и холодом, успел наладиться семейный строй жизни, а уж давай возводи палаты каменные! В хлопоты Матвея Петровича по строительству нового дома поближе к Неве, где позже образовалась Гагаринская пристань, неожиданно вмешивались визиты к самым разным вельможам и по самым разным случаям.
В середине апреля он, выйдя на крыльцо, глянул на усадьбу князь-папы, где рядом с бестолково выстроенными курятниками и поварней возвышалась нелепая хоромина с огромным куполом. На куполе восседал неунывающий Бахус. При виде этой фигуры князя передернуло: голова еще была полна остатками вчерашнего пированья. Царь устроил очередное «некоторое шумство» по случаю прихода в Петербургскую гавань трех купленных в Англии кораблей. Все они – «Арондель», «Армонт» и «Фортуна» – имели на борту по полусотне пушек, и после вчерашнего князю казалось, что он выпил за каждую из них, благословляя каждым бокалом пушечку на русскую службу. А сегодня заседание царевой тост-коллегии должно было продолжаться, это и передернуло Матвея Петровича, но он сошел с крыльца и направился в «Австерию» – царь велел явиться туда. Не пойти Гагарин не мог. Это он – ой как хорошо! – понял на всю жизнь, уразумел еще в Москве, пройдя однажды питейную школу во дворе у князя Ромодановского в Преображенском. Матвей Петрович по какому-то случаю замешкался и припоздал к застолью. Его встречала раскрасневшаяся от вина и жратвы «кумпания» во главе с белым медведем. Встав во весь рост, огромный медведь, выученный охотниками Ромодановского, мелко семенил навстречу Гагарину, держа перед собой на вытянутых лапах серебряное блюдо с огромной чаркой. При каждом шаге медведя из чарки сплескивалось зелье, но и оставшегося в ней любому питуху хватило бы на два приема. А тут все разом надо в себя опрокинуть. Однако не чарка вызвала испарину на лбу Гагарина. Грязное надвигающееся брюхо медведя вонюче телепалось все ближе и ближе, и наконец он замер перед запоздавшим князем, переступая с лапы на лапу. На уровне глаз Гагарина подрагивало в чарке питье и черные медвежьи когти, стиснувшие края блюда. Князь Гагарин уже видел на этом дворе, как отказавшегося принять чарку медведь начинал трепать за волосы. Он представил, как эти грязные когти сорвут с него парик, а там и до живых волос дойдет… И никто не попрепятствует ромодановской потехе, а хохот царя только прибавит веселью дикого восторга. Тогда, стоя перед гогочущей «кумпанией», Гагарин взял чарку и, глядя неотрывно в звериные глаза, опрокинул ее себе на лицо. Медведю было все равно, что водка потекла по щекам и подбородку, по полам камзола. Медведь, исполнив заученное, довольно пал на все четыре и поковылял к рундуку крыльца, а Гагарин, силясь улыбнуться, волочил ноги за медведем. Больше он к царевым застольям не опаздывал.
Здесь, в новой столице, ромодановского медведя не было, но, как только приглашенные Петром собирались в каком-то месте, у входа замирали дюжие преображенцы, и никто не мог покинуть тост-коллегии, не нарезавшись допьяна. В своей неумолимости денщики царя могли и посоперничать с медведем Ромодановского.
Гагарин последнее время ходил на царевы застолья с надеждой: вот-вот Макаров даст ему знать – «Готовься, царь ждет», но Алексей Васильевич беседовал с Гагариным о чем угодно, но только не о его просьбе. Значит, случая не явилось…
И на сей раз Петр после похмельной рюмки в «Австерии» пригласил всех подвергнуть новые корабли апробации, и целый день вся свита на английских кораблях курсировала вдоль невского берега, выходила на взморье и возвращалась. Приглашенный на апробацию хивинский посланник под завывание муллы прощался с белым светом, распростершись на палубе. Да и русские травили за борт не спохмела, а, скорее, от морской качки. Царь похохатывал и крутил штурвал.
Домой Матвей Петрович вернулся после полудня, расхристанный корабельным хождением, и завалился в постель, уверенный, что и от питья, и от морской хворобы есть одно лекарство – сон. Пробудился только к обеду следующего дня. Жена почему-то старалась не смотреть ему в глаза.
– Чево стряслось? – вздернул недовольную бровь Матвей Петрович.
– Боюсь, Матвей Петрович, и сказать. То и стряслось, чего более всего боялась.
– Да ты толком можешь сказать? Боюсь-боюсь! Каво? – заорал муж.
– Ты ведь до се не поговорил с Алешенькой. Тебе все не день, не время. Погоди, утишься. И я упросила его, чтоб он сам с тобой насчет свадьбы…
– Тьфу ты! Нашла о чем. Все давно сговорено, и по рукам мы уже с Петром Палычем. Всему Петербургу ведомо.
– Ой, не все. Ты знаешь, какой вчера норов сын выказал?
– Ну. Чево выказал?
– Не желаю, говорит, матушка, жениться на шафировской дочке, потому как она недворянского рода.
– Это кто ему в уши такое напаскудил?
– Да уж нашлись. И по Петербургу, видно, слух пущен. Стала я допытываться у Алешки, кто ему такое наговорил, и он признался. Сказывает, де у нас на адмиралтейском дворе при чертежном анбаре служит один из бывших приказных боярина Хитрово. Так тот приказной вспоминал, как он вместе с отцом-то Шафирова наравне будто бы служил. Это как же, человек дворянского роду – и в приказных?
– Тебе какое дело до того дворянства? – хмыкнул Гагарин.
– А Бог с ним, с дворянством, Матвей. Еще сказывали Алешеньке там, в чертежной, что дед Шафирова имел иудейское прозвище Шаюшка и будто он недальний родственник тому жиду Зелману, который жил в Орше…
– Понесла, понесла баба ситом сеять! – начал заводиться Гагарин. – А ну, вспомни, Авдотья, какого дворянского колена твой дед? Когда его пожаловали в московский список?
– Да все ж не в дворянстве главное…
– А в чем?
– Упал Алешенька наш предо мной на колени, плачет, крестится, божится, а сам промеж этого твердит: не хочу на жидовке жениться, не стерплю такого – руки наложу!
– Ах, вон вы до чего доворковались? – взревел Гагарин и затопал на жену. – Я перво-наперво Алешеньку наследства лишу, а тебя, паскуда, за потаканье дитятке в монастырь упеку. Я тебе в Сибири такой подберу монастырь, что тебя оттуль патриаршим собором не вызволят.
Неизвестно, чем кончилась бы эта бранная минута в доме Гагариных, но тут в залу осмелился заглянуть слуга и доложил боязливо:
– Человек с письмом от господина кабинет-секретаря, от Макарова.
Матвей Петрович разъяренно взглянул на жену и резко мотнул широченным рукавом халата над ее склоненной головой.
– Приблядушку Лешкину, с которой он вожжается, чтоб нынче же отправили в Тобольск, чтоб и слуху о ней тут не было. Пригрела голубков – с дворовой парень спутался.
Макаров запиской извещал Гагарина: государь ждет князя в Летнем дворце.
Князь приказал подать темно-синий камзол с золотым шитьем по отворотам, парик, башмаки с огромными медными бляхами на взъеме, и, пока слуга помогал ему облачаться в этот привычный при дворе наряд, гнев немного схлынул… Переправляясь с Городового острова на Московскую сторону, Гагарин велел направить подаренный царем щербот к окончанию сада, хотя мог бы пристать прямо у Летнего дворца. Гагарин хотел напрочь утихомирить в себе клокотавшее недовольство сыном и женой, надо же до такого сподобиться: задумали расстроить объявленную свадьбу с дочерью вице-канцлера! Все, что успела высказать ему жена, для князя Гагарина давно Перестало быть новостью. Еще в свою бытность губернатором московским он наслушался баек о Шафирове. Злые языки московских старожилов при случае напоминали о том, как прислуживал лавочнику Евреинову в шелковых рядах разбитной сиделец Петрушка Шафиров. Старожилы уже не осмеливались называть его жидом, однако же говаривали: «Таких проныристых и хитровыворотливых лавочников на Москве не было». Лукавым одобрением как будто бы выделялась в главенство причина удачи Шафирова: нагулявшийся в немецкой слободе молодой Петр наткнулся на лавочного сидельца, и вот уже он, вчера сиделец, а завтра в царской свите, за море поплыл, на посольской службе… Теперь поди вякни кто-нибудь о сидельце в шелковом ряду… Вице-канцлер Шафиров – вторая голова, козырем ходит в Коллегии иноземных дел.
«И откуда в мыслях моей Авдотьи такая гадь могла произойти, чтоб сыну в самовольстве потакать? – недоумевал Гагарин. – Зря я ее сюда привез. Пускай бы сидела себе в Тобольском или в Москве, и там бы ее моль не побила. Мало, что ль, одного моего родительского благословенья…» С приближением Московской стороны мысли его мало-помалу менялись, и он все чаще ощупывал что-то за левым бортом камзола.
«Видать, крепко князя рассердила Авдотья Степановна, коли он до сих пор за сердце хватается», – жалостливо подумал о своем хозяине слуга, провожая взглядом уходящего в глубь сада князя Гагарина.
На подходе к дворцу Матвей Петрович встретил офицера-преображенца из охраны и удостоверился: во дворце ли государь? Офицер кивнул, а на вопрос: «Есть ли кто у государя?» – ответил, что там с обеда находится библиотекарь его величества. «Этого мне в соглядатаи не надобно, – подумал Гагарин, памятуя, что на должности при книгах государя обретается недавно прибывший в Петербург немец. – Даже пусть он и по-русски ни бельмеса, но для чего при нем заговаривать с его величеством о таком важном деле», – решил Гагарин и сказал офицеру, что назначенный час для аудиенции еще не подошел, можно обождать и прогуляться.
Боковая аллея вывела Гагарина к той части сада, которую называли Зверовым двором. Это место было одной из причуд молодого Петербурга. Здесь в особых сараях находился слон, тигр, лев и другие звери, подаренные Петру персидским послом. Когда персидские подарки препровождались армянскими купцами по новой столице, поглазеть на них высыпал весь Петербург. Ладно бы еще лев и тигр – они в клетках, бывавшие за морем люди этому не удивлялись. Но слон, шествующий по улицам, стал в северной стороне наипервейшей диковиной. Матвей Петрович подошел к неуклюжему огромному сараю, выстроенному из толстенных бревен, поставленных стоймя, и стал наблюдать, как прислуга кормила заморское диво. Слон подергивал складками бугристой кожи, потряхивал лопухами ушей, шлепая ими о крайние столбы, а то вдруг наваливался на стену, потираясь о бревна, и тогда вся мощная крыша сарая начинала ходить ходуном. «Однажды так почешется, вся городушка рухнет», – подумал Гагарин, но его мысли не задержались на этом, а вдруг представилось: как только он доложит государю о своем задуманном, тот, будто слон, начнет расшатывать гагаринское построение, и оно может рухнуть, развалиться нечаянно… на душе стало еще тревожней.
Царь сидел среди ящиков и шкафов, пока не заставленных книгами, листая на коленях огромный фолиант. Немец-библиотекарь все еще не ушел и помогал ему разбирать доставленные из Москвы книги. Петр что-то искал, нервно откладывая ненужное в один ворох. Он взглянул на Гагарина без особого удовольствия – не Сибирь, видать, заботила царя в этот момент.
– Здравствуй, князь, – как бы мимоходом, поприветствовал он Гагарина. – Явился живой ведомостью?
Матвей Петрович лихорадочно соображал, как повернуть разговор, – не в духе государь.
– Изъяснил я, Петр Лексеич, кабинет-секретарю, нету при мне записных книг по Нерчинским заводам. Но скоро доставят…
Петр перебирал книжки, кратко задерживаясь на названиях. Наконец он оторвался от своего занятия и окликнул немца-библиотекаря:
– Нашел?
– Нет, герр Питер.
– Бери денщика и ступай в Зимний дом – там в шкафах ищите.
Гагарин облегченно вздохнул. Петр, морщиня взлизистый лоб, окинул взглядом ящики и велел:
– Все вскрыть, кои еще не смотрены.
Денщики бросились отдирать крышки от ящиков и сундуков.
– Так ты без записных книг слаб, князь? Слаб, – говорил Петр, ощупывая корешки книг прямо в сундуках. – Или у тебя в губернии таких заводов, как Нерчинский, косой десяток? Помнить надо все до золотника… Ого! Вот они! Нашлись… – С этими словами царь стал быстро-быстро перелистывать карты и, нашедши нужную, надолго замолк. Потом коротко приказал денщику: – Трубку.
Она тут же была подана, и царь, окутываясь облачком дыма, продолжал рассматривать зеленые пятна островов на карте. Гагарин терпеливо молчал. Трубка у царя погасла. Не отрываясь от листа, он протянул ее денщику:
– Набей и раскури!..
Гагарин опередил денщика и отошел с трубкой царя к столику, где стоял табачный ларец. Там он пошарил за пазухой и стал набивать трубку. Обходя ящики, вернулся к Петру.
– Изволь, Петр Алексеич, нашего табачку, эркецкого.
Царь, не глядя, принял трубку и, не обращая внимания на непривычную тяжесть носогрейки, сунул ее под кустик усов. Трубка не дымила. Царь покосился, почему не раскуривается, и выкатил глазищи на Гагарина:
– Ты что, каналья, там, в Сибири, трубки разучился раскуривать?!
– Как же можно, Петр Алексеевич, государь мой! Курим! Раскуриваем! Это у нас табак такой пошел – эркецкий…
Матвей Петрович извлек из-за пазухи кожаный мешочек.
– Что еще за эркецкий? – в сердцах воскликнул Петр и ударил холодной трубкой по ладони. В ложбинке царевой ладошки вперемешку с крошками табака враз образовалась желтая сыпучая горка. Петр приблизился к свече и, понянчив горку в ладони, обернулся к Гагарину, сверкая глазами:
– Горазд! Горазд, каналья! Золото сибирское?
– Эркецкое, Петр Алексеич…
– Не загадывай загадки. Место где?
– В джунгарской землице, государь, в Малой Бухарии.
– Укажешь на карте…
– Коли такая найдется, укажу, – ответил Гагарин, обретая уверенность голосом оттого, что попал в интерес Петра.
В это время в комнату вошли денщик и библиотекарь. Оба были нагружены стопами книг и атласов. Петр глянул на библиотекаря, изогнувшегося под тяжестью ноши. Глаза немца чуть-чуть были видны над верхней книгой, которую он подталкивал носом, чтобы она не свалилась на пол.
– Сей же час оставьте морские атласы и немедля ищите мапу[15], где есть Малая Бухария! – распорядился Петр.
Ничего не понимая, библиотекарь покорно опустил подрагивающую стопу книг на выступ шкафа и стал озираться вокруг. Его предупреждали друзья: нескоро привыкнешь к царским прихотям, да и привыкнешь ли? Загоняет, замотает поручениями, указаниями. Странно меняются потребности у герр Питера. Еще час назад ему срочно потребовался атлас прибрежных шведских земель. Теперь подай карту земель бухарских. О них у немца были весьма смутные представления, но он принялся подробно перебирать атласы, надеясь найти названное царем в шести томах Виллема Блау.
– А нам, господин губернатор сибирский, место для разговору во втором жилье, – со значением протитуловал Гагарина повеселевший Петр. И они поднялись наверх.
– Как же так? Ни один воевода сибирский допрежь тебя не докладывал мне о бухарском золоте песошном, – усаживаясь к столу, удивился Петр.
– До меня, государь, калмыцкие караваны в Тоболеск торговать не допускались. Понеже они с мехами и иными заповедными товарами мошенством занимаются. Торги шли то на Ямыш-озере, то им в Таре сие позволялось чьим-то попустительством.
– А это в Тобольском сторговал? – кивнул Петр на мешочек с золотом.
– Сыскал я на тобольском посольском дворе эркецкого жителя, ушел он из города Эркета после разорения его калмыками, унес ноги в Тоболеск…
– Вызнал ты у него, водяной ход в Эркет есть?
– Сказывал, на Дарье-реке тот город.
– Река в какую сторону?
– Сие мне неведомо, винюсь, Петр Алексеич.
– Ходу до тех мест водяного нет?
– Калмыки конными ходят.
– Сколько пути?
– От Тоболеска до Тары – пять дней. А от Тары до Эркета доходят торговые люди нескорою ездою седмиц за пять. Идут коньми и верблюдами. Водяного хода они не знают, не заобычны к тому. По скаскам эркецкого жителя выходит, что берут они золото весной. Устилают кошмами берег до половодья и ждут. Ток воды промеж прочих крушцов несет с собой и золото. А в другое время уходят с той реки к озеру, где-то поблизости китайской стены оно, там промышляют.
Слуга подал вино и телятину. Гагарину показалось это нехорошим знаком. Когда царь в азарте, ему водки подавай, анисовой… Неужто не пронял он царя своим табачком эркецким? Что ж еще надо сказать?
– Государь, все реки, на коих калмыки золото промышляют, по скаскам бывальцев, текут с горы Мустаг. Бухарские купцы то подтверждают…
– Об этом я известен, – перебил царь Гагарина. – А ты про то озеро китайское тоже проведал? Как оно названьем?
– Послал я, послал, государь. Ушел мой человек под видом купца. Одноконечно вызнает все и про китайское золото. А может статься, он уж и в Тоболеск возвращается, время ему обернуться. А известия будут долгожданные, – словесно расслабился сибирский губернатор, чувствуя, что царь слушает внимательно. – Давно мне сие любопытно было, откуда богдахановы купцы золото берут. Случалось, много раз возили они золото, в коробках, на торг чрез Нерчинск. И цену брали невеликую – до ста рублей за десять лан[16], а то и менее…
– Цены китайские мне известны, князь, – перебил царь Гагарина. – А вот за презент с Дарьи-реки благодарствуй. Ты, пока ехал в Петербург, чай, и домыслить успел, как нам тех земель эркецких достигать.
– Мыслил. Марсовых акций не избежать, государь.
– Управишься ли с калмыками? Они у тебя под носом Бикатунскую фортецию спалили. А?
– На такой случай поставить на Ямыш-озере крепость и выше – дале тож крепостями обставиться. Отгородить Иртыш от ордынцев. А с калмыками – вот что я скажу. Ведь контайша теперь в известность Чередовым приведен, что все реки и земли, откуда текут и Енисей, и Обь, Иртыш тож, это реки и земли вашего царского величества. Теперь поздно жалковать, обаче, Чередов уж, думаю, дома, давно вернулся. А поздно потому, как я заехал в Москву и в бывшем Сибирском приказе беседу имел со стариком-дьячком. Когда-то он с моего ведома разбирал писцовые книги и столбцы. Те, что при Борисе Годунове велись. И что там сыскалось, в столбцах. За два года до того, как Годунов преставился, посылалась на его имя грамотка из Тары. Писано в той грамотке, дескать, Далай-тайша прикочевал почти к городку и просит оберегать его от Алтына-царя, ради того просит поставить город на Оми, и чтоб Далай-тайша под тем городом кочевье имел. А коли тому городку на Оми начнется утеснение от Алтына-царя, то они бы новый городок вкупе с тарскими людьми оберегали.
Петр выслушал подробности столетней давности и заключил:
– Видно, мелок был Далай-тайша против Алтына, вот и запросил у Тары сикурсу. А Цеван-Рабтан покрепче будет – на две стороны воюет. – Помолчал и глянул на Гагарина испытующе. – Так, говоришь, полтретья месяца[17] пути. Это сколько же фортеций ставить?! Да и много ли его там? – Царь указал на мешочек с золотом.
– Эркецкие сказывают, окрестные жители платят алман таким золотом контайше. Стало быть, добывают песка довольное число.
Петр раздумался, перестал расспрашивать Гагарина. Но длилось раздумывание недолго, новость будоражила царя. – Карту с Бухарией нашли? – крикнул он денщику.
Тот поднялся с виноватым видом и развел руками.
– Ищите и сей час, и завтрашний день с утра, – приказал царь и, вернувшись к Гагарину взглядом, сказал:
– В бытность мою с Великим посольством в Голландии один наш купец сделал мне презент, а я его бургомистру Амстердама преподнес. То была карта на древесной доске. Уж больно горяч амстердамский глава, коли речь касается Азии. Я и сделал ему поминок. На той доске написана вся область Сибири, весь татарский край, и даже до Пекина. Там и реки все суть и горы, и все народы, всяк в своей одежде. Но у тех мест, в коих калмыки ноне кочуют, в верху Иртыша и Оби, кроме безымянных гор и верблюдов, городов не означено.
– Эркецкие сказывают, там и Аксу, и Кашкар, и Кульджа, близ Эркета.
– Про те города и бухарцы в Астрахани говорят. Ты в Тобольском говорил ли с Ремезовым?
– Стар он больно. Уж и веры-то его речам нет, государь.
– Стар он, да нестар его сибирский чертеж. Жаль, чертеж его не меркаторский[18]. Нет способу вычислить по нему дальность. Но я его держу на памяти. По Ремезову чертежу видно, где Аму-Дарья и Сыр-Дарья исток имеют. В калмыцких землях.
– Вроде, верно, эркецкие уверяют, Аму-Дарья берется с горы Мустаг.
– У хивинского посланника надо спросить. Вот только он оклемается от вчерашнего морского крюйсованья, – усмехнулся Петр, вспомнив прогулку на новых кораблях. – Ты, князь, немедля подай мне доношение. Все изложи: каков путь, сколь фортеций, какие в них гварнизоны мыслишь. Понял я, сколь надобен был тебе партикулярный случай для беседы. – Петр подбросил на ладони мешочек с золотом. – Лист подашь Макарову. Да гляди, ни в Сенате, ни в прочих местах о бухарском золоте песошном пока ни слова. А коль речь о новых фортециях да о воинских акциях, то велю тебе в две недели осмотреть наилучшим образом Брюсов пушечный двор и все зелейные мельницы. Оружейный двор – особо смотри, поелику налаживается здесь мастерство не чета сибирскому.
У Гагарина отлегло от сердца. Коли царь заговорил о пушках, о порохе, затея удается. Жаль вот, принял царь новость без ожидаемого удивления. И это в такие дни, когда он твердит всем и всюду: «Деньги суть артерия войны!» Пусть золото – не монетный металл. Но купцы, что алхимики, один металл в другой, в серебряный, своими котелками переварят.
Сдержанность царя при беседе с Гагариным свое объяснение имела. Наутро он велел позвать к себе хивинского посланника. Совсем недавно тот, цветисто повествуя о богатствах по берегам Аму-Дарьи, среди прочих сокровищ называл золотой песок. Царю необходимо было увериться: не о таком ли песке, какой доставил ему губернатор Сибири, говорил хивинский посол. Без тени сомнения тот закивал головой, переливая из ладони в ладонь золотую струйку. «Пусть он хорошенько руки отряхнет», – сказал Петр толмачу, и, когда хивинец выполнил государево пожелание, Петр вручил посланнику рубль-новодел из заморского серебра. Распрощавшись с гостем, велел тут же вызвать к себе инженера Блюгера и, указав на гагаринский мешочек, велел:
– Должно узнать, сколь тут чистого золота. Без меня не плавить. К вечеру наведаюсь…
Блюгер без слов забрал песок и удалился в артиллерийскую на Кронверке лабораторию, где варились, мололись и смешивались все пышущие огнем приправы для фейерверков.
В конце дня Петр, пригнувшись, вошел в лабораторию и уселся поближе к огню.
– Все готово, государь! – доложил Блюгер. – Прикажете плавить?
– Сколь всего песку?
– Полтора фунта.
– Полфунта – в куншткамору, фунт – плавить.
Блюгер отвесил назначенный фунт и всыпал песок в тигль.
Сидя у огня и попыхивая трубкой, Петр глядел, как сизый табачный дым свивается с грязной гарью, потянувшейся из тигля. Царь вспомнил беседу с хивинским посланником и письма коменданта астраханского Чирикова. В них говорилось о туркменах, доносивших свои жалобы до Белого царя на узбеков: узбекские ханы, желая отвратить пришествие русских на Аму-Дарью, где имеется золотой песок, отгородили от Каспия ту реку плотиной. Туркмены просили взять их под руку Белого царя и повернуть Аму-Дарью так, чтобы она текла не в Аральское море, а через их туркменские земли в Каспийское, по стародавнему руслу, именуемому Узбой. В клубящемся над тиглем дыму Петру уже виделись его корабли, входящие в устье той неведомой Аму-Дарьи, и далее, далее – вверх по ней и до вожделенной Индии… И там же, где-то на этом пути, стоит известный теперь город Эркет, а окрестные инородцы простой кошмой улавливают без всяких машин и труда золотой песок…
Желтый песок в тигле стал оседать и покрылся черной окалиной. Блюгер выждал четверть часа и дотронулся до черноты плоской легкой лопаточкой. Чернота тяжело и зыбко колыхнулась.
– Пригар невозможно допускать, – сказал плавильщик и разгреб уголья, сбивая огонь. Затем, проверяя, нет ли видимого золота в шлаке, пропек его в малом тигельке и, удостоверившись, что шлак чист от золота, стал собирать серую окалину с подрагивающей поверхности расплава. Наконец лопаточка обнажила содержимое тигля – брызнуло оттуда расплавленной ярью и тяжкой желтизной, будто золотой сноп над очагом засиял…
Дали тиглю остыть. Выбили слиток. Блюгер положил его, еще тепленький, на весы.
– Двадцать восемь лотов[19], государь! – воскликнул инженер.
– Хорош песочек! – ощерился в довольной улыбке царь.
– Истинно хорош! – подхватил инженер. – Подобный доводилось мне плавить в саксонских пробирнях. Но тот песок был из Нового Света. А сей?
– Сей будет с нашего света! – ответил царь, нахлобучивая войлочную шляпу на маленькую свою головку.
Как ни дотошен был немец-библиотекарь, но и его прилежность перед развалами петровской библиотеки оказалась бессильной. И вовсе не потому, что библиотекарь попался малой учености. Он не мог найти в царских книгах карты джунгарских владений по простой причине – таковой европейский мир не знал, имея тем не менее верные представления о персидских землях, индийские переставали быть загадкой. Но Малая Бухара – срединная азиатская земля лежала белым пятном на всевозможных картографических изображениях. Не было у Петра такой карты, где были бы нанесены и реки, и города, на них стоящие, и все это называлось бы Малой Бухарией. Нет вины петровской в таком неведении, но оборачивалась географическая слепота для России трагическими событиями. В маленькой головке царя, как ни возвышали ее над миром все современные и последующие поклонники, не могло вместиться всей огромности страны, которую самодержец унаследовал от Алексея Михайловича. Да и то, что получил, успел ли осмыслить? А некогда было осмысливать. Надо было воевать за интересы каких-то карликовых немецких герцогств, до своей ли земли тут. А коли воевать – деньги нужны. И в головенке царя даже и не мелькнуло сомнения, надо ли идти в джунгарскую землю за золотом – ведь чужая та земля!
Великий в своих авантюрных замыслах, Петр надеялся склонить под свою руку ханов бухарского и хивинского, уговорить принять российское подданство всех джунгар, кочующих от Ферганы до Халхи. Да и не предвиделось, что не впустит азиатская земля в свои пределы чужеродное тело. Не предвиделось, но подавалось так: не завоевывать русские придут те народы, а всего-навсего рудными приисками заниматься…
Проклятая наследственность довлела над Петром – он получил трон государства, которое в семнадцатом столетии и во всех предыдущих не добывало ни серебра, ни золота. Властвуя над живым телом страны, мог возвести денщика до фельдмаршала, шлюху – до царицы, царицу – до монахини… Петр был бессилен в осмыслении природного тела державы. Монаршия воля, воплощенная в казачьих отрядах, скользила и перекатывалась по поверхности Сибири, не способная заглянуть в глубь обретенных земель. Потеряв надежду найти вожделенные металлы в недрах земных, Петр раз за разом, действуя бичом реформ, принимался жестоко орудовать в недрах мужицкого хозяйства, извлекая и выколачивая из него тщедушные копейки, из которых складывалась государственная казна. Отчаяние царя порой достигало наивысшего накала. Вспомним, как явился убогий, нищий царь к хранителю наследных сокровищ Ромодановскому. Но и того, что припас Алексей Михайлович впрок, хватило на несколько недель войны. Россия не воевала, а провоевывалась, и на царя накатывали волна за волной приступы серебряного и золотого голода.
Несколько поколений русских государей с 1564 года поглядывали на карту Герберштейна, где на восточных отрогах Урала красовалась полумифическая фигура «Златой бабы». Но бабенка та была привередливая и точного места своего земного происхождения не открывала. В поисках ее родины стольник Яков Хрипунов в компании с московским серебряным мастером Иваном Репой дошел аж до Верхней Тунгуски. Два года пространствовал Хрипунов, вернулся и ударил челом: нету той бабы в сибирских чащобах. Враки все!
Ко второй половине семнадцатого столетия в Московском кремле на «Златую бабу» махнули в отчаянии рукой и обратили свой взор в сторону, где над Кандалакшской губой, в переливах полярного сияния, все явственнее стало просвечивать серебро Медвежьего острова. Островное серебро давало такие сполохи молвы, что погнала она дьяка Василия Шпилькина аж на Канин нос, а иных искателей серебра даже и за три с половиной тыщи верст от Москвы – на реку Цыльму. Причины сполохов в тех местах не прояснились, зато случай упрочил известия о серебре с острова Медвежьего. А прослышал о медвежьеостровском металле в Кирилло-Белозерском монастыре строитель Ефрем Потемкин. Оказался он при разговоре монастырских мастеров серебряного дела с государевым человеком Петром Моложениновым. Тот имел на руках царскую грамотку о сборе известий по имеющимся в крае рудам. Вот и поведали неосторожные мастера, что из вотчины монастыря, с берега Белого моря, прибыло недавно к ним более десяти фунтов серебра в слитках. Потемкин тут и укатил в Москву «доклада ради». А вскоре повлеклись в Москву белозерские монахи, охраняемые стрельцами. В распросных речах и зазвучало название Медвежий остров, оттуда берутся и доставляются в монастырь серебряные крицы. Четырежды снаряжала Москва отряды на этот остров за самородным серебром, и четырежды находили они в небольших ямках маленькие слитки, но руды серебряной так и не сыскали. На вопрос: «Откуда ж серебро литое в ямках?» поморские мужики задирали бороды кверху и недоуменно рассматривали небо – неужели оттуда?!
Четыре экспедиции с 1671 по 1680 год были удручены неудачей настолько, что во времена Петра на мечтах о северном серебре поставили крест. Однако же мечта не исчезает бесследно, она меняет устремления. Замаячило серебро на Енисее.
Пытал свое заенисейское счастье в рудном поиске посадский человек Петр Свечкин – дошел до устья реки Сым. Не засияло счастье. Учли ошибку Свечкина промысловые мужики Киприян Ульянов и Яков Карела, подались восточнее, к Нерчинску. Тут бы и сказать, что плавильщику Ульянову и серебрянику Кареле в те годы не повезло, а подфартило через двадцать лет совсем иному человеку – греку Александру Левандиани. Но, чтоб не комкать ход времен, надо взглянуть, каким путем пришел в Нерчинский край рудоплавильный греческий мастер и кто ему на этом пути предшествовал.
Еще раз придется вспомнить посольство адмирала Федора Алексеевича Головина в Даурскую землицу. В Нерчинске его встречал воевода Иван Астафьев сын Власьев. И, видать, посчитал воевода, что адмирал имеет только посольский интерес в его владениях, а такая малость, как приезд тунгусов Аракжи и Машии с каменьем рудным в седельных сумках, – это государева посла не должно касаться. Может быть, и лукавил воевода, поскольку знал, что в составе посольства пришел знаток рудоплавильного ремесла иноземец Лаврентий Нейгарт, управлявший до того Казанским медным заводом. Лаврентий беседовал с Иваном столь задушевно, что последний, растаяв, просил расплавить доставленные тунгусами каменья, обретенные на старых богдойских ямах. Пока адмирал Головин шипел и остывал на переговорах с посланцами Поднебесной империи, Лаврентий плавил руду. И знак серебряный в ней нашелся! Да не нашлось смелости показать плод, обретенный в тигле, Головину. Адмирал некоим образом проведал о тайной плавке, и поручик Лаврентий Нейгарт был публично бит. Головин и вся его свита покинули Нерчинск, тунгусы-рудоприищики – тоже. Головин знал, что в блескучих камешках из ямок. Тунгусы так и покинули Нерчинск, не ведая, что привозили. Они пребывали в неведении еще более десяти лет, пока не отыскали их в тайге и не привезли в Нерчинск для споспешествования в рудном поиске греку Левандиани. Но у грека путь в Нерчинск лежал непрямоезжий.
…Томский воевода Василий Ржевский в 1695 году написал доношение молодому Петру в первопрестольный град: «…посылал я, холоп Ваш, в горные порубежные волости для ясашного сбору томского сына боярского Степана Тупальского со товарищи, и он, Степан, приехав в Томск, явил мне, холопу Вашему, с фунт руды серебряной». И пошла переписка между Томском и Москвой – долгая. А легкий на подъем Степан Тупальский сходил на Каштак вторично и привез еще восемь пудов серебряной руды. Вот эта проба, оказавшись в Москве, и повернула Петра лицом к Сибири. Но с оглядкой на Амстердам. Пробирный мастер Тимофей Левкин получил в Москве из сибирской пробы несколько золотников серебра. Царь в достоверности анализов Левкина засомневался. И небольшая доля оставшейся руды с безвестного Каштака пошла корабельным ходом на край земли – в Амстердам. Только через два года Петр дал знать томскому воеводе: «…из Амстердама писал бургомистр Николай Витзен о томской руде, которую ты прислал, что по опыту мастеров добрых в Амстердаме вышла из полчетверти золотника руды самая малая частичка и что та руда небогата, но что де мастер объявил, что глубже будет лучше…»
Вслед за этим письмом в Томск и прибыл плавильный мастер – грек Александр Левандиани, имевший указание царя разведать руду на Каштаке и построить там сереброплавильню. Грек имел на руках грамоту из Сибирского приказа, гласившую: «К тому рудокопному промыслу прислать из Тобольска работных людей…» Начались долгие сборы. Путь неблизкий – выйти в Обь, из нее в Чулым, из него в Кию, из нее в Сердь, и только потом выйти на нужном месте на берег вовсе неведомого Тусюла! Напрямик – двести верст пути! Но кого Сибирь напрямки выпускала? Да еще коли идешь отрядом в восемьсот человек да тащишь следом пушечный, ружейный и промысловый припас для копки руды.
На Каштак экспедиция Левандиани вышла только в конце сентября. Уже лег первый зазимок, когда принялись копать четыре глубокие ямы. И крепость заложили, и плотину готовились возводить, и печи плавильные ставить… Все прервал посвист чулымских стрел – таежные коренные люди поняли, зачем явились русские на Тусюл. Александр Левандиани, уцелевший в каштакском сражении, написал Петру: «Наше сие художество со страхом и войною не может совершаться, нам надо копати в горах, а нас убивают…»
Каштакский острог кочевники спалили.
Левандиани отсиделся в Томске, ожидая царского указа. Петр заслал грека еще глубже в Сибирь – в Нерчинск. Вспомнил головинские пробы серебряные.
От Томска до Нерчинска в те поры дорога была немалая и не в любое время года. Между Красноярском и Иркутском зимника не было. Так что прибыл Левандиани в Нерчинск только летом 1704 года. Печь для плавки руды на речке Серебрянке Левандиани выкладывал сам, на свой, никому не ведомый в Сибири манер. Но прежде отыскали ему братьев-тунгусов, и они, в который раз за последние двадцать пять лет, указали государевым людям место рождения серебра. Команда Левандиани накопала в том году около шестидесяти пудов руды, и в толстостенной, размахом до сажени, печи выплавил грек восемь пудов серебристого свинца, а из него извлек и чистое серебро, за которым и было решающее слово – быть или не быть руднику на Серебрянке. Даже при великой дороговизне – пуд металла обходился более двухсот рублей – было решено: дело не ограничивать пробной плавильней; и через два года уже попыхивали дымком десять толстобоких горнов, укрытых навесами, вокруг них выросли рудные и угольные амбары, жилые избы, поварни и бани. А на замену Левандиани прислан из Петербурга грек Григорьев с сыном, оба рудоплавильщики. Что – Левандиани плох? Да нет, хорош. До того хорош, что его еще до нарвского позора затребовал имеретинский царевич Александр Арчилович, ведавший Пушкарским приказом. Вот по его челобитью и отправили Левандиани в Москву. Смена рудных мастеров в Нерчинске говорила о том, что дело в даурских шахтах и у плавилен налажено, надо только расширять его, казна государева тоща! И Гагарин шлет в Нерчинск подмогу – пленного шведа Петра Дамеса, знакомого с плавкой руды. Две металлургические культуры, два обхожденья с плавильными печами пересекаются в Нерчинске. Греки и шведы учат русских мужиков Ивана Киселева, Козьму Улфова, Дмитрия Репинского, Василия Погодаева и Козьму Шапошникова извлекать из блейглянца серебро, но дело идет неразворотливо, и вовсе не по причине тугодумия учеников.
Посланный Петром для обозрения сибирских заводов инженер Блюгер насмотрелся, как мужики по колено в воде выколупывают киркой рудную крошку в Троицкой, Богатой и Успенской ямах на берегу Серебрянки. Нагляделся, сколь скуден выжженный древесный уголь, и убедился – малым числом людей завода не поднять. По возвращении в Петербург Блюгер составил доношение и подал его Сенату, убеждая населить край не только работными людьми, но и земледельцами. Надо, чтобы и уголь, и руда всегда были в запасе, в готовности – горны не будут простаивать. Надо заводить пашню – хлеб привозят аж из-под Тюмени. Сенат спросил инженера: скоро ли окупятся расходы? «Через несколько лет», – ответил Блюгер. Умным головам в петровском заведении требовался прибыток сиюминутный. Привыкнув за полтора столетия драть с Сибири шкуру «мягкой рухлядью», которая на торгах давала чистоган, метрополия не желала вкладывать в сибирские рудники рубль, который – когда еще! – обернется прибылью. Новозаведение Петра – Сенат – унаследовал все пороки прежнего захребетного отношения к Сибири. И даже прославляемую предприимчивость Петра трудно обнаружить в истории Нерчинских заводов. Не без ведома царя, а с его слов получили в начале века все заводы указы: «А кто серебряную руду богатую и зело прибыльную, и прочную глубокую сыщет… тому из казны великого государя дано будет денег 1000 рублей…» Однако же то, что могло пойти на рудокопное дело в Сибири, распоряжением Петра употребилось на покрытие иных страстей.
Матвей Петрович, вернувшись из Летнего дворца, велел Некрасову принести все, что требовалось для письма, и остался один на один с чистым листом бумаги. Предстояло повторить, почти слово в слово, свои доводы о походе за песошным золотом, высказанные царю. Первые строки о расстоянии до Эркета легли быстро, как бы сами собой. А дальше Гагарин призадумался, как высказать главное дело, коли царь не выказал к нему особого восторга, на который рассчитывалось? Написать как о деле решенном – вперед забежать. Лучше положиться на привычное: «Прошу соизволения…» И Матвей Петрович продолжил: «…и если соизволите, Ваше Величество, промысел чинить к тому месту из Тоболеска, то надобно поселиться городами к этому месту; потому, что от Ямышева озера и до Эркета кочуют калмыки и будут противиться, чтоб не допустить в тех местах строить городов. А по ведомости в тех местах кочуют калмыки с контайшею…» – тут Гагарин задержал перо и озадачился, сколько же там калмыков? Назвать много, как о том сообщали купцы, спугнешь царя, скажет, много полков потребно на такую орду; указать поменее, оружия и, главное, казны велит выделить на какой-нибудь полк. А что там с одним полком делать? Перо повисело над листом и вскоре зашуршало по бумаге, выводя: «…тридцать тысяч человек. Путь к тому месту лежит от Тоболеска до половины реки Иртыш, а от того места на калмыцкое кочевье… И первый город надлежит делать от помянутой реки Иртыш у Ямышевского озера и оттоль, усмотря, где надлежит, делать иные города. На строение оных крепостей, тако ж и на содержание их, кроме офицеров и инженера, управляться можно из Сибирской губернии. А для той возможной калмыцкой противности надлежит быть регулярным двум или трем полкам, и те полки набрать в Сибири, а к тем полкам несколько офицеров…
О промысле того места да о деле городов что Ваше Величество повелит».
Завершив изложение своего плана, губернатор подписался:
«Вашего Величества покорный раб Матвей Гагарин».
Это письмо и легло утром следующего дня на стол кабинет-секретаря Макарова. Тот, едва пробежав его глазами, сразу все понял: вот зачем добивался приватной встречи с государем сибирский губернатор. Но виду не подал, а спросил:
– Так что же, его величество позволяет твоему Алексею ехать для учебы?
– Слава богу, благословенье как будто бы получил.
– И по какой части?
– По корабельной. Он на судах, считай, с недорослей обретается. Был со мной на каналах неотлучно, на Иртыше и по Оби хаживал.
– Дай бог, – одобрительно глянул на губернатора Макаров.
Сегодня Гагарин не был похож на просителя. Что-то в нем переменилось. Он осанисто ходил по комнате, рассуждая о корабельном деле как о самоважнейшем и первейшем для государства, а на прощание вальяжно изрек:
– Велено мне его величеством здешние зелейные мельницы осмотреть. Тороплюсь.
Гагарин прямо от кабинет-секретаря направился на речку Карповку, где находилась второпях построенная зелейная мельница. Сделал он это скорее по обязанности, не ожидая увидеть на мельнице чего-нибудь нового, ведь все пороховое дело привезено сюда из-под Москвы, а там Матвей Петрович знал, что, откуда и как готовится. За три года его отсутствия на Москве астраханская селитра и старо-сергиевская сера не изменились. Уголь добрый и из здешнего леса выжечь можно, правда, далековато тот лес. То ли дело под Тобольском: и лес тебе рядом, и селитру подвезти – не задача. Серы, верно, нет своей, везут ее все из того же Яренска, старо-сергиевская сера в порохе тобольского помола. На Карповке Матвей Петрович обнаружил полную осведомленность в пороховом деле и даже вызвался испытать новую партию помола, заранее указав: коли порох имеет лишку синевы, аж до черноты доходит, значит, уголька перебавили. Испытали – так и оказалось. Сгоревший на листе бумаги порох оставил желтый след. Гагарин посоветовал доводить порох до аспидно-серого. Такой бывает вспыльчивее и сгорает так, что и следочка желтого на бумаге не оставляет.
На Карповке Гагарин появлялся два дня подряд и решил: довольно, пора осмотреть Литейный двор. Туда он шел не без удовольствия, предвкушая встречу с мастерами, переведенными в новую столицу из Оружейной палаты, коей он когда-то ведал в Москве. Вопреки ожиданиям, когда Гагарин вошел в огромный бревенчатый амбар, заметный еще с Невы по высокому шпицу с двуглавым орлом, мало кто обратил внимание на небольшую свиту, следовавшую за сибирским губернатором. В иссушающем чадном воздухе сновали люди. Здесь работали без московской прохладцы. Казалось, прикажи царь нести на новые скампавеи не остывшие еще пушки – и их понесли бы, спекая кожу на руках и плечах. Царь появлялся на Литейном дворе каждый день, торопил мастеровых и, едва выслушав доклад начальствующего над двором Брюса, тут же шел к Неве, спрыгивал в юркую шняву, чтобы поспеть еще во множество мест. Гагарин во время таких налетов царя старался особо не высовываться, но и не таился в закоулках амбара, а занимаясь осмотром дел, затылком чувствовал, видит ли его Петр. Царь видел, замечал и в один из дней окликнул Гагарина, уже стоя на пороге амбара:
– Пришли слугу, князь, я тебе кой-что из книг приготовил. Сгодятся в Сибири. Как скоро все оглядишь тут да возьмешь в разуменье, к Москве поспешай, за тобой по губернии недоимка двести тыщ. Да один городок – Бикатунск.
Гагарина не нужно было подталкивать к сибирским заботам. Чем бы он ни занимался на Литейном: топтался ли у плавильных печей, где готовились пустить в литники пушечную медь, или наблюдал, как мастера устраивают на дне кирпичного колодца внутренний болван, образующий пушечное жерло, – все Гагарин невольно сравнивал со своим, сибирским. И с теми же мыслями пришел к оружейникам губернатор сибирский – сравнить. В отдельном сарае на Петербургском острове было чему удивиться: на широких столах, приставленных к окнам, показали Гагарину то, чего он ранее ни в Москве, ни в Туле не видывал. Десяток готовых ружей клали рядом и разбирали, складывая одинаковые части в общую кучу. Хорошенько их перемешивали и, выхватив из ряда любой ствол, принимались собирать ружье. Случалось, что оно не хотело собираться: то противился кремневый замок, то в пусковую скобу упиралась неподходившая собачка. Гагарин смотрел на такую перемешку частей недоуменно, а ружейные мастера поняли это и растолковали: «Скоро и на сибирских заводах так же будет. Части ружья потребно ныне так делать, чтоб можно было снять с одной фузеи и заменить на иной какой…»
Гагарин брал ружья, пробовал их на прикладистость, но все они были не по его фигуре: ложа была слабо пологой, почти в прямую линию со стволом – такое годится для рослого стрелка, а ростом сибирский губернатор не вышел. Ему больше подошла бы короткая крутая ложа, когда нос почти приткнут к прицельной прорези… Гагарин недовольно откладывал ружье, потом снова брал в руки, трогал ромбик латунной мушки и наводил ствол на ворон, вившихся вокруг двуглавого орла на шпице Петропавловской крепости, которая была хорошо видна в проеме распахнутых ворот ружейного амбара. Матвей Петрович сравнивал петербургские ружья со своими – сибирскими. Не с теми фузеями, что изготавливались в Тобольске, нет. Глядел на затравочное отверстие казенного ружья и отмечал: дыра какая-то пробита стальным бородком. А у него на ружьях такое отверстие отделано медью. Да и сравнимо ли это казенное оружие с теми двумя ружьями, что висят у него на стенах в тобольском доме? Разбери их да смешай с казенными – ввек не соберешь. Его, гагаринские, ружья на отличку от всех тобольских, от тульских и даже от аглицких. Почти год усердствовал над теми ружьями слесарь ружейный Зеленовский. «Все ж он достаточный со всех сторон мастер. В Туле, вон, один только стволы заваривает, другие – только замочники. А Зеленовский – тот все: от ствола да курка, от затыльника до мушки, все сам может, – размышлял Гагарин. – Неспроста я его сосватал, когда в Тобольский из Москвы выезжал». В Тобольске губернатор выделил Зеленовскому отдельную избу, справную и светлую, велел выстроить рядом мастерскую – делай ружья под стать губернаторскому чину. И Зеленовский делал. Иногда Гагарин захаживал к нему поглядеть, как стальной резец вспахивает мягкое, струйчатое железо и появляется узор, сперва невзрачный, увидеть его можно, только если свет искоса падает. Но вот когда в каждую пропаханную резцом канавку вживлена золотая проволока – любо-дорого получается! Такие повороты травчатые и по цевью, и по накладкам…
Когда Зеленовский сработал Гагарину первое ружье, изузорив его золотом, губернатор не рассчитался с ним сполна, а заказал еще одно – теперь серебро положи в отделку, а плата – потом. Зеленовский сделал. Но к тому времени Матвей Петрович уже огляделся, окоренился в Тобольске и, не поминая обещанного, велел ружейнику сделать третье. «Отделаешь рыбьей костью, тогда и заплачу общим чохом». Третьего ружья Гагарин не дождался, Петр вызвал губернатора в столицу. «Теперь-то, наверное, готово у меня и третье ружье, – смекал Гагарин, откладывая в сторону тяжелую пехотную фузею. – Вернусь, достанет и Зеленовскому работы. Надобно пошире размахиваться – два полка новых… Нет, три полка. А что ж я про них раздумываюсь, будто государь меня уж и резолюцией наградил… Макаров молчит».
Еще будучи на Литейном дворе, Гагарин узнал, что вот-вот царь покинет Петербург, только достроятся два десятка галер, оснастятся пушками и фунтовыми бомбами – в море государь выйдет. Беспокоился Гагарин, какие слова напишет царь на его доношении? И что бы ни делал Матвей Петрович в первые майские дни, эта забота не покидала его. А Макаров молчал.
Так и не дождался сибирский губернатор петровского решения. Царь ушел в море. Проводы галерного флота обошлись без пышностей. Созывая прихожан Троицкой церкви, трофейный колокол из города Абова, захваченный русскими сухопутными войсками, как бы напоминал: хоть и загудела шведская медь на русских колокольнях, но шведская шея не гнется покорно, особенно на море. Матвей Петрович не решился подступиться к царю ни до, ни после молебна, а после проводов тут же направился на Васильевский.
Маршалк Соловьев, распоряжавшийся в доме Меншикова, пошел в покои светлейшего без особой торопливости и спустя четверть часа пригласил Гагарина. Матвей Петрович сочувственные слова у постели больного сыпал недолго. Точила его одна забота, и он, глядя на Меншикова, зажатого в теснине полушек, спросил:
– Ты, Александр Данилыч, не чета мне, при государе бываешь неотлучно. Не заметил ли ты в нем перемены? Ко всем благоволенье, а ко мне строгости…
Меншиков был еще слаб. Негромко и даже как-то покорно он согласился:
– Примечал, примечал. Как на меня глянет, будто бес у него иной раз в глазу.
– С чего бы? – слукавил Гагарин.
– Будто и не ведаешь. Письмо на нас с тобой подметное…
– Откуда? Кто?
– Знал бы, давно башку свернул.
– А что в письме?
– О том подметчик да Петр Лексеич знают.
– Тебе откуда известно?
– Маршалк мой не зря хлеб ест. Он меня после заграничного похода упреждал: «Ой, – говорит, – Александр Данилыч, больно злые и паскудные слова о вашей светлости слышал я промеж наших купцов в Амбурге». Мыслю я, оттуль письмо подброшено. Да завистники все… – Меншиков прокашлялся и, глядя в потолок, сказал: – Нам с тобой не подметчиков надо опасаться. Заморским писарям вера здесь невелика, знаешь, как такие письма государь читает. Ты вот уехал из Тобольского, а у тебя там все в ладу?
– Семен Карпов распоряжается…
– Да не про то я. Ты хоть и губернатор, а не все сполна ведаешь в своей Сибири. Там над тобой государев глаз приставлен. Смекай!
– Кто?
– Пока ты ехал сюда, встречь тебе двинулся в Сибирь друг наш ненаглядный, Нестеров.
– Ну, Александр Данилыч! Я аж захолонул, думал, комиссия тайная какая. А этот свистал – это ничто же. Пофискалит да уедет.
– И все ж гляди в оба, князь Матвей Петрович! Эти свисталы не за грош, а за золотой служат.
– И то, князь… Благодарствую тебе за новость – за письмецо. Теперь кой-какие дела оборачиваются другим боком.
Меншиков не стал расспрашивать, что это за дела. Гагарин поспешил откланяться, пообещав навестить больного еще раз до отъезда в Москву.
Вернувшись домой, он тут же сгонял слугу за дьяком Сибирского приказа, доставившим его канцелярию из Москвы.
– Садись, пиши, – приказал Гагарин и стал диктовать письмо в Верхотурье своему родственнику Траханиотову.
Мимо Траханиотова, назначенного комендантом Верхотурска по приказу губернатора сибирского, не мог проехать ни один путник, следовавший Московским трактом. Гагарин сузил горловину входа в губернию до дверей Верхотурской таможни, запретив все иные пути для конных и пеших. Коль Меншиков сказал о Нестерове, то кто, как не Траханиотов, может знать: правда ли фискал в тобольский город подался, а если подался, то с кем там беседы водит? Письмо было готово, и Гагарин расписался под ним, добавив: «Проведать о Нестерове накрепко».
– А теперь, – сказал он дьяку, – подбери верного человека да гони его с этим письмом в Верхотурье. Подорожную справь такую, чтоб ехать безостановочно.
Перекраивая систему управления государством и учредив Сенат, Петр побеспокоился о том, как на деле осуществить надзор за соблюдением законов, за исполнением его монарших указов. Многотысячная орава чиновников, разместившись на ветвях взращиваемой царем бюрократической кроны, нависшей над окраинами России, была необозрима для царя-садовника, пестовавшего, лелеявшего единородный ствол самодержавия. Древо новой для страны распорядительной и судебной системы, созданной по советам многомудрого Остермана, тем не менее никак не хотело принимать даже и таких внешних очертаний, которые напоминали бы шведский образец – на него оглядывался царь-реформатор. И как только самодержавный ствол вздрагивал под натиском внутренних бурь, царь убеждался, что Россия хоть и получила отличное от прежнего государственное устройство, но она, как и встарь, до самой верхушечной почки усыпана личинками лихоимства. Сии твари, порожденные человеческой слабостью, обращались в мохнатых и прожорливых гусениц, которым ради сохранения себя приходилось покрываться коконом деловитости, неподкупности и верноподданичества государю-надеже. Перезимовав в укромной развилке веток, в складке коры или среди несгоревшей листвы, сбитой поветрием петровских перемен, перестроек, гусеницы превращались в безобидных бабочек, способных произвести на свет новые вредоносные яйца, из которых неизбежно, как смена дня ночью, вылуплялись новые личинки. И едва наступала некая ростепель в знобящем до костей холоде петровского взгляда, как из Кокона на просторы российского грабежа и саможорства выползали разодетые в серебрящийся мех черви и устремлялись по ветвям государева древа к завязи молодых плодов, чтобы, прогрызши мякоть, добраться в самое средоточие дела и погубить его зарождающееся семя. И вот…
…Висит в государевом саду яблочко, с виду наливное и ядреное. А разломить – шевельнется из плода мохнатое до неразличимости человеческого обличья существо! Ущербны плоды, тщетен труд садовника!
Чтобы не подбирались к государственному древу люди-плодожорки, и учредил Петр целый штат надзирателей, представителей царевых, именовавшихся фискалами. Однако же несладко пришлось на первых порах помощникам коронованного садовника. Едва взмахнули они метлами, чтоб смести со ствола государства изворотливых плодожорок, едва тряхнули ветки, как тут же с вершины раздался тихий окрик: «Не то затеяли!»
Висит в царевом саду на самой макушке яблочко наливное и ядреное с названием заморским – Сенат. Это оттуда, из его чрева, покрикивают на мужиков с метлой, стоящих у подножия ствола, оттуда в обличье царедворцев выглядывают плодожорки, ядреные и хитромордые. И тогда три фискала, три садовника – Михайла Желябужский, Алексей Нестеров и Степан Шепелев – принимаются писать жалобу главному садовнику: «Изволил Ваше царское величество учинить фискальное дело, для чего по указу из Сената определены мы. И мы, рабы твои, по должности своей всячески проведывая как в сборах, так и расходах, и об иных нуждах, подали в Сенат многие разные доношения. А по другим делам в разных приказах как за судьями, так и за приказными людьми сыскали всякую неправду, о чем писано порознь в наших особливых доношениях и обличениях, по которым указу и определения не учинено… и на суд неправду сотворивших не токмо которого судью, но и последнего подьячего ко обличению не поставлено. А когда мы приходили в Сенат с доношением, от князей Якова Долгорукова да от Григория Племянникова безо всякой нашей вины бывало к нам с непорядочным гордым гневом всякое немилосердие, еще ж с непотребными укоризнами и поношением позорным…»
Не вдруг отозвался на эту жалобу Петр. Почти два года присматривался к делу фискальскому. Даже рассмотрел в 1713 году проект барона Гюйссена об учреждении фискал-коллегии, но утвердить его не поспешил. А между тем презираемые сенаторами фискалы своими метлами вымели сор прежде всего из тех изб, в коих сенаторы обитали. Обнаружился хороший аппетит к государевой казне у Якова Долгорукова и Мусина-Пушкина, за ними потянулись тайные дела майора Волконского, астраханского губернатора Волынского и снова сенаторов – Самарина, Апухтина… Укрепившись во мнении, что фискальство казне на пользу, царь соорудил подпорку фискалам: издал новый указ, которым признал труд надзирателей необходимым, а чин фискала – тяжелым и ненавидимым.
Матвей Петрович появился в Петербурге почти в то самое время, когда новому указу о фискалах была учинена публика[20] и, конечно же, знал, что к нему будет приставлен некий вездесущий человек с невидимым хвостом помощников. И поскольку Гагарин понаслышке знал истовость в фискальном деле Алексея Нестерова, то причина для письма своему верному таможенному псу Траханиотову явилась тут же, после доверительного слова больного Меншикова.
Разделавшись с письмом в Верхотурск и отправив дьяка Чепелева в канцелярию, Матвей Петрович остался один. И сразу же что-то назойливо засвербило в памяти, что-то важное… «Да, еще же и подметное письмо… О чем в том письме? Каким боком меня касаемо? – мучился вопросами губернатор. – Видно, что-то такое в нем есть, коли царь не позвал к себе, не дал ясного ответа, будет ли поход на Эркет…» Взгляд Гагарина упал на книгу, принесенную слугой из кабинета Петра. Книга была непечатная, по разнофигурью букв и писарским кудряшкам видна была рукодельность книги, хотя копиист все же старался приблизить ее к оригиналу. То была «Фортофикация» Вобана. Гагарин понимал: Петр бессмысленных подарков не делает, но тут, глядя на остроугольные планы крепостей, чем-то похожие на многоконечные звезды, он вздохнул и подумал: «Куда лучше было бы сейчас читать не фортофикацию, а резолюцию на моем доношении с пожеланием удачи в походе…»
Матвей Петрович рассеянно, не вдумываясь в смысл написанного, листал «Фортофикацию». Он был далек от всех этих способов заложения и построения одинарных и двойных теналиев, равелинов с люнетами, орлионов и болверков. Книги, как таковые, мало интересовали его. В книжном шкапу князя вольно размещались Октоих, Ирмологий, Часослов[21] и Евангелие. Он даже с нескрываемым пренебрежением посматривал в свое время на инженеров, рывшихся в книгах, когда ему по указу царя пришлось помогать Мусину-Пушкину в укреплении Московского кремля и Китай-города накануне 1709 года. Тогда Москва сжалась в ожидании: придет или не придет к ее стенам Карл шведский. А еще раньше Гагарин возглавлял строительство канала между Метой и Тверцой – делал цареугодное дело. Там князь бранился и плевался, когда англичанин Перри, вместо того чтобы сразу указывать, где копать водоводный ход, рыть ямы и ставить заплот или клети шлюзов, вдруг замирал на ходу и, доставая пухлую книжицу, принимался что-то вычислять в ней. При этом он наставительно выговаривал Гагарину: «Фейземакель не должен иметь ошибки калькуляции!» Матвей Петрович несколько раз пытался выговорить это «фейземакель», но, матерясь, отказался ломать язык и стал именовать англичанина «слюзным мастером». Дело свое Гагарин видел не в том, чтобы читать и считать. Его дело было иное – согнать из окрестных уездов крестьян, вооружить их лопатами и заставить копать водоход. В этом он развернулся с хорошей ухваткой, и Петр оценил его способности орудовать хлыстом погонялы. Правда, как позже выяснилось, канал вышел неудачным, и через три года на желанной водной дороге государя, соединившей «парадиз» с Каспием, случилась запука – шлюз у Боровицких порогов на реке Бери так занесло песком, что не только струг, но и лодка не могла пройти. Проклиная уже успевшего отбыть в свое отечество англичанина, Гагарин вынужден был ехать на Боровицкие пороги и возвращать шлюзу прежнюю глубину. В неудаче он винил только грамотея-фейземакеля: «…не должен иметь ошибки, а поимел! Эвон как рассчитал, наперло песку под самое верхнее бревно слюза…»
Матвей Петрович все же попытался вчитаться хотя бы в начало первой главы, но как только дошел до слов: «Бастионный угол дефензий BCD – где дефензь линия с полигоном пересекается…» – тут же перелистнул несколько страниц и напал на следующее: «Совершенная крепость имеет сочинена быть в флангах, фасах и куртинах по такой толстоте, чтобы неприятелю – первое: пушечною пальбою оную пробить невозможно было…» На этом месте князь усмехнулся: «Стоит ли ради такого совета выводить какие-то куртины, фасы и фланги» – и, захлопнув Вобанову фортофикацию, швырнул ее в пустой пузатый шкап. Отошел к окну.
Час был поздний, но на дворе стояла майская светлынь. Белая ночь затопила своим светом невские берега. Матвей Петрович никак не мог привыкнуть к этому состоянию – тело вроде сна просит, а на дворе светло. Взгляд Гагарина задержался на низеньком шпице над церковью в крепости, и недовольство его только что читанным в книге Вобана стало обретать ясность. «Уж сколькой год крепость ладят, а все конца не видно. Если б все наши мужики в Сибири допрежь постановки острогов читывали книги да чертежи чертили, то никаких крепостей сейчас бы не стояло. А когда им книги было читать? Пока расчислишь банкет или плацдарм какой, голову снимут или стрелу в спину успеют всадить. Уж коли пришел в землю неспокойную, роняй лес да обставляйся острожком, покудова тебя с берега в реку не сшибли. Так оно делалось, так и будет делаться в Сибири, поелику там нечего бояться пушечного ядра: огненного бою ни у калмыков, ни у тунгусов нет». Окинув мысленно все сибирские владения, Гагарин вспомнил слова Петра о ремезовском чертеже. Подумал, пожалуй, что царь не видел рукописной книжки Семена Ремезова, той, где на первой странице были перечислены все сибирские дальние и ближние остроги. Всю лицевую страницу рукодельного труда заполняла величальная молитва «Имениту граду Тобольску», над которым в небесах возвышалось и реяло всевидящее Божье око, извергавшее стреловидный свет взгляда на иртышский берег, на воздымающееся строение крепостное и хоромное, а уж потом лучи-стригилы веером разбегались «ошуюю и одесную» к Тюмени, Таре, Верхотурью, Епанчину, Пелыму, Березову, Сургуту, Нарыму, Кетску, Томску, Кузнецку, Енисейску, и супротив этих городов под светом ока Господня лежали остроги и городки Ануйской, Аргунской, Ленской, Селенгинской, Удинской, Иркутской, Илимской, Верхоленской, Мангазейской… «Однако же и чудаковат старик Ремезов», – подумал Гагарин, вспомнив рисунок Семена Ульяныча в самом уголке первой страницы. Там была изображена клушка в окружении цыплят, восседавшая, из-за нехватки места на листе, рядом с тобольским Софийским собором. «А может, не такой уж чудак, но прозорливец? Наседку расположил как раз на том месте, где мой тобольский дом стоит…» – впервые задумался над смыслом нарисованного Гагарин. Но спустя минуту уподобление наседке не понравилось ему, тем более что вспомнилось порхавшее по тобольским кабакам и кружечным дворам присловье о том, что тобольская гагара лишилась гагарят, было это года два назад, когда Петр велел Матвею Петровичу удалить из Сибири всех своих родственников, рассаженных по доходным должностям. Тогда-то и бросил кто-то злоязыкие слова про гагару и гагарят.
Засыпал Матвей Петрович будто в полубреду, столичные картины теснились московскими и сибирскими, но сон ему приснился ясный и благостный своим началом. Он, хозяин сибирский, вместе с митрополитом Иоанном Максимовичем пьет чай в новом доме своем подле Софии тобольской. Зеленый двор полон торговых гостей: бухарцы в обнимку с голландскими матросами, а брауншвейгский посланник учит своим танцам посланца китайского. В оркестре играют калмыцкие и якутские музыканты. Солнце припекает, парики, треухи и бараньи шапки брошены в сторону, лишь несколько огромных цыплят, ростом с верблюда, ходят важно промеж гуляющего люда, и на их головах сияют государевы короны с двуглавыми орлами и названиями городов. В середине зеленого двора восседает огромная клушка, и вокруг ее гнезда перетаптываются с ноги на ногу все гагаринские сродники, отталкивая зевак бердышами и покрикивая: «Рано, не снеслась еще, не снеслась!» Митрополит протягивает Матвею Петровичу чашу с вином, повторяя: «Все в мире по воле Божией…» Но Гагарин возражает: «А сия клуня, святой отец, в моей воле. Как прикажу, так и снесется». Гагарин встает, берет со стены ружье, изготовленное Зеленовским, и сыплет пороху на полочку замка. Иоанн за его спиной повторяет: «Средоточие греха есть своеволие и горделивость, своеволие и горделивость…» И не успевает Гагарин выстрелить, как со двора кричат: «Снеслась, снеслась!» Из окна хорошо видно, как гагаринские сродники откатывают от клушки огромное яйцо, все золотое и сияющее. Они пытаются укрыть его епанчами и укатить в сторону губернаторского дома. Иоанн гудит за спиной: «Господь образует свет и творит тьму! Все под оком Божиим!» Матвей Петрович взглядывает на небо, и вместо солнца ему видится огромный жаркий глаз, но это не око Божье, а горячо бегающий по фарфоровому белку глаз царя Петра. Матвей Петрович бросается во двор и кричит: «Занавесить, занавесить!» Из рентереи под кремлевской стеной высыпают пленные шведы и принимаются ткать парчовые полотна, закрывая ими небесный зрачок, но жар его прожигает занавес, и горящие лохмотья, грохоча, как кровельная жесть, валятся на зелень в ополоумевшую толпу, а когда глаз вновь становится различимым, то оказывается, не Петр взирает с неба. Через Софийские ворота во двор на коне влетает Меншиков и тычет шпагой в небо, крича: «Фискал! Фискал Нестеров!» Но Матвей Петрович никогда не видел Нестерова, он его не узнает, он узнает дымящийся ненавистью взгляд Романа Алмазника. Вот они с Алмазником уже стоят один против другого, но не в Тобольском кремле, а на Соборной площади в Москве. Выходит протодьякон Архангельского собора. Сейчас Гагарина и Алмазника поведут к крестному целованью, и Матвею Петровичу невозможно не признаться… Раздается колокольный звон, и Матвей Петрович просыпается.
Над дремотным туманом, укрывшим Петербургский остров, ватно стелется звон шведской меди. Трофейный колокол из Абова на Троицкой церкви созывает прихожан к заутрене.
Царю в первую же ночь по прибытии на Котлин тоже снился сон. Вообще, чаще всего ему снились корабли то под синими флагами, подающими сигнал к атаке, то с победными зелеными. После Прутского похода в череду корабельных сновидений вторглась одна навязчивая картина: турки с визирем во главе толпятся вокруг царя, все они расстегивают усыпанные каменьями пояса с саблями и с поклоном протягивают дорогое оружие ему, Петру… Виденье это, разнообразясь цветом и лицами, как бы мстило Петру за позор Прутского похода. Но на Котлине ему приснилось иное. Наутро Петр рассказал своему секретарю:
– Среди древес дуб возвышается, и якобы на нем орел восседает, а под него подползает, крадучись, зверь, видом не то дракон, не то крокодил. Не малый зверь. Точию он потянулся к ветке, где орел, как тот на него накинулся и тотчас из затылка мозг выклевал и шею переел наполовину. А тут народ столпился. Толкуют и гадают. И прямо через телеса человеческие откуда-то берется и следует змеиным ходом такой же зверь, но с цельной головой. Паки орел на него набрасывается и отъедает голову напрочь… Ну, что ты мне, Александр Васильевич, на такие виденья скажешь?
– В руку сон, государь. На добрый знак. Первый зверь – это Карл под Полтаву крадется. Наполовину шею ему там перекусили, ан жив остался. А второй зверь – тоже Карл. Теперь, как ушел от паши из Бендер, где-то крадется домой. Крадется, да не ведает, что настанет час – вовсе наш российский орел головы его лишит. На то он двуглавый…
– Больно ты скор. Еще надобно выследить, где Карл притаился и где явит себя, а уж потом и клевать. А что ты о двуглавом скажешь? В два клюва одного врага должны мы долбить?
– В два наискоряе будет.
– Э нет, Алексей Васильевич. Тут ты впросак попал. Один клюв у нашего орла для врагов снаружи. Второй – на тех, кто изнутри против государства замышляет. Веришь ли, едва отлучусь из Петербурга, как метится мне, шевелится где-то этот второй зверь и к дубу змеится… Да бог спасет. Давай о делах. Нынче и завтра и еще день, наверное, мне недосуг будет с бумагами заняться. Все неотложное, чего я не успел подписать, приготовь. До выхода к шведским берегам представь! А мне позарез надо достичь того, чтоб все галеры и линейные корабли друг друга разумели в сраженье. Шутка ли, впервой таким флотом на шведа вышли.
Ни через три, ни через десять дней рука царя не дотянулась до листа с доношением Гагарина. После выхода из Санкт-Петербурга царь был занят только флотом, и лишь 22 мая, уже поздним вечером, среди прочих бумаг, поданных Макаровым, увидел он гагаринскую записку. «Построить город у Ямышева озера, а буде мочно, и выше. А построя крепость, искать далее на той реке вверх, пока лодки пройти могут, и от того итти далее до города Эркета и оным искать оного дела. Для сего определить войска 2000 или, по нужде, полторы. Так же сыскать из шведов несколько человек, хотя б года на три, которые умеют инженерства, артиллерии, так же, кои хотя мало умеют около минералов…» – написал Петр пляшущими неравнорослыми буквами свой указ Гагарину. Передал бумаги кабинет-секретарю и запыхтел трубкой, выжидая, пока Макаров прочитает его резолюцию, а затем спросил:
– Ты, Алексей Васильевич, человек хоть и невоинский, да все одно, понимаешь мои мысли. Не думаешь ли, диспозиция на Эркет – хромотой страдает?
– Откуда хромоте взяться, коли нога одна? – резонно возразил Макаров.
– Верно! – Петр вскинул влажный чубук носогрейки кверху. – Так и есть. Одна нога. Попал в цель. Давай сей замысел ставить на две ноги. Ты, чай, понимаешь, что успех в деле решается охватом.
В воображении Петра возникла давно обдуманная картина: две стрелы – одна из Тобольска, другая – из Астрахани, хищно изгибаясь, вырастают в сторону Малой Бухарии, где неведомо как, но уж доподлинно известно, есть добытчики песошного золота. Воображение царя скрадывало огромность пространства, стрелы виделись царю толстыми, мускулистыми. И не могли они, благодаря вольности мыслей размечтавшегося царя, ни зацепиться по мере внедрения в тело Азии за каменистые сопки, ни увязнуть в зыбучих песках.
– Надо обнимать противника. Брать его в две клешни – не вырвется! Ты пошли кого-нибудь из моих денщиков в Санкт-Петербург, чтоб явился ко мне Бекович, он южный выходец. Надо так учинить дело, чтоб сей замысел не охромел у нас на столе. Пункты для похода Бековича на Эркет я продиктую. Надо с хивинским ханом заводить дружбу. Запиши, чтоб идти Бековичу-Черкасскому прежде на Хиву, апосля на Бухару. Пусть сыщет в тех городах дело какое торговое. И пока оное дело устраивается, проведывает настоящее – путь на Эркет.
Перо в руке Макарова подрагивало вслед за мыслью царя, повторяя ее зыбкость и прерывистость. Он все записал и уточнил:
– Кто встает у команды второй клешни? Сам Гагарин?
– Нет, Гагарин будет у основания ее, а на острие нужен преображенец, да такой, чтоб я его знал еще безусым.
Петр походил у стола с бумагами, выглянул в узкое окошко, за которым размеренно шлепалась о камни Кроншлотской крепости волна, и, перебрав в уме офицеров Преображенского полка, обернулся к Макарову:
– Пора Бухольца на крепкое дело ставить. Газардовать в сем походе не следует, тут офицер нужен, чтоб мог и отмерить и отрезать. Готовь отверстый указ[22]: на Эркет идти подполковнику Бухольцу.
Целую неделю пыхтел вместе с писарем Иван Чередов над статейным списком о поездке в ставку контайши, а как только выбелил писарь листы, казачий голова собрался в Тобольск. Ехал с надеждой вручить список самому Гагарину, да не вышло – губернатора в Тобольске не было. Список пришлось передать из рук в руки коменданту Семену Карпову.
На обратном пути, уже накануне Покрова, Чередов вместо следования на Тару наезженным путем вдруг повернул к устью Ишима. Хмурый с того момента, как узнал, что Гагарина нет, казачий голова только и бросил спутникам:
– До Коркиной слободы подымемся. Крюк невелик.
В правом тороке за седлом вместе с тобольскими гостинцами вздрагивал в такт конской поступи небольшой сверток, тот самый, что был принесен Чередову стариком на одной из иртышских ночевок. Сверток был невелик, но все время напоминал о себе. Чередов раздумывал: «Надо, пока память горячая, доправить со Степки Костылева должок. Не то уйдут два верных фунта могильного золота – продаст кому-нибудь. А может, и сбыл уже…»
На исходе четвертого дня, щурясь от первого снега, заехали в Коркинскую и обосновались в казенной избе. Чередов первым делом послал старосту за Костылевым. Уже на пороге староста переспросил:
– А какой из них тебе знакомец? Старшой аль младшой?
– Степка какой?
– Теперя он и младшой и старшой. Дядя его был старшой. Анадысь помер.
– Степку давай. Да скажи, из Ялуторовска зовут, – ухмыльнулся Чередов.
Староста вернулся не вдруг и виновато затаился у притолоки:
– Нет его, Степки.
– Куда делся?
– Жена сказывает, на девятины дядины пошел.
– Так мы его дома и обождем. Девятины долго не справляют, – недобро промолвил Чередов, вставая с лавки.
В домишко Костылева на окраине слободы Чередов не вошел, а ввалился. Пламя лучины вздрогнуло, и горячий уголек, хрустко обломившись, с шипением канул в кадочку с водой, над которой торчала развилка кованого светца. Молодая женщина растерянно замерла возле устья печи, с опаской поглядывая на незнакомых гостей. В ушах ее еще звучали не совсем осмысленные слова старосты, сказанные около часа назад: «Да что ж ты, красавица, племянница моя ненаглядная, мужу шаньги подорожные в котомку не складываешь? Там человек приехал, тарский голова. Что у него на уме, не видно, да велел ялуторовским представить. Степка! Зачем ты ему? А?.. Ты сбирайся, сбирайся. А я пойду потихоньку, чтоб ты успел. Да не мешкай. Больно сердит гость…»
– Муж твой скор на ногу? Быстро вернется? – спросил Чередов.
– Скор, скор, батюшка, – ответила молодая женщина и запнулась, сминая мелко край фартука.
Расселись по лавкам. Казаки, сморенные дорогой, начали клевать носами. И Чередов не удержался, привалясь к стене, задремал. Казалось, на минутку. Проснулся от того, что хозяйка вгоняла с легким потрескиванием нож в сухое сосновое полено, щепки звонко падали на пол.
– Лучины кончаются…
– Так. Лучины кончаются, а Степка где?
– Бог его знает…
Чередов покрутил носом, оглядывая сумрак избы, и наотмашь саданул спящего рядом старосту:
– Где Степка?
Староста ошалело молчал и делал вид, что еще не проснулся.
С рассветом казаки осмотрелись окрест двора и на белизне вчерашнего зазимка увидели за изгородью следы копыт. Следы шли сперва частые, шагом ехал, а затем все реже и реже – в намет пошел. По редкоточию следов выехали к Ишиму. Следы терялись на кромке темной воды. Противоположный берег был чист.
Степан домчался до Ишима без оглядки. У самой воды смирил коня и направил его мелководьем вверх по реке, придерживаясь извилистой границы темной осенней воды и белого берега. «Вот времечко, по светлому снегу не могу проехать, а темнотой да чернотой крадусь, – раздумывал Степан, отдышавшись от быстрой скачки. – Черное да темное следов не оставляет…» Конь осторожно поплескивал деготь ночной реки, звуки вязли в тишине, создаваемой толстой поволокой пушистого снега, укрывшего без обиды каждую ветку, каждый камешек. Там, где берег был покрепче, Степан правил коня к самому бечевнику, стараясь, однако, не выезжать на снег и не обивать его с нависших кустов вовсе не потому, что ему не хотелось нарушать благодатной лепки зазимка. «Еще верст пять придется водой плюхать, – решил Степан, прикидывая. – Завтра с утра чередовские подручные все берега изрыскают, всякую голую ветку обнюхают. Дался я ему, голове этому… Нет, не дался, пусть не зарится на неправедное…»
Почти перед рассветом, миновав приметный поворот реки, Степан вздохнул – вот он, Силантьев лог. Тут, как ни крути, придется выезжать на берег, в один скачок до смолокурки не махнешь. Поди-ка, в эту даль казаки не сунутся. А ежели и дойдут, Бог даст, снег растает, тепло еще…
С такими мыслями он круто повернул коня и двинулся по дну лога, узнавая в редеющей сутеми каждый его поворот. Верстах в пяти от реки по этому логу, в старом березняке, стояла избушка, и рядом с ней было устроено несколько ям для высидки дегтя. Угол этот, за дальностью, мало кто из коркинцев жаловал, а деду Силантию казалось, что нет места более привольного для несуетливого дела. Склонность старика жить анахоретом вызывала у Степана в самые молодые годы недоумение, но со временем он начал понимать его. Недокучливый мир одиночества сулил такой простор раздумьям, что он однажды даже вздрогнул от мысли: а что, если всю жизнь одному прожить? Одиноко да вольно… И поскольку он оставался жителем слободским и уже оброс, пусть и малой, да семьей, то это казалось ему непостижимым. А вот дед Силантий – тот может. Степан каждый год появлялся ненадолго в смолокурне Силантия, чтобы испить хоть глоток мечтанного житья.
Только один раз, и было это минувшим летом, нарушил Силантий определенный им порядок своего анахоретства – ходил в степь с молодыми мужиками.
Старик осенил Степана двуеперстием и не без удивления стал рассматривать его – это ж случилось что-то, коли парень впотьмах шарашился вдоль реки и к утру дошел до избушки.
– Выводит меня, дедка, этот аспид подколодный на чистую воду.
– Какой аспид?
– Да голова казачий из Тары. Исполнил обещанное, явился должок справлять. Вот я и пришел к тебе по чистой воде – боялся след оставить.
– А и вправду – аспид. Крепко ты его златолюбие уязвил.
– Не привык, коли неслух на пути. Покорять приехал…
– Может, и покориться бы надо… Хуже не сделал, что вдругорядь убег?
– Выходит, сперва убег, а теперь и подумать время?
– Что ж не время. Время. Накрывай-ка коня, попону с лежака возьми. Там и тебе есть чем укрыться. Ночь ехал, выспись. А уж потом, как в мозгах рассветет, думать будешь.
Степан забылся неспокойным сном, и всякий раз, когда старик зачем-либо входил в избушку, он отрывал голову от шерстяного ложника, мутно вглядываясь и узнавая старика, опять проваливался в забытье. Под вечер встал, встряхнулся.
– Ну, теперь я весеннему суслику ровня.
Ужинали при свете лучины. Старик не торопился с разговором. А Степану не терпелось:
– Ради чего я ему покоряться должен?
– Власть он в здешних краях. Как перечить?
– По-твоему, дедка, я должен стоять, как березка. Он с меня будет бересту драть, а я – стой?
– Та ведь не до смерти ободрал бы. Исполу предлагал поделить.
– Исполу. Мне, что ль, досталось то могильное золото? Он со всем нашим согласьем, со всей слободой готов исполу делиться? Готов, нечестивец. Да неравно получается, не исполу – один со всей слободы будет драть…
– Что ты отдал свое золото на дело книжное да на иконное, то я знаю. Ты, Степка, не кипятись. И все мы так – не себе, а на благочестие. Но как ты благочестие наше древлее блюсти будешь, коли тебе этот человек будет теперь на пятки наступать? Он ведь не отступится.
– Да он же воровски требует!
– Да и мы золото не больно праведно обрели. Грех я на душу взял – пошел с вами в бугры. Чьи-то могилки, пусть и не православные, опакостили.
Степан, распалившийся воспоминанием чередовской наглости, вдруг обмяк и потупился:
– Ты прости меня, дедка. Прости, я тоже грех взял… Не все могильное я отдал на иконы. – При этих словах Степан пошарил за пазухой и протянул старику открытую ладонь. В отблесках огня, свернувшись в ложбине ладони, сверкнул золотой зверь величиной не более голубиного яйца. Странно извернутый, так, что голова его касалась крестца, зверь бесстрастно смотрел на людей выпуклыми золотинами глаз. Старик отшатнулся.
– И ты сию нечестивость рядом со крестом бережешь! – воскликнул Силантий. – Такую несусветную ересь, язычество поганое! Грех на тебе, Степка. Нет, не то, что утаил, – грех, а то, что рядом с крестом…
Степан покаянно молчал. Потом сунул зверя в карман и негромко попросил:
– Прости, деданька. Соблазнился красотой, вот и принял грех. Жаль было, зверь невиданный…
– Молитвами, молитвами искупай…
Старик затеплил масляную лампаду перед бронзовым складнем, и пламя ее при каждом поклоне молящихся долго волновалось и клонилось дуновением воздуха к лику Спаса, оживляя его отсветами и бликами.
Перед тем как улечься спать, Силантий вернулся к вечернему разговору:
– Молодой ты, Степка. Твердости веры в тебе мало. А Господь должен быть в нас неисходно! Ты еще немало дров наломаешь. Ну и что с того, что мне поделиться с нечестивым пришлось? Ты оглянись вокруг смолокурки. Я тут уж и не помню, есть ли береза в округе нетронутая. Всю округу я оберестил, шкуру с берез деру на деготь. Иные березы успели и вторую бересту на снятых местах завести. Так и человек: с него дерут, а он, глядишь, да и снова оброс, снова именьем каким-нито обзавелся.
– Обидно, дедка, что он, голова этот, не чужой, не какой-то никонианец поганый, а к нашей вере склонен, я об этом слышал.
– Ох, темнеченьки! Ох, боюсь я, давно уже не склонен. В ином разе ему бы не ходить в казачьих начальных людях. Слышал и я, да вот что – всех, кто веры новой не причастился, кто царю-антихристу не присягнул, тех жестоко гнать будут в каторгу и огнем жечь. Так что давно он, тарский голова, обмирщился и благочестие потерял. Лучше тебе с ним не связываться. Мне-то что? Я уж больше в степь не ходок, а в мой лог идти ему дела нет.
Напоминание о степи заставило и старика и молодого на какое-то время замолчать. Первым заговорил Силантий:
– Ты, однако, и не задумался, зачем я в степь с вами ходил? Нет, конешно. Ну вот казачьим людям сказали мы, за солью ходили. Ан не провели – один сдогадался. За обман поплатились.
– Какой обман?
– Да не по соль, а могилы зорить ходили. А ведь я никому, и тебе даже не сказал, зачем я в степь ходил. Тут я перед Богом и собой без обмана. Не будет – попомни это! – нашему согласью тихого житья в этих краях. Помянешь мое слово не раз. И сюда антихрист доберется. Тогда-то и поймут люди, никакое это не Беловодье еще. Сели мы на Ишиме и не дошли до него. На полпути задержались. Ты видел на краю степи – горы синели? Там искать надо.
После Покрова минуло два дня. Нахлынувший теплый ветер принялся рушить все благолепие первого зазимка. Обнажились сперва ветки кустов и деревьев, потом макушки пней, пошли вокруг стволов расширяться талые круги, срастаясь к полудню и обнажая зеленую смятую траву и притиснутые к земле желтые россыпи березовой листвы. Но первой протаяла тропа, петлявшая по дну лога в сторону реки. Степан нет-нет да и оглядывался в ту сторону, старик иногда перехватывал его оглядку, но помалкивал. А через неделю после неожиданного приезда Степана будто между делом обронил:
– Поутру сплавлюсь до заимки. Не буду ждать зимника, свезу деготь, а от заимки сын перевезет в слободу. Авось поспеет на ярмарку…
Трижды навьючивая лошадь логушками с дегтем, вывезли поклажу к реке, а наутро Степан помог старику выволочь из черемуховых зарослей лодку, перенес в нее логушки, и, грузно чиркнув кормой по речному хрящу, долбленка отчалила.
– Гляди за ямами, деготь не перемори. Как два дня минет – вскрывай котлы да пробуй, светел ли? Чтоб без пригара, чтоб не сгустел. Вернусь, справлю… – наставлял молодого Силантий.
Три дня одинокого житья в Силантьевом логу прошли томительно. Как будто какой-то лениво шающий огонек неизвестности мешал Степану привычно подбрасывать дрова в подтопку дегтярных ям. Огонек этот не то чтобы жег каждую минутку, но все ж хватило его, чтоб напоминать слова старика: «А ведь он не отступится…» Степан терпеливо высидел у печей два дня, на третий пригасил в одной из ямок огонь и вскрыл закупоренный берестой, ветками и дерном котел. Зеркально-черно блеснула жидкость, в нос шибануло жженой березой. Ковшиком из бересты Степан колыхнул деготь и черпнул поглубже, со дна. Опрокинул ковш на волосяное сито – содержимое пролилось легко, но на сите осталось несколько черных изъязвленных жаром завитков бересты. «Так, так, лучше недосидеть, чем пережечь», – вспомнил Степан наставления старика и принялся сливать готовый деготь в широкую посудину, процеживая, а уж оттуда – в деревянные логушки. За этим занятием и застал его оклик:
– Не засиделся ли, парень?
Степан вздрогнул, разогнулся. За спиной стоял Силантий.
– Перехолонуло все, до кишок. Так и речи лишить можно.
– С чего?
– Да кто ж так пугает?
– Не помню, чтоб ты был шибко пужливым.
– Веришь ли, нет, деданька, три дня, как на углях, сижу. С тобой был без особой думы. А тут… как будто не я из бересты деготь гоню, а кто-то из меня всякие мысли вываривает на тихом огне. Видел кого слободских?
– Были мужики на заимке.
– И что?
– Да говорят, не спеши, Силантий, с товаром, не ходок он нынче.
– Какой товар?
– Да деготь. Сказывают, что бывшие на Макарьевском торге привезли известие, ноне указ антихристов есть: не выделывать кожи дегтем, а выделывать морским салом. Теперя будет в цене товар поморских торговцев – ворвань, коли такой указ.
– Ты что ж меня томишь? Про слободских что там?
– Вот я и желаю, чтоб ты дотомился весь, без остатка на попятную.
– Для чего?
– Да незачем теперя тебе в слободу являться. Этот твой аспид, из Тары, сыпнул старосте пороху под рубаху, едва на козла не воздвигнул. Все за тебя. Одно благо, никто из слободских не проговорился, мол, женат Степка на старостовой племяннице. Собрал твой поимщик всю слободу и объявил тебя преступником царского указа.
– Какого?
– А в степь не ходить. Сказал людям, ему ведомо, что ты в степь ходил, а стало быть, и преступник. Судить тебя будут, как словят. И сказал, объявят тебя вором по всем окрестным деревням и крепостям, а в городах лист повесят. Давай кумекать, куда тебе подаваться. Не будешь ведь ты в моей дегтярке деготь сидеть до скончания веку твоего притеснителя. Он мужик в могуте, долго еще жить будет.
– Подальше куда придется…
– Да уж не за поскотиной хорониться. Слышно, будто много беглых у Демидова на Невье хоронится. Принимает он на железных заводах наших людей. Может, туда?
– Там схорониться можно, да как оттуда выйти?
– Ну не к Демидову, так можно и малой птичкой подле великой птицы пожить. Возле орлиного гнезда никто птаху не трогает.
– Это как же?
– В Аремзянке наш скит, тебе это ведомо. Под самым великим гнездом в Сибири – под губернаторским. Только жить там придется безвыходно в Тобольской.
– Без семьи, без жены?..
– Жену покудова не трожь. По ее следу твой сыщут разом.
– Да, конешно…
– Смекай, смекай. А я уходился, пока на шесте вывершил реку до своей берлоги. Ступай, дотемна свози с берега поклажу, харчишко там кой-какой. Да лодку посунь повыше от воды, я не смог, упеткался.
Застоявшийся конь обрадованно хватил было в галоп, почуя возвратную тропу, но Степан придержал его, перевел на шаг. Не спеши, родной. То еще не к дому дорога. На берегу, быстро навьючив лошадь и управившись с лодкой, Степан присел на нее и стал смотреть на холодную воду, запятнанную палой листвой. Скатится лист, просветлеет река, и будет хорош на ней клев, да, видно, не придется в этом году метать рыбную снасть в Ишим, знакомый до малой заводи. А куда, в какую заводь забрасывать удилище, коли на тебя на самого готовится сеть чередовского сыска?
