Осень 1914 года. Схватка за Польшу
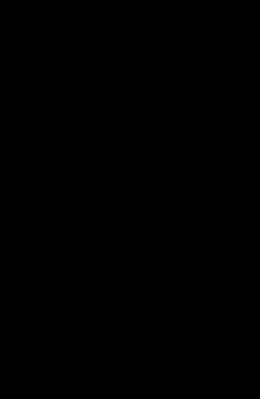
© Оськин М.В., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Введение
На протяжении ряда столетий Польша – Речь Посполитая – являлась своеобразными дверями между Западом и Востоком, западными дверями через мост восточнославянской территории. С одной стороны – мощные европейские государства, с которыми Польша непрестанно воевала, одновременно стремясь влиться в семью западноевропейских стран. С другой стороны – неостанавливающийся поток восточных народов, плескавшийся в ворота европейской цивилизации через могущественную Османскую империю. И здесь же до поры до времени в глубоких снегах таилась непознанная страна московитов – Россия, наследница евразийской Монгольской державы.
Отношения Польши и России нельзя назвать дружественными. Этому мешала и разница религий, почитавших друг друга еретическими, и борьба за возможность быть бастионом Европы на востоке маленького континентального пространства в преддверии необъятной Азии, и схватка за влияние на народы, некогда входившие в состав Великого княжества Литовского. Монголо-татарское нашествие отделило Россию от Европы, параллельно с этим передав Белоруссию и Украину под власть языческой Литвы, что вскоре стала частью католической Польши. И как ни крути, но факт остается фактом: Речь Посполитая в основе своей являлась государством католических панов и православных хлопов – одно только это закладывало краеугольный камень противостояния в русско-польских отношениях.
До поры до времени попытки России выйти из тени успешно отражались поляками. Поражение Ивана Грозного в Ливонской войне стало самым тяжелым, создав предпосылки для будущей Смуты. В этой борьбе Польша обычно выступала вместе со Швецией: обе эти великие региональные державы, если пользоваться современной терминологией, даже соперничая друг с другом и опустошая территорию друг друга, не забывали о России. Начало XVII века стало пиком польского влияния в Московии. Поляки владычествовали в Москве, возводили на русский трон своих ставленников, откалывали от России в свою пользу громадные куски земли, просто грабили земли соперника. Распрей не замедлили воспользоваться шведы, окончательно отрезавшие Россию от Балтийского моря.
Весь XVII век раздиравшаяся внутренними распрями своеобразная польская монархическая республика растрачивала свои силы на всех направлениях. Это и 15‐летняя война со Швецией, и 20‐летняя война с Россией из-за Украины, и никогда не прекращавшаяся война с Турцией. Разгром гигантской турецкой армии под Веной в 1683 году, в котором ключевую роль сыграла польская армия короля Яна Собеского, надломил страну. Теперь уже соседи возводили на польский трон своих ставленников, а на Востоке поднималась могучая православная империя – наследница Византии, – претендовавшая ни много ни мало уже на роль великой, а не региональной державы.
Российская империя Петра I Великого сумела занять этот постамент. Разгромленная Швеция была выбита из ряда региональных держав и, несмотря на ряд военных конфликтов с Россией в XVIII веке, так и не восстановила своего статуса. Польша же все больше и больше раздиралась на куски в борьбе аристократических кланов, и 1‐й раздел Польши Австрией, Россией и Пруссией в 1772 году стал закономерным итогом развития монархической республики, или республиканской монархии – без особой разницы. Последующие разделы Польши соседями в 1793 и 1795 годах уничтожили ее как независимую страну. Тем самым австрийцы и пруссаки существенно «округлили» свои владения, а русские, присоединив к православной монархии все православные восточноевропейские народы, избавились от призрака повторения Смуты начала XVII века.
Великая французская революция и Наполеоновские войны стали для поляков надеждой на восстановление государственности. Правда, нельзя забывать, что польская шляхта претендовала на независимую Польшу не в пределах собственно польских земель, населенных поляками, а на все наследство некогда могучей Речи Посполитой – то есть и на Восточную Пруссию, и на Белоруссию, и на Украину, и на Галицию. Поляки доблестно сражались во французских армиях на всех фронтах, но это не помогло. Франция была отброшена в свои границы, королевская власть восстановлена, Наполеон – сослан на остров Св. Елены, а Польша – вновь поделена между Австрией, Россией и Пруссией. При этом большая часть собственно польской территории теперь досталась Российской империи.
Польские восстания XIX века, добившиеся лишь ужесточения русского режима в Польше, в итоге вылились в насильственную русификацию Привислинского края, как официально стала именоваться Польша при императоре Александре III. Подобная же политика германизации, только с большим успехом, проводилась немцами, а вот в Австро-Венгрии польская шляхта обладала рядом привилегий. Неудивительно, что в случае Большой Европейской войны между державами Антанты и Тройственного союза, когда Россия оказывалась «по одну сторону баррикад», а Германия и Австро-Венгрия – по другую, именно польские земли становились наиболее вероятным пространством ведения военных действий.
Редко, когда все планы сбываются в той степени и последовательности, что задумываются задолго до начала их реализации. Предположение, высказываемое накануне Первой мировой войны Генеральными штабами великих держав Европы о скоротечности предстоящего конфликта, переносило тяжесть оперативно-стратегического планирования на первые операции в приграничной полосе. Конечно, никто не желает, чтобы пожар войны затронул его собственную территорию и население. Можно допустить, что какие-то районы подвергнутся нашествию неприятеля, однако если армия собирается наступать, то это нашествие представляется непродолжительным, а его последствия – незначительными.
Русская Польша, как то рисовалось в русском Генеральном штабе, вообще не должна была стать ареной предстоящих боевых действий против Германии и Австро-Венгрии. Русское военно-политическое руководство было полно самых искренних намерений немедленно же по окончании сосредоточения действующей армии перенести негатив такого явления, как война, на территорию противника. В самых смелых мечтах рисовалось, что армии Северо-Западного фронта решительным вторжением выбьют противника из Восточной Пруссии и изготовятся к рывку на Берлин по течению Нижней Вислы. В самом крайнем случае, как допускали в русской Ставке, часть ударной группировки может оказаться сосредоточенной в Варшаве, чтобы наступать в Познань и Силезию, прямо к Одеру. В то же время Юго-Западный фронт обязывался, разгромив австро-венгров в генеральном сражении у Львова, занять Галицию, подойти к Карпатам и создать условия для выхода на венгерскую равнину.
Иными словами, согласно русским расчетам, пострадать должны были польские земли Германской и Двуединой монархий. Противник же планировал войну с точностью до наоборот – перенос боевых действий в русские пределы, в том числе и в Центральную Польшу. Следовательно, чьи бы планы ни сбылись в реальности, польская территория вне принадлежности к тому или иному государству становилась ареной ожесточенной схватки многомиллионных армий.
Все необходимые предпосылки для осуществления данных замыслов в России были. Недооцененным оказался один фактор – противник. Переоцененным – полководческие способности высших военачальников Российской империи. В результате спустя месяц войны русская Ставка осознала, что если еще Галиция более-менее успешно занимается армиями Юго-Западного фронта, после ряда тяжелых кризисов сумевшими нанести поражение австро-венгерским войскам, то армии Северо-Западного фронта оказались отброшенными из Восточной Пруссии, а немцы уже изготовились по России.
Перенеся действия в Польшу, на левобережье течения Средней Вислы, австро-германцы наступлением по чужой территории обезопасили свою собственную от неприятельского (в данном случае русского) нашествия. Обладая маневренным превосходством и преимуществом качества командования и вооружения, всю осень немцы успешно сдерживали превосходящие по численности русские армии в пределах русской Польши. Русская Ставка, несмотря на глобальный план удара по Берлину, так и не смогла преодолеть этого пространства. К декабрю же, когда германское командование на Востоке получило подкрепление из Франции, а в России обозначился кризис вооружений, сделать это вовсе не представлялось возможным. Все еще надеясь на чудо, русские попробовали наступать в Восточной Пруссии, и дело закончилось поражением в Августовских лесах. После 1‐й Праснышской операции русский Северо-Западный фронт застыл в пассивности и бездействии до лета 1915 года, когда немцы перенесли главный удар на Восточный фронт и перешли в решительное наступление.
В течение всей Первой мировой войны поляки показали себя положительно со всех сторон. Во-первых, они проявили лояльность своим режимам. Австрийские, немецкие, русские поляки, как правило, честно сражались в войсках тех стран, чье подданство они имели. Австрийцы (успешнее) и русские (менее успешно) пробовали создавать национальные польские формирования, которые также принимали участие в войне. Во-вторых, когда Россия стала стремительно разваливаться под ударами великой русской революции, а поражение Центральных держав стало неминуемым, все поляки единодушно объединились в стремлении образования независимого государства. Разумеется, отдельные группировки боролись между собой за власть, но генеральная линия не менялась – полный суверенитет, который к тому же гарантировался победившей Антантой. Ход и исход советско-польской войны 1920 года является подтверждением тому. Этими сражениями фактически и закончилась Первая мировая война для Польши.
Первые же боевые действия на территории Польши произошли на второй месяц войны – начиная с конца августа 1914 года. Целый год, до осени 1915 года, противоборствующие стороны вели борьбу за Польшу. В конечном счете австро-германцы сумели отбить польские провинции у русских, ненадолго объединив их под своей оккупацией в ожидании конца войны, но тем самым положив грядущее воссоединение польских земель и обретение ими независимости по итогам Первой мировой войны.
Глава 1
Варшавско-Ивангородская наступательная операция
Подготовка операции
Первые операции кампании 1914 года на Восточном фронте – Восточно-Прусская наступательная и Галицийская битва – закончились как бы, условно говоря, «вничью». С одной стороны, своим безоглядным наступлением на запад вглубь Германии русские все-таки вынудили германское верховное командование растеряться и ослабить ударную группировку во Франции. Итогом стал проигрыш немцами Битвы на Марне, а с ней и блицкрига, что в наиболее вероятной перспективе вело и к проигрышу всей войны. С другой стороны, что касается непосредственно Восточного фронта, германцы сумели вытеснить русские армии Северо-Западного фронта из Восточной Пруссии, причем 2‐я русская армия А.В. Самсонова оказалась большей частью уничтожена под Танненбергом.
В германский плен всего за месяц упорных боев угодило 150 тыс. русских генералов, офицеров и солдат. Быть может, впервые в отечественной военной истории вследствие неумения собственного командования и возросшей огневой мощи техники в плену оказалась такая масса людей. При этом – при примерном исходном равенстве сторон в силах. В ходе Восточно-Прусской операции немцы, потеряв не более 70 тыс. чел., вывели из строя убитыми, ранеными и пленными до 250 тыс. русских солдат и офицеров. Соотношение – два к семи. Германская военная машина, большая часть которой в августе 1914 года была занята во Франции, отчетливо продемонстрировала свою выдающуюся боевую мощь, свою превосходную (в сравнении со всеми остальными) подготовку к современной войне и просто блестящее качество командного состава.
Таким образом, уже через месяц после начала войны в Российской империи стало ясно, что быстрой победы в войне не получилось, что нужно готовиться к тяжелым сражениям в ближайшей перспективе, что немцы оказались столь сложным противником, что против него предстоит действовать заведомо превосходными силами. В создавшейся обстановке Ставка Верховного командования во главе с дядей императора Николая II – великим князем Николаем Николаевичем – спешила возможно прочно закрыть все образовавшиеся бреши на Северо-Западном фронте.
Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы в русском, теперь уже оборонительном, фронте на германской границе образовались такие «дыры», что дальнейшее удержание обороны стало бы невозможным. В таком случае германское командование на Востоке – командарм-8 П. фон Бенкендорф унд Гинденбург и его начальник штаба Э. Людендорф – получило бы возможность нанести удар в тыл всей русской Польше – по важнейшему железнодорожному узлу Седлец.
В целях остановки вероятного наступления противника, который к 3 сентября 1914 года вытеснил русские армии Северо-Западного фронта из Восточной Пруссии, Ставкой были предприняты следующие мероприятия:
– был сменен главнокомандующий армиями фронта – Я.Г. Жилинского заменил отличившийся в Галицийской битве взятием Львова командарм-3 Н.В. Рузский. Среди офицеров считали, что «с вступлением Рузского в командование армиями прусского фронта наши действия там сразу приняли более идейный характер (стратегическая сторона). Жилинский этого не сумел сделать: его единственное стремление заключалось в том, чтобы армии не вырвались из его управления, поэтому он иногда душил частную инициативу и забывал все остальные»[1];
– на южном берегу реки Нарев воссоздавалась разгромленная и наполовину уничтоженная немцами русская 2‐я армия, командование над которой принял комкор-2 С.М. Шейдеман;
– в разбитую 1‐ю армию П.К. Ренненкампфа потекли новые дивизии второго стратегического эшелона, подходившие из глубины страны;
– в промежутке между 1‐й и 2‐й армиями разворачивалась новая, уже 10‐я по счету, армия, командование над которой принял В.Е. Флуг (к началу войны – помощник погибшего в Восточной Пруссии командарма-2 А.В. Самсонова в Туркестане).
В итоге к десятым числам сентября русские могли полагать свое положение на Северо-Западном фронте достаточно стабильным: против сильной 8‐й германской армии (восемь полевых армейских корпусов, две кавалерийские дивизии и несколько отдельных дивизий ландвера и крепостных гарнизонов) стояли сразу три русские армии (шестнадцать армейских корпусов плюс многочисленная конница). По крайней мере, теперь угроза германского броска на Седлец (в тыл всей русской Польше) была надежно ликвидирована. Следовательно, теперь нельзя было опасаться, что австро-германцы сумеют провести глубокую операцию на отсечение всего «Польского балкона» с последующим уничтожением здесь большей части русской действующей армии.
Нельзя не отметить, что германское командование на Востоке не располагало необходимыми для окончательного разгрома русских силами и средствами. Львиная доля германских войск все еще находилась во Франции, где 10 сентября немцы начали отступление от Парижа после поражения в Битве на Марне. В сложившейся обстановке Гинденбург и Людендорф пока еще могли располагать лишь теми войсками, что в данный момент находились в их распоряжении, – более девяти корпусов (в том числе сводные дивизии из гарнизонов крепостей и ландверный корпус Войрша) и две кавалерийские дивизии.
С другой стороны, в Галиции в ходе Галицийской битвы русские армии Юго-Западного фронта нанесли тяжелое поражение австро-венгерским войскам. Потеряв 230 тыс. чел., русские вывели из строя до 400 тыс. австрийцев. Если в сравнении с германской военной машиной русская оказалась ниже по своему качеству и подготовке, то австрийская была еще хуже русской военной машины. Однако австрийцы сумели более-менее организованно отступить, прикрыть свой отход сильными заслонами и навести порядок в потерпевших поражение войсках.
В ходе бестолково организованного преследования победоносные армии Юго-Западного фронта на ряде участков форсировали реку Сан, отбросив противника к Краковскому крепостному району, попутно обложив сильнейшую австрийскую крепость Перемышль, и к середине сентября медленно выдвигались вслед за отступавшим в Карпаты противником, понемногу подтягивая и устраивая свои тылы. Главнокомандование Юго-Западного фронта (главнокомандующий армиями фронта (главкоюз) Н.И. Иванов и начальник штаба фронта М.В. Алексеев), следуя указаниям Ставки, приковали большую часть войск к Перемышлю, впредь до устроения тылов армий фронта. Одна лишь 9‐я армия П.А. Лечицкого двигалась к Кракову, куда откатывалась главная неприятельская группировка.
В создавшейся обстановке угрозы разгрома вооруженных сил Двуединой монархии, пересечения русскими Карпат с последующим выходом на венгерскую равнину и вероятностью выхода Австро-Венгрии из войны австрийский главнокомандующий Ф. Конрад фон Гётцендорф (номинальный главком – эрцгерцог Фридрих) обратился к немцам с просьбой об оказании немедленной помощи. Дело в том, что австрийцы, в отличие от германцев, выполнили свою долю предвоенных обязательств: сумели притянуть на себя большую часть русских вооруженных сил в Галицийской битве (до 70 % войск первого и части второго эшелонов) до того момента, как немцы должны были вывести из войны Францию. Однако германцам так и не удалось нанести французам решительного поражения: чрезвычайно рискованный «план Шлиффена», воплощенный в жизнь в отвратительном исполнении начальника Большого генерального штаба Х. фон Мольтке-Младшего и его сотрудников, рухнул.
К 12 сентября Битва на Марне была окончательно проиграна и на парижском направлении немцы перешли к обороне. Но и более того: после разгрома 2‐й русской армии под Танненбергом германцы не выполнили и второго обязательства перед своим австрийским союзником – немедленный удар на Седлец, что должно было остановить прорыв русских в Галиции и помочь австрийцам благополучно отступить за реку Сан. Генерал Гинденбург, следуя указаниям кайзера Вильгельма II, предпочел сначала очистить Восточную Пруссию, но за это время австрийцы уже были разбиты и покатились на запад, к Карпатам. И только теперь, когда над Австро-Венгрией нависла угроза разгрома, германцы, вовсе не желавшие остаться без союзников, решились на помощь разваливающейся под русскими ударами австрийской военной машине. Притом отступление австрийцев подставляло под следующий русский удар богатейшую германскую провинцию Силезию, так что немцы не забывали и своего собственного добра: говорить здесь о бескорыстии не приходится ни в коем случае.
Первоначально командование 8‐й германской армии вроде как намеревалось произвести удар на Седлец, выполняя предвоенные договоренности с Австро-Венгрией. Однако 30 августа начальник австрийского Полевого генерального штаба Ф. Конрад фон Гётцендорф сообщил в германскую штаб-квартиру, что любая немецкая помощь, кроме переброски резервов через Краков, навстречу наступающему русскому Юго-Западному фронту, будет запоздалой. Через два дня Конрад повторил этот тезис в срочной телеграмме на имя своего германского коллеги Х. фон Мольтке-Младшего, а вечером 2 сентября австро-венгерский главнокомандующий эрцгерцог Фридрих переслал данное требование кайзеру Вильгельму II.
Выполняя приказ своей ставки, начальник штаба 8‐й германской армии Э. Людендорф распорядился отправить на помощь союзнику на линию Средней Вислы львиную долю войск 8‐й армии, а не два корпуса, которые просил Конрад. Людендорф задумал уже не просто подпорку для откатывавшейся к Карпатам австро-венгерской вооруженной силы, а новую операцию, долженствовавшую остановить продвижение русских на запад. В итоге 4 сентября германцы приступили к перегруппировке части своих сил на Востоке в Верхнюю Силезию и под Краков.
Между тем после победы в Галиции и укрепления оборонительных рубежей напротив Восточной Пруссии русское Верховное командование (Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, начальник штаба Н.Н. Янушкевич, генерал-квартирмейстер и фактический руководитель русской стратегии Ю.Н. Данилов) решает продолжить наступление. Для принятия именно такого решения существовало несколько предпосылок.
Во-первых, русская сторона все еще надеялась победоносно закончить войну в короткие сроки: если перед войной отводимое для достижения победы время определялось в шесть – восемь месяцев, то теперь, возможно, этим сроком становился год, но никак не более. Идеи блицкрига даже после поражения в Восточной Пруссии продолжали жить в оперативно-стратегической мысли русского Верховного командования, равно как и подавляющего большинства высокопоставленных военных и политических деятелей Российской империи. Катастрофа в Восточной Пруссии (даже не в смысле потерь, а в том отношении, что русские перволинейные дивизии не смогли разгромить численно уступавшего им противника, половина войск которого являлась запасными резервистами) была расценена лишь как неудача. Вдобавок, разумеется, следовало использовать победу в Галиции по максимуму, тем более, что этим было возможно компенсировать поражение от немцев.
Во-вторых, на возобновлении русского наступления на всех направлениях настаивали англо-французы. Союзники не могли быть уверены в том, что немцы надежно остановлены на Марне, а германское движение на север, к Ла-Маншу, убеждало англо-французов в мысли, что еще ничего не решено. Русские уже выполнили свой долг, притянув на Восточный фронт два немецких армейских корпуса в критический момент Битвы на Марне (и, следовательно, выполнили свою главную задачу, поставленную перед Российской империей межсоюзническими договоренностями), но союзникам этого казалось недостаточным.
Долг русских, по мысли англо-французов, состоял в том, чтобы окончательно сбить германские удары на Западном фронте. Русский посол в Париже А.П. Извольский (до 1910 года – министр иностранных дел) 4 сентября докладывал: «Роли союзных французской и русской армий по отношению к Германии сейчас определяются следующим образом: французы наступают, имея против себя пять шестых германских сил, а мы, как явствует из последних официальных телеграмм, остановились перед одной шестой этих сил. Объясняется это, конечно, тем, что мы имеем дело с двумя противниками, из коих Австрия выставила все, что имела. Полное поражение, нанесенное нами Австрии, приветствуется здесь самым восторженным образом… но как в публике, так и в военных кругах убеждены, что Россия достаточно могущественна, чтобы справиться с одной шестой германских сил, независимо от операции против Австрии. Для этого требуется полное напряжение наших сил против Германии именно в настоящий первый период войны. Между тем как будто выясняется, что мы не выставили против Германии всех этих сил, которыми мы можем располагать при сложившихся благоприятных обстоятельствах – нейтралитете Румынии и Турции и союзе с Японией…»
К сожалению, нельзя не признать, что претензии союзников к русской стороне являлись вполне оправданными. Действительно, на Востоке к началу сентября 1914 года со стороны немцев действовало всего лишь около 20 условных дивизий, считая и кавалерию, и ландвер, и крепостные гарнизоны. В то же время на Западе находилось 32 армейских корпуса (в том числе 11 резервных), до полутора десятков ландверных дивизий и четыре кавалерийских корпуса. Так что, в оценке соотношения сил и средств Германии на фронтах войны, французы, если и преувеличили, то ненамного. Неблагоприятное же для русских сложившееся к началу осени положение – результат первых операций, а именно – Восточно-Прусской наступательной операции.
В ходе Восточно-Прусской наступательной операции противники не имели решающего перевеса друг над другом. Однако русские все же превосходили неприятеля в количестве живой силы (особенно в кавалерии) и качестве войск (восемь десятых – перволинейные войска). В свою очередь, немцы еще не имели общего превосходства в количестве артиллерии, а преимущество в тяжелых орудий вполне нивелировалось высокоманевренным характером первых сражений и отсталой тактикой германских артиллеристов (весь первый год войны немцы фактически не умели стрелять с закрытых позиций, пользуясь дальнобойными свойствами тяжелых гаубиц). Другое дело, что германское командование притянуло в полевые части крепостные пушки, что придало устойчивость германской обороне, а русское командование не догадалось даже своевременно перебросить крепостные орудия крепостей Гродно и Ковно под Летцен, чтобы разом выдернуть эту занозу. Опять-таки 20‐й германский корпус вместе с ландвером успешно сдерживал в приграничных боях три русских армейских корпуса 2‐й армии (23, 13 и 15‐й), но так кто же заставлял командарма-2 наступать в лоб на тяжелую артиллерию, а также вовсе не использовать кавалерию (все-таки три кавалерийские дивизии)?
Исключительно один-единственный фактор – качество командования – не позволил русским раздавить 8‐ю германскую армию прикрытия и уже в начале сентября приступить к борьбе на Висле. Русское оперативно-стратегическое планирование, при всех своих недостатках бывшее, впрочем, неплохим, было вовсе сведено на нет уже в ходе боевых действий теми людьми, что задолго до войны готовились к занятию своих должностей. Кроме, правда, ключевой фигуры – генерала Самсонова, предназначавшегося по расписанию 1912 года на Юго-Западный фронт и не присутствовавшего на последних предвоенных совещаниях и военно-стратегических играх. В то же время французы, допустившие все возможные ошибки в своем плане войны, в конечном счете сумели остановить врага на ближних подступах к Парижу, пусть и ценой излишних потерь и напрасной уступки лишней территории.
Пожелания союзников совпадали с замыслами русского Верховного командования относительно дальнейших действий. Только теперь русские должны были наступать не частью сил (скажем, армиями Юго-Западного фронта), а непременно всеми войсками действующей армии, и прежде всего – против Германии. После того, как во Францию было сообщено о новых планах русской стороны, французский министр иностранных дел Т. Делькассе телеграфировал: «Французское правительство узнало с величайшим удовлетворением о проекте его высочества великого князя Николая, который, не останавливаясь перед препятствиями, решил после поражения Австро-Венгрии, наступать на Берлин со всеми силами, какие можно собрать». Таким образом, русское командование не собиралось отказываться от похода на Берлин, чтобы ослабить германский напор во Франции. Данная позиция встретила полное одобрение императора Николая II.
Еще один существенный нюанс планирования нового русского вторжения в Германию в самые короткие сроки заключался в том, что Ставка получила ложную информацию о предполагаемом усилении германской группировки во Франции. В таком случае, конечно, немцы могли еще раз попытать счастья ударом на Париж. И чтобы не допустить падения Франции, русские должны были решительно двигаться вперед. Как ни странно, эта информация была предоставлена все тем же Извольским. Ю.Н. Данилов впоследствии писал: «Телеграммами от 21 и 29 сентября [8 и 16 сентября по старому стилю] наш посол в Париже сообщал, что германцы подвозят на свой правый фланг значительные подкрепления и что в общем они имеют перевес над своими противниками по крайней мере в 250 тыс. человек. Армия их к тому же являлась снабженной многочисленной тяжелой артиллерией. По сведениям А.П. Извольского, у немцев к 10–15 октября заканчивают свое формирование до 10 новых корпусов, и тогда их превосходство в силах, говорил наш посол в Париже, может быть доведено до полумиллиона людей!» Конечно, такие сведения не могли быть правдивыми, и далее Данилов как бы оправдывается, что русская сторона все равно стала выполнять пожелания союзников, невзирая на заведомо неверную информацию: «Сведения А.П. Извольского о количестве новых германских формирований и, главное, о сроках их готовности не вполне сходились с данными Ставки и считались нами явно преувеличенными. Все же приходилось учитывать настроения Парижа и торопиться с оказанием новой помощи нашим западным союзникам»[2].
В ходе боев в Восточной Пруссии и Галиции русские фронты еще больше разделили свои наступательные усилия по расходящимся операционным направлениям. Армии Северо-Западного фронта, откатившись за естественные рубежи рек Немана и Нарева, никак не могли решиться перейти в новое наступление: Танненберг парализовал наступательную инициативу в умах русских военачальников. Не сумев вырвать победу равными силами в ходе Восточно-Прусской наступательной операции, русские опасались наступать и имея чуть ли не двойное превосходство в численности. В то же время резервы Ставки были переброшены на Юго-Западный фронт: 9‐я армия, сосредоточиваемая в середине августа под Варшавой для наступления в Германию, была отправлена на северный фас Юго-Западного фронта и приняла участие в Галицийской битве, облегчив переход 4‐й и 5‐й армий в контрнаступление 26 августа.
Австро-германцы же, отбиваясь в Галиции и вытесняя русских из Восточной Пруссии, также не оставили без внимания центр наметившегося в ходе первых операций Восточного фронта. Отход австрийцев вглубь Австро-Венгрии после поражения в Галиции совершался в общем направлении на северо-запад, главной массой к Кракову. Вслед за ними медленно продвигались и русские войска. Отступление противника сопровождалось выжиганием местности: «Австрийцы неистовствуют: жгут деревни без всякой надобности, угоняют лошадей, скот. Жители разорены совершенно. Необходимо им серьезно помочь, иначе – голод»[3].
В стратегическом начертании противники в августе – начале сентября 1914 года вели операции на флангах фронта – в Восточной Пруссии и Галиции. Теперь взоры обеих сторон обращались в центр – западный (левый) берег Вислы в ее среднем течении, представлявший из себя идеальный плацдарм для вторжения в Центральные державы. Заодно Средняя Висла являлась и идеальным полем для генерального сражения главной массой сил и средств, буде такая мысль о генеральном сражении возникла бы у полководцев противоборствовавших сторон.
И такая мысль возникла. Сначала – у Э. Людендорфа, предполагавшего разорвать русский фронт на две части мощным ударом в стык между русскими фронтами. Затем – у австрийцев и русских. Именно для этого Ф. Конрад фон Гётцендорф отводил свою главную группировку к Кракову, а Гинденбург уже организовал перегруппировку германцев от линии Мазурских озер в Верхнюю Силезию. А затем и в русской Ставке, где великий князь Николай Николаевич и его сотрудники оценивали замысел решительного вторжения в Германию: раз не получилось в Восточной Пруссии, следовало вернуться к старым планам наступления в Познань и Силезию на берлинском направлении.
Нельзя не сказать несколько слов о стратегических мыслях, вынашиваемых в русской Ставке, особенно – ее первого состава (до августа 1915 года). В ходе всей войны в России постоянным местом стало резкое противоречие между политическими и экономическими интересами страны и ее правящих слоев и стратегическими операциями. Российская империя жизненно нуждалась в черноморских проливах и влиянии на Балканах, а вместо этого русские армии постоянно били по германцам, пытаясь наступать сразу на Берлин. Главная причина этого – приоритета ударов по немцам в русской стратегической мысли – требование помощи союзникам, дравшимся во Франции. Как справедливо пишет один из советских исследователей, «…мы редко найдем такие операции русской армии, стратегические и оперативные предпосылки которых полностью совпадали бы с политическими интересами царизма. Большинство операций русской армии было продиктовано политикой Франции и Англии»[4].
Для осуществления замыслов Ставки 2‐я армия (С.М. Шейдеман) Северо-Западного фронта должна была двигаться к Варшаве, а 4‐я (А.Е. Эверт) и 5‐я (П.А. Плеве) армии Юго-Западного фронта – подтянуться к крепости Ивангород. Таким сосредоточением русская Ставка добилась сравнительно равномерного распределения сил по всему Восточному фронту. Теперь две армии блокировали Восточную Пруссию (1‐я и 10‐я), три армии выдвигались на линию Средней Вислы (2, 4 и 5‐я), одна армия (9‐я) двигалась к Кракову и еще две армии (3‐я и 8‐я) заняли рубеж реки Сан (осадив крепость Перемышль) и выйдя к Карпатам. Таким образом, как предполагалось Верховным главнокомандующим, в центре общего начертания фронта будет создан сильный кулак, который, опрокидывая слабые неприятельские заслоны на левом берегу Вислы, сможет двинуться в Познань и Силезию. Действительно, ведь германцы удерживали Восточную Пруссию, а разгромленные в Галиции австрийцы откатывались к Кракову и Карпатам – кто же будет защищать Познань?
В Ставке еще не знали, что австро-германское командование также решило прорвать русский фронт в центре, для чего производится перегруппировка части австрийских и немецких войск все на тот же левый берег Вислы, напротив района Лодзи. Итог этих взаимных перегруппировок – встречное сражение, где преимущество будет принадлежать тому, кто первым перегруппирует свои силы, сосредоточит их и бросит вперед, выигрывая темпы развития начатой операции.
Но перегруппировка еще только начиналась, а пока, к середине сентября, линия русского фронта представляла собой следующую картину (с севера на юг):
– 1‐я армия П.К. Ренненкампфа занимала оборону по реке Неман;
– 10‐я армия В.Е. Флуга занимала оборону по реке Бобр;
– 2‐я армия С.М. Шейдемана занимала оборону по реке Нарев.
Таким образом, армии Северо-Западного фронта перешли к стратегической обороне, опасаясь нового удара германцев, столь блестяще проявивших себя в ходе Восточно-Прусской наступательной операции, закончившейся поражением русской стороны.
– 4‐я армия А.Е. Эверта медленно выдвигалась походным порядком от реки Сан к крепости Ивангород;
– 9‐я армия П.А. Лечицкого неспешно преследовала австрийцев, отходивших к Краковскому крепостному району;
– 5‐я армия П.А. Плеве прикрывала с севера обложение крепости Перемышль, готовясь к движению на север за Вислу;
– 3‐я армия Р.Д. Радко-Дмитриева (сменил на этом посту Н.В. Рузского, получившего должность главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта) осадила мощную австрийскую крепость Перемышль;
– 8‐я армия А.А. Брусилова обеспечивала блокаду Перемышля с юга и выдвигалась к Карпатам.
Таким образом, армии Юго-Западного фронта, приводя себя в порядок после победы в Галицийской битве, временно перешли к обороне и перегруппировке, и только 9‐я армия двигалась вперед. В то же время немцы по просьбе австрийской стороны приступили к переброске в район Кракова своих войск – двух армейских корпусов и кавалерийской дивизии. Также сюда же подтягивался и потрепанный в боях в ходе Галицийской битвы на люблинском направлении германский ландверный корпус Р. фон Войрша.
Следовательно, австро-германцы успевали совершить новое сосредоточение первыми: главная масса австрийцев и так отходила в район предполагаемого сосредоточения, а немцы воспользовались своей разветвленной железнодорожной сетью для совершения перегруппировки. При всем том пока противнику на левом берегу Вислы противостоял только 1‐й кавалерийский корпус А.В. Новикова. Начальник штаба Юго-Западного фронта М.В. Алексеев, как утверждает участник событий и будущий Маршал Советского Союза, «предвидел возможность наступления немцев на левом берегу Вислы, со стороны Кракова, а также из Силезии. Вот почему и был образован 1‐й кавалерийский корпус. Его задача состояла в том, чтобы вести разведку на левом берегу Вислы». Далее Б.М. Шапошников отмечает, что задачей 1‐го кавалерийского корпуса должен был бы стать стремительный набег в район сосредоточения немцев. «Если бы движение всех трех кавалерийских дивизий (8, 5 и 14‐й) на запад началось от Сандомира 2 сентября, то, делая по 30 километров в день, к 9 сентября они достигли бы линии Конецполь, Прадла, Мехув, форты Кракова, а к 12–13 сентября – района выгрузки частей 9‐й немецкой армии»[5].
Главной задачей кавалеристов, действующих на левом берегу Вислы, согласно приказу штаба 9‐й армии стала задача выхода в тыл отступающей 1‐й австрийской армии. Выполнить эту задачу не удалось, а время, необходимое для наступления к Кракову напрямую, было уже потеряно.
Как можно видеть из данного описания, к середине сентября между армиями русских фронтов образовался гигантский промежуток, достигавший чуть ли не 350 верст. И это – целиком левый берег Вислы (русская Польша) от крепости Новогеоргиевск и Варшавы до реки Дунаец. С русской стороны на Висле находились лишь небольшие гарнизоны в Варшаве и крепости Ивангород да кавалерийский корпус А.В. Новикова. Сознавая необходимость прикрытия разрыва, к Ивангороду двинулась 4‐я армия Юго-Западного фронта. Затем, после сосредоточения по Средней Висле значительных сил, можно было бы подумать и о наступлении в Германию. Пока же переброска 4‐й армии осуществлялась не по железной дороге, а походным порядком, что категорически понижало темпы движения.
Именно этот фронт – от Варшавы до крепости Ивангород – и должен был стать ареной новой операции. Дело в том, что австро-германцы, даже объединив усилия, не могли надеяться на победу над русскими в открытом фронтальном встречном сражении. Австрийцы только-только потерпели тяжелое поражение, а у немцев на Востоке все еще не хватало войск. Русские же получали в подкрепление подходившие из глубины страны Поволжские, Сибирские и Кавказские корпуса. Так что следовало бить в наименее защищенное место русского фронта, но при этом туда, где русские будут вынуждены так или иначе, но в любом случае обороняться. Понимая, что удар на Седлец имевшимися силами теперь уже неосуществим, а австрийцам необходимо помочь уже сейчас, то есть немедленно, штаб Гинденбурга решает перейти в контрнаступление на Средней Висле, в том числе и под Варшавой, чтобы опрокинуть слабые русские заслоны и спасти союзников от разгрома. Варшаву русские будут защищать при любом раскладе – это П. фон Гинденбург отлично понимал.
Производство данного маневра – мощный удар на ивангородском и варшавском направлениях с целью разрыва монолитности неприятельского фронта – разумеется, замышлялось задолго до войны. Мостовая переправа у Ивангорода – упраздненного перед войной как крепость, но не разрушенного, а всего лишь заброшенного – позволяла войскам маневрировать на обоих берегах Вислы. Именно в этом и заключался смысл создания этой крепости во времена императора Николая II.
В свое время граф А. фон Шлиффен, предполагая оставление Восточной Пруссии на первом этапе войны (вплоть до разгрома Франции), намеревался использовать оставляемую на Востоке армию прикрытия совместно с австрийцами с самого начала открытия военных действий. Так как задачей Восточного фронта прежде всего стояло продержаться до того момента, как победоносные германские войска будут перебрасываться из Франции, то германский ландвер (а Шлиффен собирался оставить на Востоке только ландвер) должен был оперировать не в Восточной Пруссии, а на левом берегу Вислы. Удар на Ивангород, его захват и угроза всему русскому центру, по мысли Шлиффена, должны были парировать русское превосходство в численности и позволить союзникам – австро-германцам – продержаться те четыре недели, что требовал от австрийцев германский Большой генеральный штаб.
Австро-венгерское наступление на люблинском направлении, едва не приведшее к крушению северного фаса русского Юго-Западного фронта, и Варшавско-Ивангородская операция подтверждают справедливость того шлиффеновского тезиса, что русские будут вынуждены бросать большие силы для удержания линии Средней Вислы. И, следовательно, тем самым будет выполнена поставленная перед войсками Восточного фронта задача. Новое руководство – во главе с Х. Мольтке-Младшим – изменило планы развертывания, предполагая драться в Восточной Пруссии, и теперь, спустя почти полтора месяца с начала войны, германскому командованию все равно пришлось вернуться к шлиффеновскому планированию. Участник войны справедливо пишет, что «этими примерами ярко подчеркивается жизненность идеи Шлиффена и правильная его оценка ивангородского направления»[6].
Поэтому уже со 2 сентября напор немцев на русскую 1‐ю армию П.К. Ренненкампфа, отступавшую из Восточной Пруссии после поражения Северо-Западного фронта в Восточно-Прусской наступательной операции, ослабевает, и лучшие германские корпуса с 4‐го числа перебрасываются через крепость Торн к Ченстохову. Вместе с четырьмя армейскими корпусами Гинденбург отправил практически всю тяжелую артиллерию. Одновременно Ф. Конрад фон Гётцендорф получил информацию о германском планировании, и немедленно приступил к подготовке контрнаступления на ходу, во время отхода к Кракову. Вместе с австрийцами германцы собираются нанести русским удар в центре фронта, в общем направлении на Варшаву – Ивангород. Именно эта идея стала определяющей для немцев при проведении операции[7].
В ходе первых операций в Восточной Пруссии и Галиции между русскими Северо-Западным и Юго-Западным фронтами образовался чрезмерно большой открытый промежуток. При этом в данном разрыве стояли лишь небольшие силы прикрытия, преимущественно из кавалерии, и при минимуме артиллерийских средств. Удар в этот промежуток мгновенно выводил ударную немецкую группировку на тылы одного из русских фронтов. Ожесточенные сражения на Западе не позволяли верховному германскому командованию помочь своим силам на Востоке. Так что Гинденбург мог рассчитывать исключительно на свои собственные силы в восемь полевых корпусов, крепостные ландверные дивизии и бригады да обещанные пополнения.
В то же время русские ничего не могли противопоставить неприятельскому наступлению на западном берегу Вислы, буде таковое воспоследует до окончания русской перегруппировки. Кроме незначительных конных заслонов перед Варшавой и кавалерийского корпуса А.В. Новикова, на пространстве в сто пятьдесят верст к 10 сентября в районе Варшавы находился довольно слабый Варшавский отряд, состоявший из 27‐го армейского корпуса Д.В. Баланина и 79‐й пехотной дивизии Н.И. Гаврилова (гарнизон крепости Новогеоргиевск).
План немцев
Э. Людендорф, разрабатывавший план предстоящей операции, предложил ударить в тыл Юго-Западного фронта русских, который по-прежнему теснил австрийцев к Карпатам. Ударить с северного фаса, то есть приблизительно из района русской крепости Ивангород, которую еще предстояло захватить, дабы обеспечить себе надежную и постоянную переправу через Вислу. Такой маневр должен был стреножить развитие русского наступления в пределы Австро-Венгрии, а при удаче и привести к разгрому армий северного крыла русского Юго-Западного фронта. Согласно намеченному планированию, германцы перебросили на юг основные силы своей 8‐й армии (теперь получившей наименование 9‐й армии), оставив против всего Северо-Западного фронта лишь заслоны, за которыми сохранилась нумерация крупных подразделений 8‐й армии.
Поддавшись на немецкую уловку, русское командование продолжало полагать, что немцы по-прежнему держат в Восточной Пруссии большие силы, чтобы иметь возможность отбить новое русское вторжение. Германцы же, искусно имитируя бурную деятельность в своей провинции, уже львиной долей своей восточно-прусской группировки переправлялись эшелонами в Познань. Заодно это обстоятельство помогло и в радиоигре с неискусными в этом деле русскими.
В сентябре немцы уже полностью овладели русским радиокодом, что позволило им досконально знать тактические действия русских. Впоследствии русские неоднократно меняли ключ, но сама система шифра оставалась прежней. Так что австро-германская шифровальная служба разгадала шестнадцать русских шифровальных ключей, прежде чем русские сообразили поменять саму систему шифровки. Эти данные в совокупности с секретными приказами, взятыми с пленных и убитых офицеров русского Генерального штаба, позволили Людендорфу установить сроки готовящегося русского наступления в Силезию, переброски Сибирских корпусов на театр военных действий и т. д.[8]
Итак, для удара на западном берегу Вислы с дальнейшим выходом в тыл русскому Юго-Западному фронту предназначалась вновь образованная 9‐я германская армия:
– четыре полевых корпуса (11, 17, 20‐й армейские и Гвардейский резервный);
– сводный корпус из крепостных войск (35‐я резервная дивизия и ландверная дивизия генерала Бредова);
– ландверный корпус генерала Войрша;
– 8‐я кавалерийская дивизия.
Новую армию возглавил все тот же П. фон Гинденбург при своем теперь уже неизменном начальнике штаба Э. Людендорфе. При этом 8‐ю армию, оставшуюся в оперативном подчинении генерала Гинденбурга (наделен правами главнокомандующего на Востоке) в составе которой оставалось два с половиной корпуса (1‐й армейский и 1‐й резервный), 3‐я резервная дивизия, ландвер (ландверная дивизия генерала фон дер Гольца, несколько ландверных бригад, гарнизон Кенигсберга) и 1‐я кавалерийская дивизия, возглавил Р. фон Шуберт.
Первоначально как раз генерал Шуберт должен был стать командармом-9. Правда, его роль должна была стать столь же номинальной, как и роль Гинденбурга, так как начальником штаба 9‐й армии в любом случае назначался Людендорф. Однако вскоре кайзер Вильгельм II переиграл назначения. Это было вызвано проблемой соподчинения с союзниками. Как только стало известно, что немцы все-таки образуют новую армию напротив линии Средней Вислы, чтобы контрударом опрокинуть русское движение за Вислой и Саном, австро-венгерское командование немедленно потребовало подчинения ему 9‐й германской армии.
Шуберт по своему чину являлся генералом от кавалерии, то есть был в одинаковом чине не только с Конрадом, но и с австрийским командармом-1 В. фон Данклем. Согласно межсоюзным соглашениям, в данном случае австрийцы имели право требовать подчинения себе 9‐й германской армии. Разумеется, немецкое верховное главнокомандование не желало такого поворота событий, тем более что слабости оперативной мысли австро-венгерского руководства уже выявились в проигранной Галицийской битве. Не последней причиной этого проигрыша было весьма вялое и нерешительное руководство войсками 1‐й армии со стороны генерала Данкля.
Согласиться на подчинение 9‐й германской армии союзнику, как справедливо полагалось немцами, означало бы использовать превосходные по своему качеству войска далеко не в максимальной степени. Тем более, что Людендорф посылался на Восточный фронт не для того, чтобы играть в бирюльки, а чтобы остановить русское вторжение в Германию и Австро-Венгрию малыми силами, так как большая доля германских армий продолжала драться во Франции. В германской армии существовал промежуточный чин между общепринятым генералом рода войск (генерал от инфантерии, от кавалерии, от артиллерии) и генерал-фельдмаршалом. Это – чин генерал-полковника. Именно в данный чин был произведен П. фон Гинденбург еще при назначении на должность командарма-8 в начале войны. Соответственно, исходя из принципа старшинства, Гинденбург не мог быть подчинен ни одному из австрийских командармов, так как все австро-венгерские командармы в сентябре 1914 года (кроме командующего на Балканах фельдцейхмейстера О. фон Потиорека) являлись генералами родов войск.
В связи с этими принципами, как только австрийцы предложили подчинить 9‐ю германскую армию австро-венгерскому командованию, командармом-9 был немедленно назначен Гинденбург. Ключевой же вопрос – фактический руководитель – начальник штаба Э. Людендорф – остался на своем месте. Новым назначением кайзер Вильгельм II, по замечанию австрийцев, «ликвидировал и самый вопрос об австро-венгерском главном командовании, так как генерал-полковник по своему служебному рангу был выше командующего армией союзника».
Решаясь на наступление, германская группировка была разделена на две части. Группа А. фон Макензена (17‐й армейский корпус самого генерала Макензена и Сводный корпус Р. фон Фроммеля) должна была наступать на варшавском направлении, дабы сдержать возможный контрудар русского Северо-Западного фронта от столицы русской Польши. Главные же силы под командованием самого Гинденбурга (11‐й армейский корпус О. фон Плюскова, 20‐й армейский корпус Ф. фон Шольца, Гвардейский резервный корпус М. фон Гальвица, ландверный корпус Р. фон Войрша, две бригады из крепости Торн, конница) переходили в наступление против русской крепости Ивангород.
Австрийская сторона желала, чтобы немцы теперь, после того как в августе они отказались от удара на Седлец, напрямую обороняли бы Австро-Венгрию. Австрийское руководство настаивало на переброске 9‐й германской армии под Краков с последующим ее подчинением австрийскому командованию, которое было убеждено в неизбежности русского удара по столице австрийской Польши. Действительно, в первой половине сентября, уже частично блокировав крепость Перемышль, в русской Ставке задумались и об осаде Кракова. Согласно данным разведки и лазутчикам, на австро-германском совещании в Переворске 22 августа было решено составить гарнизон Кракова пополам из немцев и австрийцев общей численностью 85 тыс. чел., в том числе 42 тыс. германского ландвера и ландштурма. Из города выселялись «все, прожившие в городе менее года и не имеющие запасов провизии на три месяца», так как к 15 сентября Краков был обеспечен продовольствием на этот срок. К 17 сентября из 150 тыс. населения города уже выехало около 70 тыс., в том числе почти все евреи, так как «у всех сложилось убеждение, что после падения Перемышля русские войска с легкостью овладеют крепостью». Некоторые агенты уверяли даже, что гарнизон составлен из одних только немцев[9].
Русские ошибались – немцы вовсе не собирались таскать каштаны из огня ради своих союзников, да и действовать намеревались исключительно наступательно. Резко отказавшись от подчинения австрийцам, П. фон Гинденбург (в австро-германской служебной иерархии генерал Гинденбург теперь был старше даже австрийского главнокомандующего эрцгерцога Фридриха, не говоря уже о Конраде) потребовал от своего Верховного командования активного содействия со стороны австрийцев. В качестве «залога доброй воли» к стенам Кракова был отправлен германский 11‐й армейский корпус, который был включен в 1‐ю австрийскую армию. Разумеется, что немцы не могли ослабить самих себя, а потому взамен 11‐го корпуса в северную германскую группу были переданы две австрийские кавалерийские дивизии: 3‐я кавдивизия 20‐му германскому армейскому корпусу и 7‐я кавдивизия Сводному корпусу генерала Фроммеля.
В результате нажима со стороны немцев Ф. Конрад фон Гётцендорф обязался выставить для совместных с германцами действий свою 1‐ю армию из четырех практически полнокровных корпусов (сюда были отправлены все резервы из прочих армий), которой по-прежнему командовал В. фон Данкль. Также для усиления темпов наступления 1‐я австрийская армия получила пять кавалерийских дивизий. С другой стороны, австрийцы не оставались внакладе – вся операция задумывалась прежде всего для того, чтобы остановить русский Юго-Западный фронт и не дать вывести из войны Австро-Венгрию.
Конечно, с поражением Дунайской монархии Германия тоже была обречена на быстрый разгром. Защищая австрийцев, немцы, разумеется, защищали самих себя. Таковы свойства коалиционной войны. И все-таки австро-венгерские войска должны были участвовать в задуманном Людендорфом контрнаступлении хотя бы уже только потому, что в противном случае немцы были бы отброшены, а австрийская армия, с громадной долей вероятности, просто уничтожена.
Получалось, что основная масса германской 9‐й армии должна была бить в незащищенный стык между русскими фронтами, в то время как 1‐я австрийская армия привлекала к себе возможно больше неприятельских войск, обеспечивая германский удар с юга, откуда к Средней Висле двигались русские армии Юго-Западного фронта. Но и это не все: австрийцы, в свою очередь, обязывались перейти всеми силами во фронтальное наступление на армии русского Юго-Западного фронта, охватывая левый фланг русских. Для этого предназначались все прочие армии – 2, 3 и 4‐я: наступление на фронте Перемышль – Сандомир.
В этот момент все русские свободные резервы отправлялись Ставкой как раз на Юго-Западный фронт, пытавшийся нахрапом взять Краков. Использование русских резервов в Галиции (9‐я армия) позволило генералу Людендорфу перехватить инициативу на варшавском направлении и своим контрнаступлением сорвать начавшееся наступление русских на левом берегу Вислы. Однако эта операция отвлекла на себя более половины всех сил австро-германцев, а потом и русских, постепенно втягивая в себя все новые и новые силы противоборствующих сторон, став самой крупной операцией на Восточном фронте в 1914 году.
Таким образом, соединенными усилиями австро-германцев между русскими фронтами вбивался ударный клин, который должен был зайти в тылы русского Юго-Западного фронта и очистить от русских Среднюю Вислу. Как только план был согласован и утвержден, австрийцы стали ускоренными маршами отходить на северо-запад в общем направлении на Краков, отрываясь от преследования со стороны русских, чтобы, принимая на ходу пополнения, выйти в районы предстоящего развертывания. Ускоренный отход под прикрытием плотной кавалерийской завесы позволил противнику оторваться от русских, скрыть перегруппировку и облегчить неожиданность своего наступления. Помимо того, отступавшие из Галиции части получили передышку, выйдя из непрерывных месячных боев.
Русское командование Юго-Западного фронта, потеряв реальное соприкосновение с противником и предполагая, что тот беспорядочно отступает к Карпатам, наметило наступление тремя правофланговыми армиями (4, 5 и 9‐й) на Краков, в то время как левофланговые армии (3‐я и 8‐я) должны были продолжить преследование отступавшего неприятеля. Более того, после окончания Галицийской битвы в войсках Юго-Западного фронта началась, по выражению В.М. Драгомирова, «бестолковщина». После решительной победы и захвата огромного пространства при удавшемся отступлении противника, возникло недоумение по поводу дальнейших действий. Напомним, что русское планирование предусматривало разгром неприятеля в решительном сражении близ границы, после чего начиналось движение вглубь вражеской территории, и просьбы противника о мире. Теперь же, когда противник все еще не сдавался, а Ставка не предлагала какого-то четкого планирования ввиду отсутствия общего широкого плана кампании, армии стали передвигаться взад-вперед, что только утомляло войска[10].
Резкая перемена довоенного планирования в изменившейся вследствие мероприятий Конрада реальности вынуждала русское командование импровизировать на ходу. Поэтому и писал А.А. Брусилов уже в ноябре: «…С начала войны я никак не мог узнать плана кампании… В чем же заключался наш новый план войны, представляло для меня полную тайну, которой не знал, по-видимому, и главнокомандующий фронтом»[11]. Деятельность фронтов зависела от стратегии Ставки, где лишь один генерал-квартирмейстер Ю.Н. Данилов мог вообще заниматься этим делом, и он был единственным высоким чином, кто целенаправленно готовился к занятию своей должности перед июлем 1914 года.
В свою очередь, главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта Н.В. Рузский, не заметив начавшейся перегруппировки германцев, продолжил медленное отступление тремя армиями (1, 2, 10‐я) перед двумя с половиной корпусами германцев, которые были оставлены здесь Гинденбургом в 8‐й армии. Причина тому – принцип сосредоточения сил, последовательно применяемый противником в ходе военных действий. Командарм-8 Р. фон Шуберт растянул свои войска на широком фронте, но единственный бывший в его распоряжении кадровый корпус (1‐й армейский) сосредоточил в районе городка Сувалки.
Ударами 1‐го армейского корпуса, усиленного двумя кавалерийскими бригадами, и одновременным давлением прочих войск по всему фронту немцы сумели внушить русской стороне мысль о примерном равенстве сил сторон. Со своей стороны, сумбур оперативной мысли в русских штабах только усиливал царившую после августовского поражения в Восточной Пруссии психологическую сумятицу. Главнокомандование фронта и армий предпринимало массовые перегруппировки, как правило, бесцельные и ненужные, выматывавшие силы войск еще до боев. Участник войны – эриванец – вспоминал о маршах первой половины сентября на подступах к Восточной Пруссии: «Мы две недели колесили по Сувалкской губернии, нигде не находя противника. Временами вдали гудел бой, видно было зарево, но мы никак не могли войти в соприкосновение с противником… Нас поднимали обыкновенно в четыре часа, полк выстраивался. Проходил час, два, три, мы все стояли и мокли под дождем. Как назло, стояла дождливая осень. Наконец, часам к восьми получали приказание о выступлении. Куда мы шли – не знали до ротных командиров включительно, хотя с уверенностью можно было сказать, что и штаб полка был осведомлен в этом направлении не лучше нас. Шли обыкновенно весь день… Когда начинало темнеть, нас останавливали около какой-нибудь деревни и опять чего-то ждали. Стояли, ждали, мокли. Часов в семь или восемь вечера отдавался приказ располагаться на ночлег, но хорошо, если в этой деревне, а то два раза оказывалось, что мы должны ночевать в деревне, которую прошли часа два тому назад. Делать было нечего – поворачивали обратно, часам к десяти приходили на место, а в четыре часа нас подымали вновь. С тех пор прошло уже много лет, но я еще ясно переживаю всю бестолочь походного движения того времени, бесцельно выматывавшего нервы и понижавшего боеспособность частей. Обидно было сознавать, что управляют нами неумелые и незаботливые руки»[12].
Лейб-гвардии Эриванский полк входил в состав 2‐го Кавказского корпуса П.И. Мищенко (Кавказская гренадерская дивизия). Этот корпус в начале сентября был переброшен с Кавказа на Северо-Западный фронт, приходивший в себя после поражения под Танненбергом. Отсюда и хаотичные метания войсковых соединений: все-таки двухнедельное движение близ линии фронта и без единой встречи с врагом – это слишком. В этом явлении крылось первое, пока еще до конца не осознанное последствие августовского уничтожения 2‐й армии А.В. Самсонова в Восточной Пруссии, – преувеличенное мнение о качестве германской военной машины, закономерно на определенном этапе перерастающее в своеобразную «германобоязнь» высшего русского генералитета.
Между тем отход армий Северо-Западного фронта только увеличивал расстояние между сосредоточивающейся для наступления группировкой и северным крылом. Своим отступлением генерал Рузский еще больше оголял варшавское направление, оттягивая свои войска к северо-востоку. Более того – главкосевзап вообще предложил отвести 2‐ю армию на линию Белосток – Бельск, что отдавало врагу Варшаву без сопротивления. Даже у такой неволевой и малокомпетентной Ставки, как русская, подобное предложение вызвало недоумение, смешанное с негодованием. Ясное дело – не мог же Н.В. Рузский, только-только совершивший стремительный карьерный взлет (первый из командармов, повышенный до главнокомандующего армиями фронта – фактически четвертое лицо в военной иерархии действующей армии после Верховного главнокомандующего, его начальника штаба и главкоюза Н.И. Иванова), пожертвовать этой карьерой. Вот и отступали армии Северо-Западного фронта перед противником, уступавшим им в численности по меньшей мере вчетверо.
Вполне возможно, что как раз в этот момент великий князь Николай Николаевич в первый раз и задумался над тем, кого он поставил во главе одного из двух русских фронтов, коль скоро предполагается дальнейшее отступление шестнадцатью армейскими корпусами. Французы имели довольно точные сведения о германских войсках, скованных на Западе, а потому русское Верховное командование также представляло себе силы немцев с точностью до одного-двух корпусов. Верховный главнокомандующий отлично понимал, что Гинденбург не имеет в своем распоряжении и десяти корпусов, так к чему же отступать еще дальше, сдавая без боя линию Вислы, откуда должно было развиваться новое наступление? Так что вместо разрешения на отход генерал Рузский получил совершенно логичный и оправданный противоположный приказ о переброске 2‐й армии к Варшаве и подготовке нового наступления в Восточную Пруссию силами 1‐й и 10‐й русских армий.
План русских
В это же время, когда австро-германцы составляют активное наступательное планирование, русская Ставка, воодушевившись победой армий Юго-Западного фронта в Галиции и остановив немцев на Северо-Западном фронте, принимает план продолжения общего наступления. Как и в начале боевых действий, великий князь Николай Николаевич ставит приоритетной целью вторжение в Силезию и Познань, то есть предполагает перейти в наступление как раз от Варшавы. Парадоксально, но на этот раз достаточно хаотическая стратегия русской Ставки по счастливой случайности совпадает с районом будущего решительного наступления противника.
Для производства вторжения в германские пределы на Средней Висле образовывалась новая мощная группировка пока под, понятное дело, непосредственным руководством Верховного главнокомандующего. В эту группу армий должны были войти 4‐я армия А.Е. Эверта и 9‐я армия П.А. Лечицкого из состава Юго-Западного фронта, а также 2‐я армия С.М. Шейдемана из состава Северо-Западного фронта. По мере развития операции предполагалось привлечь в данную группировку и 5‐ю армию П.А. Плеве. Таким образом, наступать на Берлин должны были армии обоих фронтов.
Это подразумевало, что оба фронтовых командования так или иначе окажутся вынужденными постоянно вливать новые силы и средства в ударную группировку, буде она и перейдет под непосредственное руководство Верховного главнокомандующего. Так что именно здесь, на Восточном фронте, впервые появляется новая форма военного искусства – операция группы фронтов, пусть пока еще и в своем зачаточном состоянии планирования и нерешительного воплощения. С.Н. Михалев говорит: «Первая мировая война составила первый этап в развитии новой формы боевых действий – стратегической операции. К выполнению таких операций привлекались впервые возникшие стратегические структуры – фронты (группы армий), и возникают попытки сосредоточения усилий двух-трех таких объединений для достижения единой стратегической цели. Так зарождалась операция группы фронтов, полное оформление которой последовало спустя два десятилетия, во Второй мировой войне»[13].
Как видно, в Ставке вполне логично рассудили, что остающихся наличных сил во фронтах вполне хватит, чтобы решить свои задачи. Юго-Западный фронт (три армии – 5, 3 и 8‐я) должен был продолжить давление на австрийцев (тем более что было решено образовать из резервных второочередных дивизий Блокадную армию для осады крепости Перемышль, дабы высвободить из-под нее полевые войска). Северо-Западный фронт, в свою очередь, должен был сковать противника, находящегося в Восточной Пруссии. Напомним, что даже и в случае перехода 2‐й армии под Варшаву у генерала Рузского все же оставалось две армии против двух с половиной корпусов у неприятеля в 8‐й германской армии генерала Шуберта. Как минимум – двукратное превосходство в силах, и притом что русские здесь пока еще оборонялись.
Ситуация стремительно менялась на глазах, так как стало ясно, что противник готовит контрнаступление. Русская Ставка к 14‐му сентября получила вполне определенные данные о сосредоточении немцев в Познани, а потому стало ясно, что большая часть германских сил и средств готовится к действиям на левом берегу Вислы. Следовательно, 1‐я и 10‐я армии Северо-Западного фронта имели против себя не более половины наличных сил немцев – не более четырех корпусов. Отсюда проистекал и приказ о переброске 2‐й армии к Варшаве: германцы вполне могли предупредить русских в наступлении (что и произошло на деле), а сдавать врагу без сопротивления столицу русской Польши великий князь Николай Николаевич, в отличие от генерала Н.В. Рузского, не собирался.
Как видим, русское командование также оценило важность западного берега Вислы для развертывания следующей наступательной операции, которую требовали от русской стороны англо-французские союзники, ведшие напряженную борьбу в Северной Франции и Бельгии. Тем не менее географический фактор представлял любую крупную операцию на левом берегу Вислы весьма рискованным делом. Сначала требовалось занять Восточную Пруссию и Галицию, чтобы прикрыть свои операционные линии Балтийским морем и Карпатскими горами. При этом, учитывая разницу в боевом отношении между немцами и их союзниками, выгоднее было бы наступать основной группировкой в Галиции, что вынуждало германцев либо маневрировать на Нарев и далее на Варшаву, либо немедленно поддержать австрийцев, чрезвычайно ослабляя при этом силы прикрытия в Восточной Пруссии.
Такую перегруппировку армий Юго-Западного фронта и предпринял начальник штаба фронта М.В. Алексеев, когда убедился, что преследование, предпринятое русскими по окончании победоносной Галицийской битвы, выдохлось. Согласно замыслу штаба Юго-Западного фронта, 4, 5 и 9‐я армии сосредоточивались на северном фасе фронта, против Кракова, пока 3‐я армия блокировала осажденную австрийскую крепость Перемышль, а 8‐я армия прикрыла южный фланг фронта напротив Карпат. Следовательно, фактически три армии могли приступить к сражениям на левом берегу Вислы. И само это сосредоточение произошло не потому, что так желала Ставка, шедшая на поводу у союзников, а потому, что его произвел лучший стратег России – М.В. Алексеев, отлично понимавший, что теперь основные усилия противоборствующих сторон Восточного фронта с неизбежностью сосредоточатся на левом берегу Вислы.
Итак, в Ставке не собирались отказываться от наступления в Познань и Силезию. Безусловно, «поход на Берлин» как идея, вынашиваемая стратегами Ставки с начала войны, был вполне возможен даже и без предварительного овладения Восточной Пруссией, со стороны которой наступающей вглубь Германии русской группировке всегда потенциально грозил фланговый удар. Такое наступление было возможно при одном условии: сообщения и операционные линии группы армий вторжения должны обеспечиваться со стороны Восточной Пруссии и Померании еще такой же группировкой, что предназначалась для движения на Берлин (а лучше – двумя, чтоб уж наверняка).
Но встает вопрос: где их было взять, эти войска?
К этому моменту численность армий Северо-Западного фронта в круглых цифрах исчислялась в 435 тыс. штыков и сабель, в том числе:
– 1‐я армия: 135 тыс.;
– 10‐я армия: 150 тыс.;
– 2‐я армия: 100 тыс.;
– Варшавский отряд: около 50 тыс.
Численность армий Юго-Западного фронта исчислялась в 665 тыс. штыков и сабель, в том числе:
– 9‐я армия: 180 тыс.;
– 4‐я армия: 100 тыс.;
– 5‐я армия: 125 тыс.;
– 3‐я армия: 120 тыс.;
– 8‐я армия: 140 тыс.
Некомплект войск расценивался в 320 тыс. чел. на Северо-Западном фронте и в 230 тыс. на Юго-Западном фронте. Это следствие громадных потерь в первых операциях (Восточно-Прусской, наступательной Галицийской битве), особенно – после поражения в Восточной Пруссии. Но вместе с этим Ставка имела существенные резервы: шесть резервных дивизий в 6‐й армии прикрытия на балтийском побережье, четыре второочередных дивизии в 7‐й армии прикрытия в районе Одессы; еще не подошедшие из глубины империи 2‐й Кавказский корпус, 1‐й и 2‐й Сибирские корпуса. В перспективе – отдельные 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14‐я сибирские пехотные дивизии, из коих 9‐я и 10‐я еще даже не приступили к мобилизации.
Новое оперативное планирование, посвященное подготовке вторжения в пределы Германии в общем направлении на Берлин, стало предметом для обсуждения на совещаниях великого князя Николая Николаевича с главнокомандующими фронтами в Холме 8 и 12 сентября. Будучи уверено в перевесе сил над противником, Верховное командование сочло возможным предпринять наступление в Германию силами трех армий от линии Средней Вислы. Соответственно, как сказано выше, несколько изменялась группировка сил Юго-Западного фронта, так как было понятно, что одних только армий Северо-Западного фронта не хватит, чтобы наступать в Германию. Штабом Ставки предусматривалось сосредоточение основной массы сил и средств на левом берегу Вислы: 4, 5 и 9‐я армии Юго-Западного фронта перебрасывались с реки Сан к Ивангороду; 2‐я армия Северо-Западного фронта – к польской столице. Как говорит А.К. Коленковский, «основная оперативная цель русского плана заключалась в комбинации двойного удара с фронта Ивангород – Сандомир 4, 5 и 9‐й армиями, и от Варшавы 2‐й армией»[14].
Понятное дело, что планов без недостатков не бывает. Но в данном случае, как то обычно для России, недостатки порой даже перевешивали достоинства. Во-первых, эта предполагаемая перегруппировка, вследствие хаоса в транспорте и разбитых боями дорог, производилась преимущественно походным порядком, что в осенних условиях чрезвычайно изматывало войска. В грязи прежде всего застревали обозы и артиллерия, продовольствие и боеприпасы, так что начать операцию русские войска должны были бы, еще более уступая противнику в огневом отношении. Но, главное, русские теряли темпы сосредоточения, что и позволило противнику не только первым осуществить концентрацию сил для контрнаступления, но и первым броситься вперед в условиях, когда русские армии еще только выдвигались к назначенным местам развертывания.
Во-вторых, вместо того, чтобы объединить ударную группировку под своим непосредственным руководством, или, на худой конец, временно создать новую группу армий (фронт) (правда, под чьим командованием?), Верховный главнокомандующий пока оставил предполагаемые для наступления войска под руководством их собственных фронтов. Тем самым выходило, что главнокомандующие фронтами, помимо выполнения своих собственных задач (наступление в Восточную Пруссию на Северо-Западном фронте и вторжение в Карпаты на Юго-Западном фронте), должны были одновременно и руководить действиями своих армий на левом берегу Вислы.
При этом главная часть руководства вверялась главкоюзу, так как в наступлении должны были участвовать три армии Юго-Западного фронта (в его отсутствие непосредственно в Галиции 3‐я и 8‐я армии были объединены под общим оперативным руководством командарма-8 А.А. Брусилова); главкосевзап, в свою очередь, всеми силами стремился саботировать участие 2‐й армии в обеспечении операции с севера, и только германское наступление вынудит генерала Рузского отказаться от своих сепаратных намерений.
При такой постановке руководства ожидать существенных результатов от наступательной операции вряд ли было возможно в принципе. Однако, так или иначе, Н.В. Рузский должен был остановить дальнейший отход 2‐й армии и усилить по меньшей мере двумя корпусами Варшавский район. Главкоюзу же надлежало переместить в район Ивангорода армию в составе трех корпусов и одной кавалерийской дивизии[15].
В то же время имелась и альтернатива. Сразу по окончании первых операций штаб Юго-Западного фронта также предложил Ставке перевести основную массу войск на левый берег Вислы, но действовать в направлении на Краков, а не на Берлин. Овладение краковским крепостным районом означало, что Северные Карпаты окажутся под контролем русских, а неприятель в лице австрийцев уже не будет иметь крепостей на пути к Будапешту и Вене в обход Карпат с севера. Однако штаб Ставки и сам же великий князь Николай Николаевич, находившиеся под давлением союзников, подразумевавшего оказание англо-французам немедленной помощи, поддержали планы главкосевзапа Н.В. Рузского, также настаивавшего на действиях против Германии.
Но! Верноподданнически поддержав планирование Верховного командующего, генерал Рузский тем самым вовсе не подразумевал ослабления сил своего собственного фронта против Восточной Пруссии. Согласно мнению главкосевзапа, войска для новой группы армий должен был предоставить Юго-Западный фронт, а сам Н.В. Рузский лишь «согласился» на переброску в Варшаву только что подошедшего на Северо-Западный фронт 2‐го Сибирского корпуса А.В. Сычевского. Подобные действия командования Северо-Западного фронта в зародыше срывали планы Ставки. Но даже и тогда великий князь Николай Николаевич не сумел сразу же настоять на своем. В результате своеобразного торга, и только уже в условиях начавшегося с 15 сентября австро-германского наступления на Ивангород, главкосевзап соизволил двинуть к Варшаве походным путем ослабленную 2‐ю армию (всего-навсего два армейских корпуса – 1‐й (А.А. Душкевич) и 23‐й (В.Н. Данилов).
