Журавушки
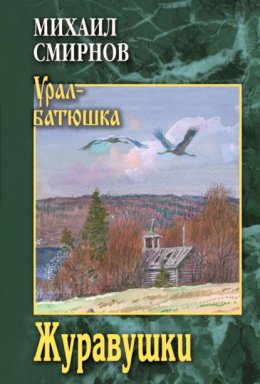
© Смирнов М.И., 2024
© ООО «Издательство „Вече“», 2024
А.С. Пушкин
- …но ближе к милому пределу
- мне б всё ж хотелось почивать.
Ефим Фадеев прислушался к тоскливым завываниям промозглого осеннего ветра. Взглядом проводил пару журавлей, которые плавно закружились над деревней, а потом, печально взывая, скрылись за облаками. Сколько уже таких журавушек проводил в дальнюю дорогу – и не счесть. Угрюмо посмотрел на деревню, от которой осталось с десяток дворов. Прислушался, но кроме порывов ветра ничего не слышно. Лишь редкий раз донесется собачий лай, а еще реже людские голоса. Вздохнул.
Уходят люди в мир иной. Пальцев не хватит, чтобы пересчитать, скольких уже снесли на мазарки, а вскоре и одной руки будет много, чтобы оставшихся пересчитать. Уезжают люди в поисках лучшей жизни, ищут по свету счастье свое и не успевают оглянуться, как забывают о родном доме, родителях и стариках. Забывают, где они родились, выросли. Бросили ее – деревню-матушку. Закружит яркая, суетная жизнь и недосуг оглянуться. Проходят годы, уходят родители в мир иной, а с ними умирают и родные дома. Лишь журавушки кружатся над домами и зовут, и плачут, взывая к нам, живым…
Ефим Фадеев приставил лопату возле калитки в сад, где сиротливо качала ветвями небольшая яблоня да виднелись два-три куста малины. Много ль одному нужно? Да всего ничего, а в старости тем более.
Раньше-то ребятишек звал. Наперегонки бежали к нему. Радовались, собирая яблоки и малину, а сейчас некому стало собирать. Горстку съешь – и ладно. Яблочко натрешь на терке – и хватит, а остальное осыпается, в землю уходит. И смотреть больно, и поделиться не с кем.
Вскидывая худые ноги, дядька Ефим подошел к дому, но не стал заходить, а присел на ступеньку крыльца. Худой и высокий, в деревне прозванный «каланчой и верстой», в безрукавке, из-под которой видна синяя клетчатая рубашка, она выбилась из потертых серых штанов, фуражка сдвинута на затылок, приоткрывая редкую седую поросль на голове.
Дядька Ефим присел, вытянув длинные ноги. Хотел было скинуть галоши, но взглянул на грязное крыльцо и не стал делать. Вроде вчера только косырем прошелся по доскам, а гляди ты, снова грязь на крыльце. Откуда берется – непонятно…
Хмуро взглянул на деревню: редкие дома виднелись там и сям, скрываясь за черемушником или прячась среди Колиных березок, словно хотели укрыться от взгляда чужого. Да, раньше, в далеком детстве, конца и края не было видно у Васильевки, тянулась между холмами, временами взбегая на пологие склоны или выстраивалась по берегу речки Ветвянки.
Некоторые называли ее пьяная Васильевка, потому что избы не по линеечке стояли, а словно пьяный великан прошагал и разбросал дома. Там пяток, здесь десяток, а тут целая пригоршня, а там всего два. Куда упали, там и остались. И получилось, что в одном месте густо, а в другом кот наплакал. Так Васильевка раскинулась по холмам вдоль Ветвянки, сплошь заросшей кустарником и черемушником.
Большая была деревня, и жителей не сосчитать, а теперь от нее почти ничего и никого не осталось. Только журавушки кружат и кружат над ней, души родные высматривают.
И снова Ефим Фадеев вздохнул. Жизнь на исходе. Вроде жизнь долгая, много всего повидал в ней как плохого, так и хорошего, с многими людьми судьба сводила. Да, вроде долгая жизнь, но оказалась слишком короткой, всего лишь черточка между датами рождения и смерти.
Дядька Ефим вздохнул. Посмотрел на улицу. Притихла деревня. Никого не видно. Прислушался к порывам холодного ветра. Зябко повел плечами и запахнул безрукавку. Зазнобило, но домой не хотелось заходить.
И снова закружились мысли. Сидишь – и складывается мозаика жизни. Всплывет в памяти кусочек из прошлого и рассматриваешь его. А есть странички, которые не хотелось бы переворачивать, нет желания ворошить это прошлое и стараешься куда-нибудь подальше затолкать их, прячешь в самые дальние уголки памяти, чтобы лишний раз не натолкнуться.
Дядька Ефим взглянул на редкие дома. Поежился от промозглого ветра, думая о скорой зиме, думая, какой она будет – морозной и снежной или теплой и слезливой. Растер лицо заскорузлыми ладонями и нахмурился, когда вдруг вспомнилась одна из зим в далеком прошлом, припомнился деревенский бригадир Николай Карпов – пакостливый человечишка. Жители стороной обходили его, потому что Николай был властью в деревне. Человечишка, возомнивший себя царем и богом на земле, который решил распоряжаться людскими судьбами. Все опасались связываться с ним, и Ефим не избежал этого.
Когда это случилось, Ефиму было всего лет четырнадцать, но бригадир не смотрел на его возраст. Это сейчас мальчишки в этом возрасте по улицам бегают, в жмурки и войнушку играют, а он уже работал.
Да и как иначе. Отец с гражданской не вернулся. Мать померла, когда он пацаненком был. И остались они вдвоем с братом. Брат на пять лет был постарше. Хозяином чувствовал себя в доме. Ответственным. Он правда был серьезным. Жизнь таким сделала, когда остались без родителей. Нужно было жить и выживать. Младший брат на нем, а еще хозяйство, которое язык не поворачивается назвать хозяйством. Коровы не было, лошади тем более, зато держали козу, но и ту в суровую зиму волки задрали, а может, лихие люди утащили.
И пришлось выживать. Здесь уже было не до веселья. И поэтому старший брат всегда был серьезным, ни улыбки на лице, ни ласкового слова, а все больше подзатыльники давал Ефиму за его неугомонный характер.
Не было такого человека в деревне, которого Ефим Фадеев не смог бы разыграть или объегорить. Все попадались на его крючок. И всё потому, что он никогда не улыбался. Брал пример со старшего брата. Стал ему подражать. Брови насупленные, на лице ни намека на улыбку. Наверное, поэтому жители верили его байкам, потому что всегда казался серьезным.
Да, так оно было. Зимние дни короткие. Не успеешь оглянуться – на улице вечереет. И все тянулись в деревенский клуб, где можно поговорить, языки почесать, посмеяться, а то начинали спорить, но и тут же решали серьезные дела. Частенько засиживались допоздна. И однажды, едва Ефимка появился на пороге, не успел дверь прикрыть, из толпы, окутанной клубами дыма, хоть топор вешай, к нему подскочил ехидный и вредный бригадир Николай – плюгавенький мужичишка.
Ефимка кинулся было в толпу, чтобы скрыться среди мужиков в густом махорочном дыму, что колыхался словно туман над рекой, но не успел. Николай вцепился в него и принялся посмеиваться над ним, что всех объегоривает, а его не сможет, потому что он забоится, потому что деревне он главный и его слово – закон для всех, а кто ослушается, пусть пеняет на себя. Сказал, словно в угол загнал. И обмануть вроде просит, и сам же пугает, что будет, если это сделает.
Ефим пытался вырваться от него, но бригадир вцепился, продолжая подъегоривать его. Мужики было вступились за Ефима, но бригадир пригрозил, что на всех делянок хватит в тайге. Умолкли.
…Ефим Фадеев посмотрел на низкое небо, сплошь затянутое облаками, и снова показалось, что курлыкают журавли. Прислушался. Пожал плечами. Наверное, показалось. Тяжелые облака, неповоротливые, того и гляди, за крыши зацепятся. Не успеешь оглянуться, зима настанет. И закружат метели, что шагу из дома не сделаешь. Завоет ветер, заметая округу. А уж дома – так под крышу наметет. Дверь не откроешь. А выйдешь на улицу, вытянутую руку не видно, такие метели бывали. И тогда, в том далеком прошлом, такая же метель была…
Поднявшись утром, маленький Ефимка поежился. За ночь все тепло выдувало из избы. Холодно. Зуб на зуб не попадает. Он заторопился в кузницу. Там тепло. Пусть много работы, но в кузне можно греться, а еще дядька Матвей картоху приносит. Сунет молчком пару-тройку штук. Вкусно – страсть! Одну картоху для брата, Петяйки оставишь, а остальные съешь. Пригреешься, и спать потянуло. Немного подремлешь, дядька Матвей поднимает. Пора за работу браться. И так весь день, а домой идешь – и ног не чуешь под собой, до такой степени уставал. И домой вернешься, воды глотнешь и сразу на боковую. На ходу засыпал…
А на дворе метет. Укрываясь от снега, не заметив, Ефимка ткнулся в спину бригадира, который стоял, прикуривая на ветру. Чертыхнувшись, он схватил Ефима и опять принялся его подначивать, что не сможет обмануть, потому что Фимка трус, а он власть, которую нужно бояться и уважать, а иначе… и погрозил кулаком.
И тут Ефима словно черт подтолкнул. Ну, сдержись, промолчи, пусть поиздевается – и ничего бы не случилось. Стисни зубы, язык прикуси до крови, вырвись и убегай, чтобы не догнал. Но Ефимку словно подтолкнули. Не удержался. Сказал, будто в соседнем селе у бабки Фени, а она была родной теткой бригадира, от снега обрушилась крыша и повалилась печная труба, а теперь старуха замерзает. И они с кузнецом побегут туда, чтобы помочь. Протараторил, вырвался и скрылся в метели. Эх, знать бы ему, чем эта шутка закончится, он бы все отдал, лишь бы вернуть прошлое и исправить, но слово не воробей…
Пять верст до соседнего села. Метель, ни зги не видно. Бригадир брел, лишь бы не сбиться с дороги. К обеду добрался до села. Смотрит, а теткин дом стоит, и печная труба на месте. Не поверил. Глаза протер. Лишь тогда понял, что пацан – этот Фимка – обманул его. Вокруг пальца обвел, а теперь вся Васильевка будет знать об этом и станет издеваться над ним, проходу не дадут, что этот пацаненок, от горшка два вершка, смог его обмануть.
Ух, взбесился бригадир! И Ефим поплатился за шутку, над которой другие бы посмеялись – и всё на этом, зная его манеру, а эта шутка превратилась в горе, которому конца и края не было. Горе на всю жизнь. Страшно поплатился. Бригадир отыгрался на его старшем брате, на Петрухе. Как-то при встрече он пригрозил Ефиму, что тот еще не один раз пожалеет о своей шутке, до конца дней своих будет каяться, да поздно.
И сочинил донос, будто старший брат потравил двух лошадей.
– Ты за лошадьми присматриваешь?
– Да, я.
– Лошади пали?
– Да, пали.
Петруха не отпирался. Все знали, что лошади сдохли. И с ним не стали разбираться, арестовали Петра. С той поры Ефим не видел брата. Сгинул он. Может, расстреляли. А может, куда-нибудь угнали и там помер. Не соврал Николай Карпов, что Ефим до конца дней будет винить себя. Так и получилось. Он, только он был виновен в смерти брата. Если бы не эта дурацкая шутка, брат остался бы живой. А он сгинул…
…Ефим Фадеев поежился. Холодно. Еще чуток, и зима придет. Закружат метели, затрещат морозы. Носа не высунешь из избы. Заметет по самую крышу. Ладно, дрова заготовлены. Можно зиму пережить. Это Андрюшка Шилов, сосед, помог. И дрова привез, и в поленницы уложил, старым рубероидом укрыл, чтобы не мокли. Хороший человек! Всем помогает. Одни старики остались, кому ехать некуда, да и незачем. Вот и доживают свой век в родной для всех деревне. И снова припомнилось горькое прошлое…
Ефима не было дома, когда арестовали брата. Мальчишка прибежал в кузню и шепнул, чтобы побыстрее прятался, иначе его заарестуют. Ефим понял, чьих рук это дело. И ему пришлось несколько дней скрываться от бригадира. В сараях ночевал, в кузне, деревенские к себе пускали и подкармливали его, а бывало, на ночь оставляли. Ефим словно исчез. Бригадир метался по деревне, чуть ли не в каждую избу заглядывая, пытаясь его разыскать, но бесполезно. Деревенские жители словно воды в рот набрали – не видели, не знаем. Ефим понимал, если попадет под руку бригадиру, тот не помилует. Не зря разыскивал. Значит, решил отправить следом за братом, а куда, нетрудно догадаться.
А вскоре его разыскала тетка. Дальняя родственница, которая прослышала, что с ними произошло. Ночью приехала на санях, чтобы никто не видел. Ефимку разыскали. По задам огородов добрался до саней. Спрятался под сеном. И тетка, не мешкая, стала понукать лошадей. Забрала Ефима с собой, хотя у нее и так было семеро по лавкам, а тут лишний рот появился…
Дядька Ефим не любил вспоминать, как пришлось выживать в теткином доме. Зимой туго было. Ни одежки, ни обуви. Выскочит на двор и тут же обратно. А настала весна, вот уж он вырвался на волю. Вслед за худыми коровенками ползал по лугу, а то старался наперед забежать, выискивая, что можно съесть. И в лес уходил. Грибы собирал, травы, какие знал. На речке рыбу ловил. Пусть немного, но все же хорошее подспорье. Немного съедал тут же, запекая в костре, или варганил юшку, а что-то приносил в теткин дом, чтобы не считаться нахлебником. И так до поздней осени, пока не начинал сыпать снег…
Так Ефим и не ходил в школу. Успел в своей деревне два класса одолеть, и учеба закончилась, когда они остались без матери. Здесь уже нужно было думать, как выжить с братом, а не в школу бегать. Брат устроился на конюшню. Лошадей любил – страсть! Готов был дни и ночи рядом с ними проводить. И проводил. Домой поздно возвращался, а чуть свет уже снова отправлялся на конюшню. И Ефимку пристроил. Договорился с кузнецом, дядькой Матвеем, чтобы Ефимку взял в обучение. Пусть пока за порядком следит да присматривается, а там уж, когда подрастет и наберется сил, можно к наковальне подпустить, а пока что – на побегушках. Так они и жили, пока Ефимка не подшутил над бригадиром, и расплата была страшной…
Холодно на улице. Промозглый порывистый ветер проникал повсюду, заставляя знобко передергиваться. Дядька Ефим надвинул фуражку на глаза. Поправил безрукавку. Стряхнул невидимую соринку с серых замызганных штанов. Сегодня он хотел было в палисаднике порядок навести.
Черемуха разрослась – страсть, а посмотрел на нее, вспомнил, как она цвела под окошком, а запах от нее, аж голова кругом шла, и не стал трогать. Пожалел. В садик отправился. Землю перекапывал, кусты малины подрезал, а то, заразы, во все стороны полезли. Не успел раньше прибраться да вскопать, а теперь приходится нагонять упущенное время.
В начале осени, когда убрали картошку, а в селе принято помогать друг другу, больше не на кого надеяться. Вот когда выкопали, дядька Ефим занедужил. И поясницу прихватило, и все косточки замозжило, словно к непогоде. Да и вообще непонятное чувство было, словно последние дни доживает. Хотелось помыться в бане, переодеться в чистое смертное белье, какое у него давно приготовлено, улечься на диван или кровать, сложить руки на груди, закрыть глаза и лежать, вспоминая прошлое, а там, глядишь, боженька приберет к себе. И еще один журавушка закружится над деревней и будет проситься домой, и начнет плакать-курлыкать, что это же я, Ефим, а люди не будут замечать, поминая его за столом…
Расхандрился. Сильно. Думал, правда, сляжет, но один сосед заглянет, другой и третий. Посидят, поговорят. Вроде ни о чем разговоры, а начнешь вспоминать, говорили о жизни, как жили, как живем, а будем ли жить – этого никто не знал, и они тоже.
…Ефим Фадеев вернулся в свою деревню уже перед самой войной. И не один приехал, а с женой, Марийкой. Встретился с ней, когда ездили в город. Они поехали в райцентр, где должны были забрать книги для школы, заехали в городскую библиотеку, там что-то взять, на складах загрузиться. А в райцентре библиотекарь, совсем еще девчонка, напросилась с ними в город.
Там девичьи дела, она неопределенно покрутила в воздухе рукой и тут же засмеялась. Взяли, но ехать пришлось в кузове. И Ефим забрался к ней, чтобы не было скучно. Всю дорогу разговаривали. Он говорил о своей работе, а она про книги. Правильно говорят, у кого что болит, тот о том и говорит. И у них так получилось. Она про книги, а он про кузню, где работал. Вроде, что общего между ними? Ничего! А они нашли общий язык.
И туда ехали вместе, и оттуда снова в кузове. А добросили ее до райцентра, Ефим выпрыгнул следом, махнул шоферу, чтобы уезжал, что сам доберется, и пошел ее провожать. Так и познакомились, а вскоре сыграли скромную свадьбу. Расписались в сельсовете. У тетки посидели. Немного выпили. Песни попели. Поплясали. И началась семейная жизнь. А вскоре решили перебраться в родную деревню. И, собрав вещички, уехали…
– Дядька Ефим, холодно на дворе, того и гляди, снег сыпанет, а ты сидишь на крыльце, – возле калитки стоял невысокий кряжистый Андрей Шилов. – Гляди, примерзнешь к ступеньке, придется твой зад кипятком отогревать. Лишь бы не обжечь, а то как сидеть будешь? – и хохотнул. – Я что заехал-то… С утречка собираюсь в райцентр, а потом еще в город нужно поспеть. Что-нить тебе привезти?
Он распахнул калитку, подошел, ткнул широкую ладонь, здороваясь, и навалился на перила крыльца, посматривая на соседа.
– Спасибо тебе, Андрейка, – хмуро взглянул дядька Ефим, а потом поднялся. – Слушал, снова журавушка закурлыкал. Еще одна душа отправилась к ним. Знаешь, Андрей, ежли будешь проезжать мимо почты, опусти письмишко. Опять племяшу, Ромашке, написал. Скока годов кличу в гости, у него времени не находится. Видать, в городе жизня сладкая, ежли от нее оторваться не может. Вдвоем на белом свете остались и не видимся. Помру и не увижу его. Эх, жизня…
Он махнул рукой, поднялся и скрылся в избе, а потом снова появился и протянул помятый конверт. Андрей Шилов взял его. Покрутил в руках и сунул в карман.
– Дождешься, дядька Ефим, – ободряюще сказал он, хотя знал, что его друг детства, Ромка, уж много лет не появлялся в родной деревне. – Не успеешь в журавушку превратиться. Чует мое сердце, приедет Роман. Видать, закрутился на работе, что свободной минутки не найти. Приедет, вот увидишь, дядька Ефим, увидишь.
– Ишь, сыскалась гадалка. Ты ишшо карты пораскинь или по руке погадай, – буркнул хмурый дядька Ефим и ткнул заскорузлую ладонь, на которой вообще ничего нельзя было рассмотреть, а уж линии – тем более. – Да, Андрейка, покуда не позабыл, захвати сахарку немного. Рафинада кускового. Он слаще и его надолго хватает. И спичек побольше. Беда с этими спичками. Возьмешь много, а заканчиваются быстро и в самый неподходящий момент. Ну и там чуток конфеток да печеньки, может, еще что-нить… Вдруг кто в гости заглянет, а у меня угостить нечем. Нельзя!
– Ладно, куплю, – сказал Андрей и заторопился к калитке. – Побегу. Нужно еще сарай подлатать. Крыша прохудилась. Пока светло, делами займусь.
И ушел, что-то напевая под нос.
Дядька Ефим долго смотрел ему вслед. Раньше бы скрылся за соседней избой и все, а сейчас издалека человека заметишь. Домов всего ничего, и людей по пальцам можно пересчитать…
А когда-то давно, когда вернулся в деревню, понял, изба обветшала совсем. И ему с Марийкой, как называл жену, первое время пришлось у старого кузнеца Матвея жить, пока свою избу не поставил. Марийка стала в школе работать, а Ефиму одна дорога – кузня. Уходил затемно и возвращался, когда ночь на дворе наступала.
Сталкивался с бригадиром, с этим Николаем, доносчиком проклятущим. Зыркнут друг на друга и расходятся. Но однажды Ефим не выдержал. Темно было, когда они повстречались. За шиворот схватил бригадира, к забору прижал и шепнул, чтобы тот остерегался ходить по улицам, а то ненароком можно упасть и шею свернуть. И добавил, что за ним должок. Придет время – и сполна рассчитается, а если властям донос сочинит, тогда дня не проживет.
Бригадир было взвился, но Ефим еще сильнее придавил к забору, аж штакетник затрещал, ткнул кулачищем под дых, и дыхание сперло у того. Еще и шепнул, что, не дай бог, если что-то случится, из-под земли достанет и по самую шею в землю же вобьет, и опять сунул кулак под ребра. У бригадира ноги подогнулись, и он ткнулся мордой в грязь. Ефим из деревни ушел пацаном, а вернулся-то крепким парнем, которого уже не просто было напугать.
А Николай Карпов как был дохляком, таким же и остался. Вроде даже росточком меньше стал. Правда, с годами ехидности не убавилось, как говорили в деревне, а наоборот, еще злее стал. К каждому слову цеплялся, но Ефима, надо сказать, избегал. На своей шкуре его силу испытал. И боялся, что где-нибудь в темном местечке встретит, башку проломит – это в лучшем случае, а в худшем – вообще не найдут. Пришибет, закопает или в речку с камнем на шее пустит и всё. Ни одна собака не найдет.
И бригадир с того дня старался возвращаться домой засветло, знал, что Ефим наблюдает за ним и ждет только подходящий момент, чтобы вернуть должок. Не помилует его, если пересекутся тропки-дорожки. И ночами в полглаза спал, и вскидывался, прислушиваясь к каждому шороху, как бы красного петуха не подпустил.
Не успели нажиться с Марийкой в новой избе, не успели налюбиться, началась война. Завыла Марийка, запричитала. Вцепилась в Ефима, когда мужиков отправляли. Убивалась, что больше не увидятся, а Ефим посмеивался, что воевать недолго будут. Приедут на войну, шапками фашистов закидают, как многие тогда говорили, и вернутся домой. Шапок не хватило, чтобы закидать, а уж домой вернуться дорога долгой оказалась…
Бои сильные шли. Они прорывались из окружения, фашисты пытались отрезать и уничтожить разрозненные отстатки полка. И тут Ефим случайно встретился с бригадиром. Даже не встретился, а издалека заметил, аж сердце ёкнуло, словно подсказать хотело, что это он – сволочуга. А Ефим не поверил, увидев его. Думал, померещилось. Сколько дней и ночей без отдыха. Не то может привидиться. Просто что-то знакомое показалось в солдатике, когда он остановился, потом медленно повернулся, внимательно осмотрелся, словно хотел убедиться, что его никто не заметил, а потом ужом скользнул и скрылся в разбитой хате. Ефим мотнул головой.
Опять почудилось, будто Николая Карпова – этого сволочугу увидел. Мотнул головой. Не может быть. Что ни говори, а воевали миллионы, и вдруг среди них встретить земляка, да еще в тот момент, когда выходил из окружения. Получается, они служили в одном месте – этого не может быть. А потом все же решил проверить. Неладное заподозрил.
Его рота вместе с остатками полка пыталась пробиться из окружения, а фашисты все сильнее затягивали кольцо. Бои не прекращались. А тут солдатик приотстал от всех и решил спрятаться. Для чего? Не в разведку же пошел. И бросился Ефим следом, не обращая внимания на огонь, короткими перебежками, а где по-пластунски, добрался до цели и проскользнул в избу.
Остановился. Закрутился на месте, пытаясь найти солдата, но никого не заметил. Пусто в хате. Над головой небо в дымных разводьях. Крышу снесло при обстреле. Где тут спрячешься, если всё на виду.
Снова закрутился, осматривая хату, и в углу заметил крышку подпола, наспех присыпанную всяким мусором. Подошел. Постоял, внимательно всматриваясь в мусор. Откинул крышку и невольно отмахнулся, глазам не поверил. Перед ним был Николай Карпов в солдатской одежде, скрючился на самом дне, пытаясь прикрыться каким-то хламом.
Свет ослепил его. Прищурившись, он не заговорил, а заверещал, редкий раз вставляя слова на немецком языке, чтобы не стреляли, что он дождался освободителей, что он сделает все, лишь бы оставили в живых, что ненавидит Советы и готов этих коммуняк стрелять и вешать на каждом столбе. Прикрыв один глаз, прищурился, он надеялся увидеть фашистов и с готовностью поднял руки, сдаваясь в плен. Но перед ним, чего он и в страшном сне не ожидал, стоял Ефим – это было равносильно приговору – и молча смотрел на него.
– Фимка, земляк! – сначала запнулся от растерянности, а потом зачастил он, вроде как обрадовавшись, а в глазах метался страх. Понял, сука, что расплата близка. – Фимка, чертяка, как ты оказался здесь? Слава богу, родную душу встретил в этом аду! Я уж думал, хана пришла мне. Стрельнут и не станут разбираться. А тут ты стоишь… Ну, теперь заживем! Слава тебе, Господи!
И размашисто перекрестился.
– Сволочуга, с каких пор богу стал верить? – не сказал, а рыкнул Ефим, склонился над подполом, ухватился за ворот и рывком вытащил бригадира наружу. – Решил грехи замолить? А ты подсчитал, сколько загубленных душ на твоей совести? Не получится, сволочь! За каждого убиенного придется ответ держать, а за моего брата Петруху вдвойне спрошу с тебя. Признавайся, сука, решил фашистам сдаться? Вздумал коммунистов на столбах вешать? Говори, сволочуга, иначе порешу на месте!
И не удержался, ткнул в морду кулачищем, кровянка брызнула во все стороны.
– Фимка, подожди, Фимка, – захлебываясь кровью и соплями, заторопился бригадир и махнул рукой. – Ты поглянь, какая силища на нас прет! Ведь мы не остановим ее. Они скоро Москву возьмут. Я читал листовки. А там до Урала рукой подать. И тогда конец придет. Всю страну завоюют, и глазом не успеем моргнуть. Подожди… – он рванулся в сторону, пытаясь уклониться от удара, но взвизгнул, когда Ефим с размаху врезал по загривку, аж зубы клацнули. – Ефим, это новые хозяева идут. А не все ли равно, кому служить – русским или немцам. Немцы любят порядок. Мы будем, как сыр в масле кататься. А здесь заживем. Немец не даст пропасть. Ефимка, решайся. Вон он – немец, на опушке леса окопался, рукой дотянешься, а за ним силища прет. А где наши, русские? Нет их, разбежались, по кустам прячутся, а начальство манатки собрало и махнуло за Урал, нас бросили на произвол судьбы. Понимаешь, Фимка, нас бросили на погибель. Никто не узнает, где нас закопали. А я еще хочу пожить. Понимаешь, Фимка, жить хочу-у!
И Николай Карпов завыл. Страшно завыл, по-звериному, сидя на грязном полу. Закачался, схватившись за голову. А потом бросился к Ефиму, стоявшему молча, обнял колени и заверещал, словно заяц.
– Жить хочу, жить хочу… – повторял он без остановки, поднимет голову, взглянет на Ефима и снова: – Жить хочу!..
– Мой брат тоже хотел жить, – тихо так, словно про себя, сказал Ефим, и тут же Николай умолк, отпустив сапоги. – Ты отправил на смерть моего Петруху, и меня бы отправил, если разыскал. И я буду до последнего дня своего корить себя, что по моей вине он сгинул, и где его могилка, я даже не знаю. Ты отправил его на смерть, а вся вина на мне!
И ткнул пальцем в бригадира.
– Фимка, прости меня, прости, говорю, – снова заверещал Николай и опять кинулся обнимать грязную обувку. – Времена такие были. Это не я виноват, а власть решила отправить его на погибель. Прости меня… Я верным псом стану тебе. Любого загрызу. Любого разорву. До конца дней буду служить тебе. Уйдем к немцам, и у нас начнется другая жизнь, намного лучше, чем при Советах жили. Ты будешь хозяином, а я стану твоим верным псом. Пойдем, Фимка. Вот, смотри, что у меня есть, – он сунулся в карман, вытащил довольно-таки увесистый сверток и развернул. – Посмотри, сколько насобирал. На всю жизнь хватит. А если хочешь, оставь себе…
Он протянул тряпицу, в которой лежали золотые колечки, монеты, что-то еще и – выломанные зубы…
Ефим, когда догнал свой взвод, ничего не стал рассказывать про бригадира, только хмурился и всё наклонялся, вырывал пучок травы и брезгливо вытирал руки. А потом отбрасывал его и принимался вытирать ладони о грязную гимнастерку.
Раньше, думал он, убью бригадира, сразу на душе станет легче. Он думал, легче станет, потому что отомстил за брата Петруху. Да и не только за него, но и за другие убиенные души. А сейчас… Сейчас легче не стало. Наоборот, словно камень на душу лег, и нет мочи сдвинуть его, скинуть этот ненавистный груз, который придется тащить всю свою жизнь.
Днём вовсю пригревало, но вечерами, в призрачных сумерках ещё тянуло морозцем. В апреле погода, ох, как обманчива, но всё равно желанна и долгожданна, что сам тоже места не может найти. Радуется природа, а с ней и душа. Умытое солнце, а небо не голубое, как летом бывает, а какое-то ярко-высиненное и глубокое, а по нему облака – белые перья-пушинки: чистые, быстрые и лёгкие.
В затишке стоишь, и жарко становится – солнце пригревает, а от земли холодком потягивает, снег, казалось, почти везде сошёл, так, кое-где в зарослях кустов виднеется да в тени домов, куда солнце редко заглядывает, там ещё тёмные сугробы лежат. И если зачерпнуть снег, раскрошить на ладони, и тогда можно увидеть, как засверкают гранями маленькие льдинки. Пройдёт несколько секунд, и на ладони останется вода, пахнущая свежестью да талым снегом. Но вскоре сугробы возле домов исчезнут. Днём прогреется воздух, и остатки сугробов заплачут ручейками, а возле них уже бледные ростки начинают проклёвываться. Весна пришла, новая жизнь зарождается…
Душа радуется весне, но томится в городе. Антон Иваныч стоял на балконе, поглядывал на чистое небо и жмурился. Хорошо-то как! Солнце играется. Деревья к солнцу тянутся. Вдруг ветерок заиграл, промчался, и теплом пахнуло, но тут же прохладой пахнуло. Воробьи на кустах разговорились, перебивают друг друга, торопятся: «жив-жив, жив-жив», а белоносые грачи важно вышагивают по дорожкам парка, по голой земле, крыльями взмахивают и словно подгоняют: пора в путь, пора в деревню…
Антон Иваныч завздыхал, ещё раз взглянул на парк, что был под окнами, и зашёл в квартиру. И, правда, пора в Васильевку собираться. Казалось, почти всю жизнь прожил в городе, сюда перебрался ещё молодым, учиться поехал и на долгие годы остался. Пора бы привыкнуть, ан нет, всё равно тянет в деревню, и чем старше становишься, тем сильнее она манит. Зовёт родной дом, покоя ночами не даёт. Снится. Утром поднимешься, а мыслями там, в родной Васильевке, где каждый уголок знаком, где ты знаешь всех, и все знают тебя. Пора туда, где тебя ждут…
Долгими зимними вечерами, когда за окнами лютовал мороз и куролесила метель, Иваныч частенько сидел с женой и вспоминал молодость и свою Васильевку. Всё посмеивался, говорил, что вокруг много было красивых девчонок, а женился на своей, на деревенской – она милее сердцу, чем городские.
Так они сидели с женой, прислушивались к непогоде за окном, а у самих только и разговоры, что про деревню. Казалось, всё уж давно обговорено-переговорено, но всякий раз они возвращались к деревне, и было видно, что она для них дороже и ближе, чем город, в котором прожили почти всю жизнь. Прожили, но так и не привыкли…
Два-три дня только прошло, и они не выдержали, стали в Васильевку собираться. Хотя что собираться, если жена заранее всё собрала. Привыкла за долгие годы, что Антон, едва наступит весна, весь изведётся, в Васильевку начнёт рваться, поближе к земле – подальше от города.
Валентина приготовила сумки. Соседям оставили ключи, как обычно, чтобы за цветами присмотрели, ну и так, на всякий случай. Мало ли… И утром они поспешили на вокзал. Подъехал автобус, все заняли места и чуть погодя отправились в дорогу.
Иваныч сидел, в окно поглядывал и локтем весь бок жене изширял, показывая на проплывающие чёрные поля, а показывал на взгорки, где проклюнулась первая зелень, как ему показалось, а там, в глубоких ложбинах, местами еще искрится рыхлый снег.
Деревья в лесу потемнели, а ольховые заросли закраснелись серёжками, в воздухе плывет запах лежалых листьев и сырости, и свежестью пахнет.
Автобус старенький. Сколько же он, бедняга, исколесил километров по здешним дорогам! Тысячи и тысячи… И сейчас отправился в путь, а в автобусе несколько пассажиров сидят, и видно по ним, слышно по разговорам, что они радуются весне, радуются тёплому солнцу и едут в свои деревни, которые разбросаны повсюду. Вон, у каждого несколько сумок.
Дождались-таки весну, и всех потянуло туда, где сердце радует каждый пустячок, всякая мелочь, туда, где милее всего – на родину, в родные деревни и села, где ждут и где душа отдыхает…
Ближе к полудню автобус медленно спустился по дороге, что вилась среди леса, а с левой стороны мелькнул тёмный ельник. Громыхнул по узкому мосту, и заскрипели рессоры, лязгнули расхлябанные дверки. Всё, добрались…
– Хорошо-то как! – высокий, сухой Антон Иваныч выбрался из автобуса, задержался на последней ступеньке и оглянулся по сторонам. – Эх, Валентина, глянь, красота-то какая!
Спрыгнул на землю. Вытащил из автобуса две тяжёлые сумки, помог жене спуститься и помахал вслед автобусу, который, просигналив, медленно задребезжал по разбитой дороге. Потом подошёл к молоденькому топольку возле остановки. Взялся за ветку, а почки набухшие. И не удержался, сжал пальцами небольшую почку, она клейкая, сама зеленью отдаёт, и запах острый и резкий, сразу смолкой пахнуло, а ещё, как ни странно, – весной.
– Чуешь, как пахнет? – Иваныч шумно вдохнул в себя прохладный воздух и ткнул пальцем. – Вот… Вот чего нам в городе не хватает – этого запаха и простора!
И обвёл рукой окоём.
– Навозом тянет, Антоша, навозом. Глянь, сколько за зиму скопилось, – не удержалась, прыснула невысокая, худенькая Валентина, поправляя косынку, и запахнула тёплую куртку. – Свежо-то как, хоть и весна на дворе!
– Ну, каким навозом? – засмеялся Антон Иваныч и подхватил сумки. – Весна же пришла! Землёю пахнет, дымком и берёзовыми вениками со стороны Колиных березок, а главное – новой жизнью пахнет. Глянь в поля, видишь, сиреневая дымка? Это земля дышит, отогревается после долгой зимы, а на взгорках уже первая зелень проклёвывается. Заметил, когда на автобусе ехали, – и не удержался, опять повторил: – Эх, Валюха, красота-то какая! Да уж, это не городская жизнь, где сплошные пробки, кирпичные коробки. Люди живут, словно в муравейнике, шагают по улицам, не замечая друг друга, а вокруг бесконечный шум и суета, – и ткнул пальцем. – Прислушайся к тишине – звенит, аж душа поёт.
И неторопливо пошёл по обочине, оглядываясь по сторонам. С прошлого года не были в Васильевке, а кажется – вечность прошла. А может, и правда, что вечность… Каждый день и час, каждая минута и секунда – это вечность. Время уходит, не возвращается. Время уходит безвозвратно, и люди уйдут, когда наступит их время. А пока нужно…
– Антон, глянь, – жена махнула на далёкий лес, что стеной стоял за речкой Ветвянкой. – Вроде тепла-то ещё не было, а всмотришься, и словно зелёный лес какой-то светлый и праздничный, не то что летом в нём: темно, сумрачно и страшно.
– Пора зазеленеть, – сказал Антон, взглянув на лес. – Неделя-другая пройдёт, и совсем не узнаешь его. Весна, всё как на дрожжах растёт. Всё просыпается, и лес оживёт…
По обочинам тропинок и вдоль дороги кое-где проклюнулись первые желтовато-золотистые венчики одуванчиков. Пока их немного, там и сям разбросаны, но вскоре потеплеет, и непритязательные цветы заполонят округу, и начнут кланяться под порывами ветерка, словно с прохожими здороваясь.
– О, Иваныч, – заскрипела калитка, и на улице появился высокий сутулый дядька Ефим в телогрейке и в шапке. – Здоров был! Что-то с приездом задержались, а раньше, бывало, едва снег сходил, и вы приезжали, а сейчас… Видать, дела были. Валька, здорово! – он кивнул Валентине. – Пока не забыл… Вчера к Шаргуновым ходил. Леньке помогал. Зайди к ним, когда время будет. Варвара про тебя спрашивала. Зачем-то понадобилась…
И так говорил с ними, будто не осенью последний раз виделись, а только вчера расстались.
– Здоров, дядька Ефим, – закивал Антон Иваныч и приостановился. – Все скрипишь, старый? Держись. Весна пришла, а с ней новая жизнь начнется. Мы чуток закрутились, и погода не позволяла, то снег сыпанёт, то жаром полыхнёт. Утром поднимешься и не знаешь, что надеть: рубашку или куртку. Так и ходишь, сам в рубахе, а куртка под мышкой. Я батарейки привёз для тебя. Вечерочком загляни к нам. Заберёшь…
– О, молодца, не забыл, – потёр руки Ефим Фадеев и, прищурившись, взглянул на яркое солнце. – Сегодня жарит, спасу нет. Посижу на лавке, покурю. Ох, лютая зима была, холодная. Без дров остались. А к весне кости заломило – терпения не хватает. Погреюсь, авось отпустит… А еще Архип Сифилитик обещал настойку сделать. Любого на ноги поставит. Скорее бы…
Дядька Ефим достал мятую пачку, уселся на лавочку возле двора, сбил потёртую шапку на затылок и задымил. А потом прислушался. Показалось, журавушки закурлыкали в вышине. Задрал голову. Долго всматривался в синь небесную и вздохнул. Показалось… а потом снова вскинулся. Нет, правда, журавушки летят. И будут курдыкать, над дворами кружиться, лушу тревожить воспоминаниями…
Они неторопливо шли по дороге. Наконец-то, добрались до деревни. Теперь некуда спешить. Они дома – это главное. А дом не только жилище – это всё, что есть в округе.
Иваныч шагал, изредка останавливался. Ставил сумки на землю. Отдыхал, растирая уставшие руки. Вроде ничего лишнего не брали, а только всякую мелочёвку собрали, которая необходима в деревне, а гляди ж ты, сумки-то неподъёмные.
Он стоял и осматривался. Казалось, всего зиму не были, а соскучились. И округа стала какая-то другая. Изменилась. Чего-то не хватает, а может, прибавилось. Он закрутил головой. Всмотрелся вдаль, воздух колышется – это земля дышит, а склоны холмов едва заметно зазеленели. А пройдёт всего неделя-другая, и покроются молодой порослью холмы, скрывая пожухлую прошлогоднюю траву и принося покой душе и радость.
– Журавушки наши летят, – он взглянул в синь небесную и зажмурился. – И они соскучились по родным краям. И мы скучали по ним.
На огородах, что протянулись позади дворов, неторопливо вышагивают грачи. То один взлетит, то другой, и опять на землю, и снова копошатся. Тут и там видны дымки – это хозяева взялись за огороды. Сжигают прошлогоднюю траву, что не успели по осени убрать. Плывёт дымок над землёй, прижимается… И воздух, казалось бы, звенит – это жаворонки в высиненное небо поднимаются и распевают свои бесконечные песни. Весна пришла…
Что ни говори, с грустью заметил Анатолий Иванович, в деревне всё меньше остается дворов, зато журавушек все больше и больше. Да, мало дворов, а раньше Васильевка была огромная. Рассыпалась по пологим склонам холмов и вдоль речки Ветвянки, разделённая улочками и переулками, а на другой стороне речки между деревьями укрылись два-три дома, лишь крыши виднеются, а там, на высоком холме, была школа. Сейчас все меньше и меньше становится она. Школа закрылась, и магазин не работает. Андрей Шилов да Пантюшка из райцентра привозят все, что старики просят. Молодцы, не отказывают.
– Здоров, Антошка, – протянул руку сгорбленный дедка Ленька, опираясь на отполированную клюку, и кивнул головой. – Здравствуй, Валька! Что вы мучаетесь, каждый год мотаетесь туда-сюда? Давно бы перебрались и жили, как люди живут, а то бултыхаетесь, словно навоз в проруби. Хе-х!
И тоненько засмеялся.
– Здорово, дедка Ленька, – пожал руку Иваныч. – Ну, сказанул – навоз! Придумал же! Вернёмся в деревню, обязательно вернёмся. Младший сынок определится в жизни, квартиру оставим на него, а сами в деревню переедем. Самим уж невтерпёж. Ночами снится. А ты куда пошлёпал, а?
– Почтальонша приезжала. Пензию дали, – старик ткнул пальцем вверх и похлопал по карману. – Богатым стал. К Андрейке Шилову схожу. Списочек накорябал. Пусть продукты купит, всякой мелочи, ну и для меня ещё шкалик прихватит. Сегодня наш праздник – пензия. О как! Ты бы, Валька, привезла какую-никакую мазь, а то совсем мои ноги отказываются ходить. А мне никак нельзя сиднем сидеть. Если обезножу, кто за меня хозяйством станет заниматься? – И нахмурился, и закачал головой.
Громыхаяя кузовом, проехала машина. Заквохтали куры, бросившись врассыпную. Гавкнула невысокая чёрно-белая собачонка и кинулась вслед за ней. А потом отстала. Устала. И, опустив голову к земле, собака неторопливо потрусила по тропинке.
Иваныч поставил сумки на землю. Заскрипел ворот, загремела цепь, наматываясь на барабан, звякнуло ведро в глубине колодца, и плеснула вода. Анатолий подхватил ведро и поставил на край. Наклонился, глотнул – холодная вода, аж зубы заломило. Жена наклонилась. Тоже глотнула и закачала головой – у, какая вкусная! А потом достала бидончик, высыпала из него конфеты в сумку и налила воды – пригодится.
Иваныч стоял и размахивал руками. Устал, пока тащил тяжёлые сумки. Немного отдохнул и снова подхватил тяжёлую поклажу, и неспешно зашагали по деревне, часто останавливались, потом опять шли по разбитой дороге. Обходили большие лужи, выбирались на грунтовку, но снова натыкались на ямины с водой и опять обходили, а потом махнули рукой, свернули на тропинку и по ней направились к дому…
– Ну, здравствуй, родненький, – сказала Валентина, когда они подошли к дому, что виднелся за высоким забором, и, раскинув руки, прижалась к воротам. – Вот мы и добрались. Вот и вернулись домой. Заждался нас…
Иваныч завздыхал, оглядывая дом, голубенький забор – весь в проплешинах, и калитка просела – нужно подправить, а там забор покосился, тоже надо бы заняться, пока не свалился. Посмотрел по сторонам. Черемуха в палисаднике. Всего два куста, а распустится, и надышаться не можешь. Поднял голову и зажмурился, взглянув на синее небо, вот уж точно – бездонное, где вовсю звенели жаворонки. Потом уселся на лавку, спиной прижался к забору и опять вздохнул: легко и свободно – всё наконец-то добрались…
Жена присела рядышком с ним. Так было заведено, когда они приезжали в Васильевку. Здоровались с домом, потом ненадолго присаживались на скамейку. И когда уезжали, тоже присаживались, чтобы дорога лёгкой была, но всегда оборачивались, не хотели расставаться с родным домом. Уезжали в город, а душа оставалась тут, в деревне…
– Гляньте, неужто наши Петрухины приехали? – донёсся протяжный, чуть с картавинкой, женский голос. – Значит, правда, весна приспела. Всё, пришла пора огородами заниматься, – хохотнула и тут же следом: – Валентина, здравствуй! Иваныч, здоров будь! Валентина, я вечером загляну. Весёленький ситчик в райцентре купила. Посоветуй, что из него сшить.
– Заходи, Тоня, – помахала рукой Валентина. – Посидим, чаёк попьём да поговорим…
– Тёть Валь, моя Танька решила в городе остаться, – долетел голос. – Подскажи, куда ей устроиться…
– Пусть в деревне остаётся, – засмеялась Валентина. – Где родился, там и пригодился…
– Ага, а сами-то в городе живёте, – раздался обиженный девчоночий голос. – А меня – в деревню…
– Поэтому ездим в деревню, что до сей поры не привыкли к городской жизни, – уже более строго сказала Валентина. – Поймёшь, когда вырастешь. Возле родителей живи, пока живётся, а отдельно успеешь намучиться.
– Твоя правда, твоя… А я уж весь язык обколотила, дочке говорю, а она упёрлась – в город засобиралась и не сдвинешь. Молодая ещё, не понимает. Ну, ничего, жизнь научит… Спасибо, тёть Валь!
– О, Антошка приехал! Знаешь, что хотел спросить-то…
Так было всегда. Едва они приезжали, и сразу же к ним тянулись гости. Да какие гости – все свои, все деревенские, которых осталось-то всего ничего. И у каждого были какие-нибудь дела и просьбы или в совете нуждались, а спросить не у кого. Подходили, усаживались на скамейку и вели долгие вечерние разговоры…
– Ну что, мать, домик заждался, – сказал Иваныч и поднялся. – Хватит сидеть. Пошли…
Он сунул руку в щель между досками, звякнул щеколдой и толкнул. Калитка заскрипела и распахнулась. По двору, прижимаясь к земле, промелькнула серая кошка и исчезла за сарайкой. Видать, соседская забрела. Своих мышей мало, а чужие всегда толще и вкуснее.
Иваныч пропустил жену, подхватил сумки, зашёл во двор и опять остановился, осматриваясь. Вроде всё по осени убрали во дворе, в садике, что был напротив окон, а гляди ж ты, за зиму мусор нанесло, весь двор усыпан. Что и говорить, хозяин за ворота, и порядка нет…
Хозяин поднялся по скрипучим ступеням. Громыхнул ржавым навесным замком. Открыл. Зашёл на веранду. Сыростью запахло, мышами. Повсюду тенёта висят. Удивительно, всего несколько месяцев не были в деревне, а уже паутина заполонила все углы – и опять-таки мусор повсюду. Иваныч пожал плечами и оглянулся на жену. Валентина распахнула дверь, обитую чёрным дерматином.
– Давай проходи, – сказала она. – Сумки поставь возле стола. Я потом разберу…
Антон покосился на облезлую печь, подошёл к столу, что стоял возле окна на кухоньке, и опустил сумки на грязный пол. И снова закрутил головой. Казалось бы, что тут скучать, а вся душа изболелась, свой же дом – родной. Сколько лет прошло, когда с отцом печь сложили, его уж давно снесли на мазарки, а печь исправно служит. Антон нахмурился, вспоминая отца. Болел он, когда с войны вернулся. Два осколка в нем было. Болел, но виду старался не показывать. А когда эту печь сложили, отец занемог. Потом врачи сказали, что осколок сдвинулся, а рядом сердце. И того… умер батя. В землю лег, чтобы журавушкой взмыть к облакам. И курлыкает, душу изводит…
А печь так и служит. Приезжают в деревню, подмажут, подбелят – и как новенькая становится. И ухваты с кочерёжками – это батя в кузницу ездил, когда еще дядька Ефим там работал. Вместе с ним ковали. Крепкие да удобные – страсть!
В углу чугунки и кастрюли, несколько вёдер, ещё какая-то мелочёвка – это уже бабье царство. Пусть Валентина тут командует. Он толкнул двери в горницу. Зашёл. Ну, здравствуй, дом! Яркие солнечные блики мелькнули на стене и исчезли, а потом опять блеснули, как будто тоже дом поздоровался.
Иваныч провёл ладонью по шершавой стене. Кое-где осыпалась штукатурка, местами известка вздулась пузырями – колупни и отлетит. Вся мебель в паутине и пыли. Да какая мебель: большой стол, ещё из прошлого, из далёкого детства, два венских стула – это отец давным-давно откуда-то привёз. Было четыре стула, но два сломались за долгие годы, где-то в сарайке валяются. Под стол задвинуты табуретки. Большие узлы на шифоньере, что в углу стоит. Рядом печь-голландка.
В другом углу запылённое трюмо и радио, тряпкой прикрытое. На стенах фотографии в рамках. Так было при родителях, так и останется после них… За голландкой старая кровать: спинки высокие, ажурные, тоже отец привёз. Ему нравилось удивлять не только семью, но и соседей. Вот отовсюду привозил всякие необычные вещи и посмеивался, радуясь, что всем понравилось. Значит, угодил…
Антон стоял, и казалось, в горнице светлее становилось. Солнце всё ярче вспыхивало. Пыль потревожили – и тут же пробежали дорожки в солнечных лучах. Даже показалось, в доме теплее стало. И сырость не так ощущается, и затхлый воздух исчез. Да и вообще, если сейчас взглянуть на ободранные стены, побелку да покраску, здесь и делов-то всего ничего – начать да кончить…
– Отец, что стоишь, как памятник на площади? – в горницу заглянула жена, Валентина. – Я уж чай успела заварить. Ладно, догадались воду в бидончик налить. Пригодилась. Давай чай попьём с дороги. Проголодался, пока добрались. А потом делами займёмся.
Иваныч сбросил куртку. Повесил на вешалку, что была возле входной двери. Заглянул в пустой рукомойник, громыхнул крышкой, и тут же Валентина из бидончика слила ему на руки и подала вафельное полотенце. Он вытер руки и присел на краешек табуретки. На столе нарезанный хлеб, что из города прихватили, пяток яиц и дешёвая колбаса в тарелочке, рядом плавленый сыр лежит. Печеньки и конфеты на блюдце. Он пододвинул кружку, а другую посуду для чая не признавал, обжигаясь, отхлебнул небольшой глоточек и закачал головой.
– У, вкуснотища! Как ни заваривай, а в деревне чай вкуснее, – сказал Иваныч, схватил кусочек хлеба, колбасу и принялся жевать. – Ох, хорошо-то как! Здесь быстрее картоха в мундирах на «ура» пойдёт, чем пельмени в городе.
И опять потянулся за хлебом.
– Так и быть, на ужин сварим картошку, – сказала жена и захрумкала печенькой. – В погребе картошка лежит, там ещё огурцы сохранились и помидорки. Кажется, капуста есть. Я с осени две банки оставляла. Так, на всякий случай… Маслице у соседей возьмём. Хватит поужинать, а на завтра попросим Андрея, чтобы в магазин заехал за продуктами…
В дверь коротко стукнули.
– Валентина, принимай гостей, – Иваныч покосился и ткнул пальцем в сторону двери. – Это к тебе пришли. Ты же главная советчица всея Васильевки.
И засмеялся.
– А может, к тебе, – сказала Валентина, и смешок рассыпался по кухоньке. – Заходите, кто там такой нерешительный?
Дверь заскрипела, и на пороге появилась маленькая, словно подросток, старушка в тёмных одеждах, тёплый коричневый платок на голове, клюка в руках и глаза почти в пол.
– Ну, наконец-то приехали, – сказала старушка, вроде неторопливо говорила, но словно вязала, петелька за петелькой, слово за словом, и всё с улыбкой, всё тихо, почти шёпотом, словно шелестела. – Здравствовать вам, милые мои! А я уж все глазоньки проглядела. Всё на улицу ходила, на лавке сидела да каждый автобус встречала. Нет и нет вас, милых моих. А сегодня прозевала. Свою козочку поила, закрутилась по хозяйству, а Верочка Аганюшкина мимо двора проходила, стукнула в калитку и сказала, что вы приехали, милые мои. Я подхватилась и сюда подалась. Молочка принесла. Моя козочка постаралась. Кормилица. А куда мне одной столько-то? Вот и делюсь со всеми. А сейчас вам принесла. Подошла и вижу, калитка открыта, к дому подступила и сразу почуяла – хозяева вернулись. Вон, гляньте, как домик-то радуется, и я вместе с ним…
И вздохнула. Перевела дух. Долго говорила. Устала.
– Здравствуй, бабушка Анютка, – поднялась Валентина, подошла и приобняла старушку. – Соскучились. Проходи, почаёвничаем. А я гостинчик привезла. Новый платок купила. Красивый! Летом будешь в нём форсить, женихам глазки строить.
И засмеялась.
– Скажешь тоже – глазки, – захыкала баба Анютка, но видно было, что обрадовалась подарку. – Здесь бы вас, милых моих, увидеть, а уж про женихов и говорить нечего.
И махнула рукой.
– Здорово была, баб Анюта, – проглатывая буквы, так назвал её Иваныч, отпил из банки и закачал головой. – Ух, молоко вкусное, прям сладкое! – а потом похлопал по табуретке. – Присаживайся, баб. Как твои дела, как жизнь молодая?
И хохотнул, а потом поперхнулся и закашлялся, подавившись кусочком хлеба.
– Это Боженька наказывает, что над старушкой изгаляешься, – улыбаясь, тихо зашелестела баба Анютка, присаживаясь на краешек табуретки, и закачала головой, когда Валентина поставила перед ней чайную чашку и блюдце. – Ох, чай какой духмяный! Чать, с травками заваривала, Валюшка? – и сама же ответила на свой вопрос и опять зашелестела. – Вижу, с травками: и богородка, и чабрец, и вишенка – много всего. Полезный чай, а вкусный – страсть! Вот и дождались весну, милые мои. Долгонько не хотела приходить. Зимушка не пропускала. Ан всё же сдалась, уступила место весне. Ледоход был. Ручейки побежали, колокольцами зазвенели. И солнышко заиграло – загляденье. А жаворонки зазвенели, и душа вслед за ними запела. Ну, а вы как зимушку провели в своём городе, милые мои? Чать, устали от суеты, да? Вижу, что устали, вижу. А сейчас приехали, вон, у Валечки аж глаза заблестели, что в деревню вернулась и весне радуется, и ты, Толенька, словно распрямился, вон какой бравый сидишь. Сразу видно, что в вашей семье тишь да гладь – Божья благодать. Это правильно, милые мои. Так и должны люди жить. Жить и Боженьку почитать…
Баба Анютка сидела, изредка отхлёбывала чай, а сама всё говорила и говорила, словно сплетала слова в одну непрерывную нить, и все смотрела на них, тоже радовалась, что они приехали…
Сколько лет бабе Анютке, никто не знал, и она не помнила, а годы свои считала по событиям. Иваныч вспоминал, что он был ещё ребенком, а баба Анютка уже была такой же, как сейчас: небольшой, сгорбленной и неторопливой, словно время не брало её. Он уж жизнь прожил, а она всё такая же осталась, может, чуточку к земле пригнуло, видать, всё же земля зовёт к себе, тянет.
А память у бабы Анютки – молодой позавидует. Знала всё и всех. Могла часами говорить про деревню, про людей, кто здесь жил, а кого уж давно на мазарки отвезли, чтобы журавушками подняться в синь небесную. Всех помнила по именам, а если начинала рассказывать про какого-нибудь человека, добиралась почти до седьмого колена. Кто умер, кто женился, а тот в город перебрался, а у этих мальчишка родился, а у тех трое бегают, но девка ещё четвертым ходит. Знала всех, и её знали и всегда приглашали в гости – чаёк попить да про жизнь поговорить, а она не отказывалась, ко всем заходила, и ей были рады, и она радовалась, что не забывают старушку.
Баба Анютка жила одна. Мужа схоронила и детей в последний путь проводила, уже внуки взрослые и правнуки бегают, а некоторые уже отучились, а другие женились или женихаются, а она всё живёт, всё небо коптит. Пусть живёт, Боженька знает, кого и когда забирать…
– Внуки-то приезжают, баб Анюта? – так, привычно, сказал Иваныч. – Помню, в прошлом году частенько навещали. Помогали тебе – это радует. Молодцы!
– А куда же они денутся-то? – тихо засмеялась баба Анютка, и морщины лучиками разбежались по лицу, и принялась шелестеть, словечко за словечко цеплять. – Алёшенька приезжал – это правнучек кажись, а может, младшенький внучок – уж запуталась… Много ребяток у меня. Учудил Алёшка. Решил за нашей фельшерицей приударить, когда она приезжала в Васильевку. Он здоровый, высокий, а красивый – страсть, хоть икону пиши, а она чуть выше пояса, но серьёзная – не подступись! Целую неделю ездил к ней в райцентр, жаловался, что тут болит и там свербит. Вернётся, бросит на стол бумажки, что она написала, у самого глаза блестят. Радуется, что её видел, что с ней поговорил. Всё не мог решиться погулять позвать. А когда заикнулся, она в кошки-дыбошки поднялась да раскричалась, что он никакой не больной, а самый что ни на есть обманщик. Выгнала Алёшеньку. Он до самого отъезда продолжал ездить к ней, целыми днями возле кабинета сидел, но так ничего не высидел. Уезжал и говорит, что всё равно женится на ней. Видать, сильно в душу запала. И Танька, наша почтальонша, сказала, что почти каждый день письма пишет. Лекарка выбрасывала попервоначалу, а в последнее время стала забирать. Видать, лёд тронулся. Значит, растаивает её сердечко. Алёшенька настырный – страсть! Всё равно своего добьётся. Видать, пора наряды доставать да к свадьбе готовиться…
И опять засмеялась. А потом принялась рассказывать про своих внуков, а их было очень много. Иваныч слушал, некоторых внуков видел, а других не знал, а может, сталкивались да не запомнил. Это ж какая у баб Анюты семья, если она говорила, что своих детей было девять или десять, да ещё двух от сестры забрала, когда она померла, у каждого семья и детишки, уж внуки переженились – и тоже родились ребятишки. Да разве упомнишь всех-то? А вот баб Анюта помнит и про каждого рассказывает. Всех к себе зовёт, а сама ни шагу из деревни не делает. Говорит, что дня не выдержит в этом городе, потому что суета и дышать нечем. А может, она и права…
– Ладно, вы чаи гоняйте, а я выйду, осмотрюсь, – сказал Иваныч, набросил куртку – всё же прохладно, и вышел на улицу.
Иваныч стоял посреди двора, осматриваясь. Двор нужно убирать, вон сколько мусора нанесло. И откуда взялся – непонятно. Он заглянул в сарай. В углу чилиговые веники – в прошлом году заготовил. Как раз двор подметать.
Потом спустился по заросшей тропке к речке, что протекала позади деревни. Вдоль воды верба разрослась. Серебряной опушкой укрылась, нарядная стоит, словно невестушка.
В конце огорода частая крепкая загородь из осиновых жердей. Всегда за загородкой капусту сажали. Главное – вода рядышком. Хоть с обрыва черпай. А капуста любит воду. Поэтому здесь высаживают. Так было всегда, при родителях, сами сажают, а потом дети станут приезжать и тоже займутся огородом. В городе почти всё есть, да не накупишься.
А чуть сбоку, возле кустов, баня стоит. Небольшая, низенькая, но тёплая – страсть! Немного подкинешь дровишек, и вода уже горячая, а если хорошо протопить – ух, аж уши заворачиваются! Батя любил париться и его приучил. А вот ребята когда приезжают – они не парятся. Так, ополоснутся – и всё на этом.
Он открыл тугую дверь, и сразу пахнуло вениками и сыростью. Пригнулся, зашёл в предбанник. На гвозде какая-то тряпка. Наверное, с прошлого года забыли. В углу дрова сложены. У, хорошо-то как! Нужно бы протопить. Открыл вторую дверь. Зашёл. Темно. Единственное маленькое окошечко едва пропускает свет, но и его достаточно, чтобы взглянуть на каменку и полок, на котором два тазика в уголке, а на скамейке, что вдоль стены, ещё обмылок сохранился и несколько берёзовых листочков прилипло. Иваныч провёл рукой по доскам. Топнул ногой, взглянув на полы. Крепкие! На совесть сделаны. Потрогал холодную каменку.
Надо бы Валентине сказать, чтобы баню вымыла, а после обеда протопить. Кажется, на чердаке ещё сохранились прошлогодние веники. Попариться бы, соскучился за зиму. А в городскую баню ходить – только время тратить.
Не то, далеко не то, что в деревенской париться. Шум, гам, суета. Все торопятся, все кричат. А парилка не любит суеты, потому что в ней тело очищается от всякой грязи и на душе легче становится. Баня лечит человека, от любой хворобы избавит, и выходишь оттуда, словно заново родился. Он вздохнул, вышел из баньки и зажмурился от яркого апрельского солнца. Хорошо-то как!
Поглядывая под ноги, Иваныч стал спускаться к речке, где под деревом давным-давно они с отцом сделали родник и вкопали большую дубовую бочку, чтобы края не осыпались, и с той поры ручеек верно служит. Главное – вовремя чистить его. Бывало, заглянешь в родник, а стенки обросли зелёным мхом, дна не видно, где-то в глубине теряется. Зачерпнёшь водички, глотнёшь – аж зубы ломит, а потом присядешь возле него, прислонишься к дереву и слушаешь, как родник бормочет, про жизнь рассказывает…
– Иваныч, здоров был, – донёсся голос со стороны деревни. – Антон, погодь, куда разбежался-то…
Иваныч оглянулся. По меже неторопливо спускался сосед, Аким Давыдов. В ватнике, несмотря что уже тепло было, в кепке на глаза, один нос и широкие скулы виднеются, в растоптанных кирзовых сапогах и с ведром в руках. Догнал Иваныча, ткнул широкую мозолистую ладонь.
– Здоров будь, говорю, – опять сказал сосед и взглянул из-под фуражки. – Моя Натаха говорит, вы приехали. А я вышел, на крылечке постоял – тишина. Думал, пошутковала, а сейчас меня отправила на ваш родник – вода-то в нём вкуснее будет, чем в любом колодце. Выхожу, ты стоишь. Я что хотел-то… Скоро свой огород буду пахать. Насчет трактора договорился. По твоему пройтись, а?
– Конечно, что спрашивать-то, – сказал Иваныч и опёрся на перила небольших мостков. – Пройдись и комья разбей, чтобы сажать было полегче. И про бабу Анюту не забудь. Вспаши огород. Потом соберёмся, у неё картошку посадим. Поможем старухе. Может, внуки приедут. Быстро управимся.
– Ну, тогда с тебя пузырёк причитается, – сосед звонко щёлкнул по горлу. – Посидим возле речки, выпьем, по душам поговорим… О, ты слышал, что мой пацан учудил, а? – он встрепенулся и щелчком отправил фуражку на затылок. – Ну, оглоед! Вот вернётся из больницы, получит ремня!
И захохотал.
– Где бы услыхать, если час назад приехали, – засмеялся Иваныч, закурил и снова посмотрел на яркое небо. – Эх, хорошо как! Что у вас случилось?
Он проводил взглядом журавля, который медленно кружил над домами, словно искал кого-то, да не замечал его. Антон вздохнул и повернулся к соседу.
– Это… – сосед опять хохотнул. – Мой Петька с друзьями в райцентре были. Какой-то фильм показывали. Насмотрелись, как там ракушек едят, и мой пацан уговорил друзей, что нужно попробовать. Сам знаешь, сколько в нашей Ветвянке этого добра водится. И на прошлой неделе из дома прихватили картоху, хлеб и подались к заводине. Насобирали целую кучу ракушек. Решили, что можно в костре испечь вместе с картошкой. Ямку выкопали, туда высыпали, сверху картоху положили и развели костёр. Ну и того… Все наелись. Вдоволь! Мало того, ещё живых наглотались. Говорят, хотели послушать, как они в животе пищат. Ага, послушают, когда ремнём пройдусь по задницам. Ох, запищат! Так наелись, что некоторые по кустам домой добирались… Что говоришь? Как по кустам? А так, что изо всех дырок свистало. Ага… А к утру всех до единого увезли в райцентр. Андрей Шилов загрузил в кузов, моя жинка да его были сопровождающими – и так до больницы добрались. Наша фельдшерица аж расплакалась, не знала, что с ними делать. Отравились, засранцы! – он нахмурился, а потом снова расхохотался. – Ладно, до лягушек не добрались. Но думаю, попробуют – это точно. У меня пацан настырный! Сам таким же был. Видать, в меня пошёл…
И затрясся, хлопая по коленям.
Следом Иваныч засмеялся. Вспомнил, как в детстве сами эти ракушки пробовали и тоже по кустам неслись домой. Правда, в больницу не попали. Легко отделались…
Сосед набрал воды, немного постоял, покурил, а потом ушёл.
Иваныч остался на берегу речки. Давно не был. Соскучился. Присел на лавку, что стояла на краю обрыва, и задумался. Тропка с обрыва. Мостки стоят. Крепкие. Летом ребята купаются да изредка с мостков бельё полощут, а бывает, в бане напаришься, съедешь голышом на мостки, разбежишься и сиганёшь в воду. Ух, как хорошо! И снова в парилку мчишься. И так несколько раз, если рядом никого нет…
Он сидел и поглядывал вдаль. Что ни говори, а хорошо тут. Вон какие красоты вокруг! Речка глухо шумела, а вдали бормотал длинный перекат. Вроде недавно половодье было, а вода уже сошла. Взглянешь на склоны холмов, что на другой стороне, трава пожухлая, а всмотришься, кажется, чуточку зеленеет.
Солнце пригревает. Два-три дня пройдёт, и склоны не узнаешь, покроются зеленью: яркой, свежей, словно умытой. А чуть выше лес начинается. Ветви кустов и деревьев облеплены почками, а кое-где набухли. Лес ещё голый, а в некоторых местах, где солнце дольше задерживается, уже призрачно-зелёный – это начинают первые листочки проклёвываться. И отовсюду пенье птиц доносится. Радуются пичуги, что выжили в тяжёлую зиму, что вот она – весна пришла. Значит, жизнь продолжается…
Иваныч оглянулся, прищурился и посмотрел в сторону дома. На крыльце стояла жена и, заметив, что он повернулся, замахала рукой. Не крикнула, а просто помахала, чтобы возвращался.
Он поднялся. Ещё раз взглянул на речку, на лёгкие облака и голубое небо, где кружились журавушки, жмурясь от яркого солнца, он неторопливо направился по меже, что была между огородами. Приостановился, когда заметил под ногами небольшой лопушок. Достал перочинный нож, не торопясь выдернул корешок, поскоблил его и захрумкал, словно морковкой. У, как вкусно!
– А почему не крикнула? – Он открыл калитку и увидел, как жена подметала мусор чилиговым веником. – Я сидел, на речку да Колины березки засмотрелся. Хорошо здесь. Душа радуется.
– Тише, тише, – Валентина приложила палец к губам. – Бабушка Анютка задремала. Сидела, всё про внуков рассказывала, а потом притихла. Гляжу, в уголочке притулилась и спит. Не шуми. Вон, давай двор убирать.
Валентина сказала и снова взялась за уборку. В кучку соберёт мусор, подхватит лопатой и в старое корыто сваливает. Опять кучка – и снова в корыто, пока с верхом не наполнилось. Иваныч ухватился за верёвку и потащил на огород. Выкопал небольшую ямку, свалил туда мусор, поджёг, постоял, наблюдая, как огонь разгорался, а потом поспешил к жене. И снова мусор в корыто и на огород, до тех пор, пока двор в божеский вид не привели.
– А помнишь, Валь, как на корыте с горы катались? – он кивнул на пологий спуск к реке. – Эх, весело было!
– А ты ещё с обрыва улетел и чуть было в полынью на корыте не заскочил. Сам-то вывалился из корыта, а его утопил, – она засмеялась. – Мать нагоняй устроила. А мы уговаривали отца, брали сани, с девчонками набьёмся в них и летим с горы. Визг, писк! Аж дух захватывало, а потом облепим сани и толкаем наверх. И снова мчимся с горы…
В калитку громыхнули. Раздался громкий бас. Калитка заскрипела, и во двор заглянул здоровенный старик в пиджаке, широкие штаны с мотнёй до колен, бородища в пояс и фуражка на затылке. Приложив шишкастую ладонь к глазам, он стал всматриваться, а потом зашёл.
– О, и правда хозяева прибыли, – опять забасил он. – А я уж думал, что чужие забрались. Хотел выгнать. Валюшка, здрастуй! Антошка, паршивец этакий, здоров был!
– Тише говори, тише, – зашикала Валентина, оглянувшись на окна. – Не шуми, дед Павел. Здрасьте!
– А кто у вас спит? – старик дёрнул головой. – Вроде вдвоём приехали…
– Да баб Анютка пришла в гости и уснула, – кивнул Иваныч. – Старенькая… Как твои дела, дед Павел? Как баба Таня поживает?
– Мои дела, как сажа бела, – опять забасил старик. – А что баба Танька? Живёт, как у Христа за пазухой. Ага! Живём тихонечко, Антошка. Куда нам торопиться. Хотя давно уж в дорогу собрались, и вещички приготовили, а Боженька не хочет забирать. Видать, не все дела переделали. Видать, друг дружку поджидаем, чтобы вместе уйти. Вот и коптим небо, вот и колготимся…
– Ты прям как баб Анюта говоришь, – захмыкал Иваныч. – Живите, сколько свыше отпущено. Туда всегда успеем попасть, а здесь ещё дел невпроворот осталось.
– У стариков жизнь одинаковая и мысли в одну сторону шевелятся, – сказал дед Павел и махнул рукой. – Слышь, Антошка, я утречком на кладбище заходил. Ага… Скоро родительский день. Надо бы порядок навести. Я уж к другим заходил, всем сказал, чтобы собрались. Мусор нужно убрать, да старую траву сгрести и пожечь, а уж перед родителями каждый у своих могилки подправит. Сами не возьмёмся, за нас никто не сделает. Ага… А завтра с десяток яичек занесу. Мы-то с бабкой не едим, вот и раздаём, – и тут же перепрыгнул. – Как жизнь-то молодая? А что ребятишек не взяли? Чать, уже большенькими стали…
Иваныч переглянулся с женой и тихо засмеялся.
– Это… Дед Павел, наши ребятишки успели жениться и своих детишек нарожать, – хохотнул Иваныч. – А ты говоришь…
– Ох, как же так! И, правда, запамятовал. Ничего не поделаешь, годы своё берут, – развёл руками дед Павел, а потом погрозил пальцем-крючком. – И нечего смеяться над стариками! Вот доживёшь до моих лет, попомнишь меня. Ага… Ладно, к Макарычу схожу. Корова приболела. Пусть придёт, посмотрит. Он кумекает в этих делах.
И, бормоча под нос, захлопнул калитку.
А чуть погодя опять стукнули в калитку…
Давно ушла баба Анютка, а гости тянулись весь день. Так было всегда, когда они приезжали в деревню. Иваныч радовался, когда они приходили. Долгие неторопливые разговоры ни о чём, хотя, если взглянуть, успевали обо всём поговорить.
Все новости расскажут и выслушают: кто умер, кто родился, а тот женился, а она замуж вышла, а вон тот в город подался, но недолго был, опять вернулся, не прижился в этой городской жизни, не привык к суете, к людям, что ручейками-реками текут по улицам, к вечным заботам и лицам без улыбок, а там все хмурые, словно радость покинула их, ушла из этого города. И люди возвращались в Васильевку, где жизнь тяжелее, но люди добрее, где можно к любому зайти и тебе помогут. Так было, так всегда должно быть…
Вечером гости разошлись. Иваныч вышел за калитку, уселся на лавку возле забора и долго смотрел на сиреневую дымку, что расползалась по низинкам. Взглянул на тёмную синеву вечернего неба. Прислушался к птичьему гвалту в кустах – всё не угомонятся, всё нарадоваться не могут птахи, что весна пришла.
Иваныч сидел и старался не думать, что где-то далеко впереди осень, и они уедут в город, где опять будут ждать наступления весны, чтобы снова отправиться в родную Васильевку, по которой скучают, где все знают их, и они знают всех…
Скрипнула калитка. Вышла жена. Присела рядом на скамейку. Вздрогнула – зябко – и запахнула тёплую кофту. Вроде в апреле тепло, но вечерами прохладно. Они сидели и молчали. Смотрели на неторопливую, но такую милую сердцу деревенскую жизнь. Нравилось, когда к ним приходили гости. Они пили чай с карамельками, с вареньем и печеньками, все припасы выставляли на стол, какие были в доме, а потом вели долгие разговоры.
А когда гости расходились, Иваныч с женой выходили на крыльцо или садились на скамейку возле двора. Вот так, как сейчас. Сидели и молчали. Слушали тишину и смотрели на небо. Небо тёмное и глубокое, а по нему звёзды россыпью. Красота-то какая! И тишина вокруг: вязкая и звенящая. И в этой тишине где-то далеко замычала корова, а там гавкнула собака, следом залилась вторая, но тут же замолчали, а на том конце кто-то едва слышно запел тихим голосом.
Песня не современная, а старинная, раньше такую деды пели. И ему завторил тоненький голосок, и они затянули: неторопливо, протяжно, аж сердце в кулак сжимало, и душа радовалась. Господи, славно-то как!
Пробежал ветерок, и тут же пахнуло землёй, вечерней сыростью и влажной травой, а еще березовыми вениками – это потянул ветерок со стороны Колиных березок. И трава пробивается, уже запах есть. И всё, что сейчас окружало Иваныча с женой, – это было и останется для них более дорогим и милым сердцу, чем суетная городская жизнь.
Иваныч посмотрел по сторонам. Ночь на дворе. А завтра будет новый день и начнётся новая жизнь. Но сейчас они сидели на скамейке и молчали, а небо над ними было чистое, словно умытое, и звёзды по нему рассыпались, а ещё песня за душу брала и отовсюду запах земли…
Легко было на душе, покойно и радостно. Тишина…
И так будет всегда. Тянутся люди в родную деревню. Радуются, что приехали. Что здесь ждут их. Каждый год ждут, – всегда, а когда городские появляются, жители тянутся к ним. Соскучились. И будут разговоры до глубокой ночи. Обо всем будут говорить, всех вспоминать, кто в город перебрался, а кто вернулся, а того уже на мазарки снесли, и еще один журавушка закружился над Васильевкой. Все новости перескажут. И сидят, и радуются. Пусть чужие друг другу, зато души родственные…
…Уж который день сыпала холодная морось, скрывая округу в туманной дымке. Черные поля в пятнах грязного снега превратились в непролазные болота, где взгорок, там еще видна земля, а низинки заполнены жидкой холодной грязью вперемешку с талым снегом. Ни пройти, ни проехать…
– Скорее бы… – вздохнул усатый пожилой солдат, прислушиваясь к редким разрывам снарядов. – Уж надоело ждать. Который день не двигаемси. Раскиселило поля. Не пролезешь. А морось сееть и сееть. Вся одежка наскрозь промокла. Скорее бы…
Сказал, вздохнул и поник – взгляд в землю.
– Не боись, Мокеич, мы пролезем по грязи, потому что это наша земля, а фашисты застрянут. Знаешь, Мокеич, не торопись на тот свет, – хохотнул разбитной высоченный крепыш в драной телогрейке, из которой торчали клочья ваты, и в шапке, сдвинутой на затылок. – Как в атаку идти, весь изведешься и другим покоя не даешь. Лучше на меня глянь. Я вот не тороплюся, а потому что мне на том свете будет скучно. У меня же еще столько недоцелованных девок осталось, что просто не могу помереть раньше времени, покуда всех не переобнимаю, не потискаю…
Он зажмурился и мечтательно причмокнул толстыми губищами.
– Тьфу ты, охальник! – не удержался, сплюнул под ноги сосед, сидевший напротив пожилого солдата. – Ты, Мокеич, не слухай энтого обормота. У кого что, а вшивому баня, так и у нашего Петьки. О чем бы не вели разговоры, все к девкам сведеть, словно других делов нет. Одни бабы на уме. У, паршивец!
Он перехватил винтовку и погрозил кулаком.
– Да я не обращаю внимания, – сказал старый Мокеич, взглянул на темное низкое небо, по которому изредка пробегали всполохи от разрывов, прислушался к монотонному шороху мороси, к беспорядочной стрельбе со стороны фашистов, вздохнул и снова глаза в землю. – Он же молодой. Кровь играеть, вот и болтает что ни попадя. Мы такими же были. Помню, батя меня вожжами отходил, когда мать Нинки Антоновой пожаловалась, что застала меня на месте преступления, когда я за баней тискал ее дочку. Честно сказать, вовсе не тискал. Ну, раза два попыталси обнять, а ее матери во тьме предвиделось незнамо что. Вот и пожаловалась. Отец даже не стал разбиратьси. Сразу сдернул вожжи со стены. У, как всыпал мне – страсть! Я неделю на животе спал. Враз отучил. До самой свадьбы на девок не смотрел. Отца боялся. Жинку впервые на свадьбе чмокнул. И у нашего Петьки кровь молодая и дурная. Не успокоится, покуда не накобелитси, ежели раньше мужики ребра не пересчитають за дочек, – он вздохнул, помолчал, а потом продолжил: – Тут понимаешь, Федор Василич, какое дело… Ждать не люблю. Если в атаку, так сразу чтобы подняли нас и вперед на фашистов, и гнать их, сволочей, ни на минутку не останавливаясь, покуда последнего не прикончим. А ежели уготована судьбой поймать мне пулю аль осколок, пусть тоже сразу будеть. Ну, чтобы сам не мучился и других не мучил. Чмокнеть в лоб – и нет меня. Я заранее местечко для себя присматриваю, когда в атаку поднимають, – Мокеич чуток приподнялся, осторожно выглянул из окопа и ткнул пальцем. – Вот и сейчас… Ты, Федор Василич, видишь в отдалении небольшой лесок? Вон, березоньки растуть. Если мне уготовано пымать осколок аль пулю, средь березок схороните и на досточке напишите, что здесь лежить Порфирий Мокеич Лукин, а ниже добавьте, тока обязательно, что родом я из деревни Наумовка, которая подле города Стерлитамака находитси. Город непременного укажите и речку Ашкадар и Сухайлу, возле которых наша Наумовка стоить. По России таких Наумовок без счета. А тут сразу будеть понятно, что я лежу. Надёжи мало, что мои разыщут могилку, но всё же… И обязательно схороните под березками! Светлые они, чистые. Пусть над головой шумять. Не век же война будет длиться, когда-нить и мир наступит. И тогда, глядишь, какой-нибудь путник остановитси. Прочитаеть, что я здесь лежу. Глядишь, помянет. Ну, а не помянет, пусть просто посидит под березками. Отдохнеть в теньке, своих вспомнит, а потом дальше пойдет…
– Ну что торопишься-то, Порфирь Мокеич? Как начинается подготовка к атаке, так песню заводишь про свою пулю, – опять влез в разговор разбитной Петька и прихлопнул широченной ладонью шапку, которая едва держалась на затылке. – Твоя пуля тебя найдет, если на роду написано, можешь не беспокоиться. Она мимо не пролетит и в соседа не угодит. И не нужно её ждать, только душу травишь. А надо чтобы нежданно, чтобы раз – и всё тут. Ну, как я делал, покуда меня на фронт не отправили. К примеру, приглянулась девка. Я не жду под окошками и не кидаю камушки, вокруг не хожу и не вздыхаю, как другие делают. А увидел, она идет, подскакиваю и говорю: «Здрасьте вам!», сграбастаю в охапку девку, тока писк разносится, и тут же в щечку чмокну. А сам держу её. Крепко, чтобы не вырвалась! И она прям на глазах начинает таять. «Ах, Петюня, как же ты посмел без разрешениев обниматься, а тем более с поцелуйчиками лезть ко мне?» Вроде начнет совестить, а сама крепче прижимается. А что я? Тут разрешениев не треба, а нужна смелость и напор, вот как у меня, к примеру. Ага…
– Тьфу ты, пакостник! Гляди, Петруха, отцы-то быстро ребра пересчитают. Не поглядят, что вымахал оглобля оглоблей, вмиг юшкой зальешься, что девок позоришь, – опять чертыхнулся Федор Василич.
Солдаты, сидевшие в окопе, реготнули, но тут же притихли, когда в окопе появился командир взвода. Склонившись, он быстро добрался до них. Внимательно осмотрел всех. Взглядом нашел невысокого юркого Корнея Мохова и кивнул ему. Что-то шепнул, снова взглянул на солдат, нахмурился, когда они засмеялись. Выбравшись из окопа, они вместе с Корнеем Моховым поползли по раскисшему снегу. Останавливались, припадая к земле. Если раздавались автоматные или пулеметные очереди, они тут же скрывались в воронках и прислушивались к свисту пуль над головой, а потом снова ползли. И так, пока не прошмыгнули в крайнюю разбитую избу, стоявшую подле небольшого озерка.
Леонтий Шаргунов молчал, хмуро поглядывая на долговязого молодого солдата.
– Что хмуришься, Лень? – ткнули в бок. – Плюнь на его болтовню. У него еще ветер в башке гуляет. А что ты про свою жену не рассказываешь, аль еще не заимел?
– Есть жена, – покосился Леонтий. – Не люблю попусту языком молоть.
– А, понятно, – вздохнул сосед в окопе. – И я такой же…
– Гляньте, ребятки, уже в который раз наш-то командир в разведку полез, – чуть приподнявшись, сказал пожилой солдат. – Ох, отчаянный! Теперь будут вместе с Моховым за фашистами наблюдать. Не иначе, в атаку поднимемся. Эх, скорее бы война закончилась! Ведь весна же пришла. Землица стосковалась. Гляньте, грачи по полям вышагивают. И наплевать птицам, что война идет. Весна пришла, а с нею жизнь. Пахать-сеять нужно, а мужиков не хватает. Если вернусь домой, упаду на землю и буду обнимать её и ласкать, как бабу свою, а потом в поле подамся, буду хлебушек выращивать. Эх, жизня…
Он вздохнул. Вытащил кисет и задумался, вспоминая прошлую мирную жизнь и супругу свою, а потом опять завздыхал и стал сворачивать цигарку.
– Правду говоришь, Федор Василич, – закивал один из солдат, прислушиваясь к разговору, а потом взглянул в низкое небо. – Надысь был «Герасим-Грачевник». А значитца, весна пришла. Вон скока грачей прилетело, а ишо больше в пути находются. Россия-то большущая. Покуда они по всей стране разлетятся – это же скока времени требуется. Вот и летят, вот и несут на крыльях весну-то…
Сказал и завздыхал. Стосковался по мирной жизни.
И солдаты поднимали головы, всматриваясь в тяжелое темное небо, сплошь покрытое облаками.
Солдат, сидевший в обнимку с винтовкой, поднял голову. Прищурился, всматриваясь в небо, сбил шапку, приложил ладонь к уху, а потом вздохнул.
– Показалось, – опять завздыхал солдат, но продолжал смотреть на низкие облака и повторил: – Нет, видать, братцы, показалось…
– Что показалось, Леонтий? – Мокеич тоже задрал голову и принялся взглядом шарить по небу. – Неужто самолеты летять? Нет, кажись… Тока орудия бьють.
И снова взгляд на Леонтия.
– Жонка письмишко прислала, – помолчав, сказал Леонтий и принялся укутываться в шинель. – Зябко что-то… Жонка пишеть, журавушек много появилось. Как война началася, так и летят, так и курлыкают. Душу терзают…
Леонтий свернул цигарку и закурил.
– Правда твоя, Ленька, – закивал головой Федор Василич. – Курлыкают, за душу хватают. Дочка прислала весточку, тоже про журавушек пишет. Как весна – осень наступает, и откуда они берутся, летят и летят. Тока и поднимаешь голову в небо взглянуть, а там их тьма-тьмущая. И плачут с небес, и покоя не дают…
Он невольно взглянул в небо, словно хотел рассмотреть их – журавлей-то, а потом вздохнул – и взгляд в землю.
И солдаты взглянули, пытаясь увидеть журавушек.
– А у нас в деревне говорят, будто солдатские души в журавлей вселяются, – вскинулся один из пожилых солдат. – В наших краях никогда не было журавлей, а после Гражданской войны они появились. У нас в войну словно косой выкосили мужиков. Мало осталось, кто с Гражданской вернулся. Зато журавли появились. Много. Кружили над дворами, курлыкали, словно домой просились. Будто хотели сказать: «Что же вы взаперти сидите, откройте двери – это же мы, ваши отцы и сыновья, вернулись!» Вот с той поры у нас говорят, будто солдатские души в журавлей переселяются. Плачут они, в небо просятся, а потом торопятся домой. Так и живут погибшие рядышком с родными. С небес посматривают и курлыкают, весточку подают, что видят, что помнят… А сколько еще до конца войны журавлей с солдатскими душами появится – этого никто не знает. А сколько после войны будет, когда солдат начнут поминать. Войну не забудешь. Она с нами до последнего часа останется. Вот и получается, что и мы, когда помрем, журавушками в синь небесную подымемся. По всей земле-матушке разлетятся наши журавушки. Эх, жизня!..
И замолчал.
И другие молчали. Одни курили. Другие о чем-то думали. А третьи в небо смотрели. Наверное, хотели увидеть журавлей с солдатскими душами, а может, хотелось услышать курлыканье, что они домой возвращаются, в места родные…
– Наш взводный ишо молоденький, а сурьезный – страсть. Его хотели списать опосля контузии и ранения, а он уперси – нет и все тут, пойду фашистов бить. И настоял. Так и вернулси, – сказал Мокеич, выглянул из окопа, но взводного и Мохова Корнея не увидел, покачал головой и ткнул локтем солдата. – Угости табачком, Федор Василич, а в следующий раз мой покурим.
Они закурили и замолчали, каждый о чем-то задумался.
И солдаты, сидевшие в окопе, тоже продолжали молчать. Они прислушивались к разрывам снарядов да поглядывали на темные нависшие тучи.
– О, лупят и лупят, – прислушиваясь к редким одиночным залпам, не удержался и сказал разбитной Петька. – Слышь, братцы, а скока снарядов и патронов выпустили по фашистам? Да я знаю, что много. Наверное, со счета можно сбиться. Орудия лупят, а я пальцы не успеваю загибать. Так и бросил считать. Много и все тут! Я что хочу сказать, почему не придумают такие пули, чтобы, к примеру, стрельни в любую сторону, а она все равно найдет врага и попадет в него? Мы бы всех врагов перебили. А сейчас скока счетоводов нужно держать, чтобы пули да снаряды пересчитать? Замучаешься бумажки перекладывать. Эх, умишка не хватает мне, а то бы я хитрую пулю придумал. Вот ужо бы я тогда…
Он замолчал и зажмурился, мечтая, если бы и, правда, взял бы да придумал такие пули, чтобы сразу наповал разили всех фашистов и прихвостней, вот тогда бы… Петька вздохнул.
– Что болтаешь, Петруха! – хмуро сказал солдат, кутаясь в потрепанную шинель. – Неча языком зазря молоть. Лучше за собой смотри, сколько пуль в молоко пустил. Не суй нос, куда не просят, а то можно и потерять. Если не отстрелят, тогда… Ишь, хитрую пулю придумал бы! Там и без тебя есть кому бошку ломать…
Он неопределенно покрутил в воздухе рукой.
– Ты это что – пугаешь меня, да? – взвился крепкий Петька, но тут же враскоряк уселся на дно окопа, когда его дернули за полу драной фуфайки. – Ну-ка, пусти! Сейчас я ему…
– Что бошку-то под пули подставляешь, дурень? – со всех сторон загомонили солдаты. – И так мозгов не хватает, а тут бы фашисты последние вышибли. Они же не дураки. Враз бы решето сделали. Там же у них снайпер сидит, сволочуга. Спрятался среди кустов и лупит. Головы не дает поднять, а ты выстрочился. На те вам, какой я храбрый! Ага, велика фигура, да дура…
– А что он вздумал пугать меня, что нос прищемят? – снова стал заводиться Петька. – Видел я таких. Тоже мне, напугал ежа голым задом!..
И замолчал, когда ему в бок ширнули кулаком.
Где-то в стороне громко и разноголосо прозвучало «Ура!», протарахтела короткая очередь, за ней другая и вразнобой несколько винтовочных выстрелов. Со стороны немцев заполошно застрочили пулеметы. Видать, подумали, что начинается атака, но тут же затихли. Чуть погодя снова донеслись короткие очереди, и с той стороны озера заработали минометы.
– Гляньте, братцы, как фашистов выманивають, – ткнув корявым пальцем, ухмыльнулся Порфирий Мокеич. – Сейчас наши наблюдатели наставят крестиков, где пулеметы, минометы и орудия находются, разведчики вернутся, глядишь, языка приволокуть, в штабе обсудят и дадут команду из пушек стрелять, и куда только фашистские минометы разлетятся. Что ни говори, а у немцем нервишки стали шалить. Не то что в начале войны были. А сейчас разочек стрельнёшь, а они наугад всю обойму выпускають, да еще торопятси! Эть, дураки-то какие!
Он махнул рукой и снова захекал, прикрывая щербатый рот.
– Дураки или нет, а сколько наших полегло за годы войны – это не счесть! Скока журавушек отправились в дорогу дальнюю, душами солдатскими на родину полетели, – насупился и вздохнул Федор Василич, взглядом проводил взлетевшую ракету, прислушался к редким очередям и частым минометным обстрелам и опять завздыхал. – Видать, правда нужно к атаке готовиться. Не зря уж который день наши беспокоят фашистов, – и ткнул корявым пальцем. – Вон-вон, слышите? Ага, опять наш пулемет застрочил. И фашисты не удержались, вон как стараются, мины словно горох сыпятся. Что ни говори, а наши – молодцы, да еще какие! Вон, какую подготовку ведут. Я нынче видел Ивана Головина. Он шепнул, что скоро поднимемся. Большое наступление ожидается. Эх, да полетят журавушки ко родным местам. Эх, жизня!..
Сказал и вздохнул, зябко поводя плечами.
Солдаты невольно взглянули на низкие темные облака. Наверное, журавушек высматривали.
– Говорят, танки пойдут в наступление – это хорошо. Мы за ними пристроимся – это лучше, чем первыми быть, – кивнул Петька. – Такая силища попрет, все фашисты разбегутся. У, сволочуги!
И Петька погрозил кулачищем.
– А ты хотел впереди танков побежать? – громко зареготали солдаты и тут же притихли. – Представляем, как наш Петька, словно заяц, зигзагами в своей драной телогрейке несется быстрее танков. От такого вида все немцы будут драпать. Подумают, что русские новое оружие создали. А это наш Петруха несется. Хе-х! Ты бы, Петька, свою телогреечку подлатал. Хвастаешься, за девками ухлестываешь, а сам уж который день в драных подштанниках разгуливаешь. Не лето на дворе, так и причиндалы отморозить недолго. Что делать-то будешь, а?
И опять расхохотались, но тихонечко, чтобы не услышали.
– Что ржете, жеребцы? Застоялись, что ли? – опять взвился высокий нескладный Петька и поправил рваную телогрейку. – Это в прошлую атаку, когда высотку брали, всю телогрейку продырявило осколками. Как рвануло недалече, думал, что всё – хана пришла. В башке до сей поры мозги бултыхаются. Дым рассеялся, Иван Баргузин и Макар Еськов с Колькой Ершовым убитые лежат, которые вместе со мной бежали, а я весь целый, ни царапинки, а вся одежка в клочья, даже сапоги в двух местах зацепило. Видать, не мой снаряд прилетел. Да, Мокеич? Ты же главный мастак по своим пулям…
Сказал и хитровато покосился на пожилого усатого солдата.
– Не щерьси, охламон, – обнимая винтовку, заворчал Мокеич. – Тебя ничем не возьмешь. На штык напарывалси, чуть ли кишки по земле не волочил. Другой бы помер, а ты жив осталси. Вернулси из госпиталя, так словно шило в одно место сунули. Никакого покоя нет от тебя. Видать, в кишках что-то забыли в госпитале. Вот и свербить там, покоя не дает. И стреляли в тебя, даже на переправе умудрилси выплыть, когда рядом с плотом разорвалси снаряд. Плот в клочья! Все потонули, а Петька выбралси…
– Так это же… – кто-то из солдат реготнул. – Говорят, что оно не тонет, так и наш Петруха…
Не договорил. Петька не удержался и с размаху приложился широченной ладонью по каске. Солдата качнуло. Даже не качнуло, а у него словно ноги разъехались, и он лицом ткнулся в грязь. И тут солдаты не удержались, взглянув на него, когда он возился в жидкой грязи, пытаясь подняться. И расхохотались, медленно расползаясь по окопу.
– Я вижу, и ты не тонешь, – с ехидцей сказал Петька, но тут же ухватился за воротник и дернул солдата, поднимая с земли. – А в следующий раз могу и покрепче приложиться. Я бычка с ног валю, а ты, худосочный, от одной оплеухи из штанов выскочишь, – и тут же зажмурился. – Эх, помню, как однажды с Танькой Колесниковой вдоль речки гуляли, а навстречу нам…
– Ну вот, опять взялси за старое, – перебил Мокеич и чертыхнулся. – О чем бы ни говорил, все разговоры к девкам сведеть. Одна радость в жизни – бабы! Тьфу на тебя, срамник!
И сплюнул, а потом запахнул фуфайку и поежился – зябко.
– А что еще делать-то? – сказал Петька и снова мечтательно зажмурился. – Вот вернусь после войны и сразу женюсь, – он помолчал, нахмурился. – Нет, не сразу. Сначала наверстаю, что из-за войны не успел, а потом уж женюсь. И девку возьму тихую да работящую. Пусть не красавица, пусть. Главное, чтобы по душе пришлась. Эх, зажили бы с ней!
Вздохнул, нахмурился.
Молчали и солдаты. Каждый сидел и думал о своем. Может, семью вспоминали и родной дом, а может, думали про эту проклятущую войну и мечтали вернуться домой. Контуженными, израненными, без рук или ног, но вернуться. Ну, а если суждено погибнуть, так журавушки с душами солдатскими домой полетят. И закурлыкают они, заплачут. Наверное, так и будет…
– А у нашего комбата отец погиб, – неожиданно сказал Федор Василич. – Помните, пополнение подоспело, когда фашисты хотели прорваться под Ивановкой? Они в последний момент подоспели и их сразу же бросили в бой. Некогда было знакомиться, как наш взводный сказал. Сразу в бой! А потом, когда бой закончился, стали подсчитывать потери. Раненых в санбат или в госпиталь определили, а документы погибших понесли комбату. И тут выяснилось, что среди них был его отец. Вот так судьба распорядилась, что оба в одном бою находились и друг друга не увидели. Комбат почернел, когда взглянул на документы. Теперь всю жизнь будет корить себя, что отца не сберег. Эх, жизня…
Федор Василич вздохнул и ссутулился, опустив голову.
– Вот и еще один журавль понес солдатскую душу на родную сторонушку. Эх, война проклятущая! Сколько же еще таких журавушек отправится в родные места? Эх, жизня!.. – откуда-то со стороны донесся голос. – Ну, а если бы комбат знал, что батя прибыл, неужто бы отца в бой не пустил? При себе стал бы держать, да?
– Мы не знаем, что у комбата на уме, – пожал плечами Федор Василич. – Всё же отец, но в то же время он – солдат…
Замолчал и опять пожал плечами. Достал кисет. Неторопливо скрутил цигарку. Прикурил. Несколько раз затянулся и протянул Мокеичу.
– На, друг, покури, – глухо сказал он и прислушался к нарастающему гулу канонады. – О, наши лупят по фашистам – аж земля дрожит. А потом, наверное, и мы тронемся. Дело к этому идет…
И взглянул в темное небо.
– Скорее бы, – сказал Мокеич и, обжигаясь, торопливо стал затягиваться, а сам нет-нет, но поглядывал то в сторону леска, откуда доносился рокот танков, то в сторону немецких окоп, откуда слышны были разрывы снарядов, и взлетала черная земля вперемешку с комьями снега, почти незаметная на фоне темного низкого неба. – Не люблю ждать. Скорее бы…
Он повторил, покрутил в руке небольшой тлеющий окурок и сунул его Петьке, который стал быстро затягиваться едким дымом.
В окоп скатился взводный. Следом юркнул Корней Мохов, чуть было не свалился на спину Порфирия Мокеича. Чертыхнулся, подхватил упавший автомат и бросился к блиндажу. Взводный помотал головой. Схватился рукой за каску. Голова дергалась – это после контузии. Долго смотрел на солдат, сидевших в окопе, словно хотел что-то сказать или спросить, но не стал, а взглянул с недоумением на Петьку и следом рявкнул.
– Никандров, почему у старшины не заменил ватник? Сколько можно говорить, а?
Сказал, а взгляд колючий до озноба.
– Так это же… – Петька запнулся и развел руки в стороны. – Это… Я несколько померил, а рукава до локтей. Как же воевать-то буду? Старшина сказал, что подберет для меня и притащит. Видать, не может найти.
Сказал и снова развел руками.
Взводный нахмурился. Опять посмотрел на него. Скрипнул зубами. Погрозил кулаком. Поднял голову, взгляд в небо, а потом прислушался к гулу.
– Скоро в атаку двинем, – сказал он, и задергалась щека, в оскале открывая рот, и взводный тут же схватился за нее. – Петров, Шорсткин, не высовывайтесь. Отстрелят голову, как жить будете? А ты чего раскорячился посреди окопа? – он рявкнул на солдата, который сидел, что-то разыскивая в вещмешке. – Не на базаре сидишь. Сдвинься! Приготовьтесь, бойцы. После артподготовки пойдем. По сигналу красной ракеты поднимайтесь. И не высовывайтесь раньше времени, не подставляйтесь! В бою каждый солдат на вес золота. Кто видел, где расположился взвод Малинина, который на подмогу прислали? По левому краю, говорите?.. – он махнул рукой и заторопился в ту сторону, крикнув снова: – Готовьтесь к атаке, бойцы. Ждите ракету. Ждите!
И, продолжая скалиться, снова схватился за щеку и, пригибаясь, по окопу заторопился в сторону леска.
Из блиндажа выскользнул политрук. Двинулся вслед за взводным, но остановился возле солдат. Задумчиво взглянул, а потом улыбнулся.
– Ну, бойцы, держитесь, – хрипловато-простуженным голосом сказал он. – Прошло то время, когда мы отступали. Пора в обратную дорогу пускаться. Всё, ждите ракету. Теперь будем гнать фашистов с нашей земли-матушки. В шею гнать, чтобы никогда к нам не совались. Нас не победить, потому что мы…
И он замолчал, крепко сжал кулак и погрозил. Нахмурился, снова посмотрел на солдат и заторопился к другому взводу, который неподалеку от них расположился.
– Ну вот, снова ждать, – заворчал Мокеич, а сам невольно провел рукой по застегнутому ватнику, чуть сдвинул каску на глаза и застыл, прислушиваясь к разрывам снарядов, потом взглянул на березовую рощицу и не удержался, ткнул локтем. – Ты, Федор Василич, не забудь, о чем попросил тебя. Ежели встречусь со своей пулей, знаешь, что делать. Светлые березки, чистые…
И кивнул в сторону березового леска.
– Мы еще повоюем, – покосившись, медленно сказал Федор Василич. – Мне за сынков нужно рассчитаться. Журавушками домой вернулись. Мне никак нельзя помирать. Поклялся, до самого Берлина дойду, но отомщу за сыновей. Сполна, с лихвой рассчитаюсь.
Медленно говорил. Каждое слово словно камень ложилось на душу. Зубами заскрипел: громко, знобко – больно. И снова лицо в камень превратилось. А взгляд тяжелый и колючий…
Солдаты притихли. Редкий раз скажут что-нибудь – и снова тишина. Вроде спокойно сидят, а в то же время настороже, словно струны натянутые. Тронь – и зазвенят. Тронь – и сорвутся с места. И тогда…
И тут наступила тишина. Закончился артналет. Резко закончился, словно взяли и отключили орудия. И такая тишина настала, аж в ушах зазвенело. Солдаты подняли головы, всматриваясь в тусклое серо-черное небо, откуда донеслось курлыканье журавушек, которые заметались над округой. И тут прополосила ракета, взлетая ввысь, зависла на миг, и где-то там, возле облаков, расцвел ярко-красный цветок и стал медленно опускаться. Первыми пошли танки. А следом на краю окопа поднялся политрук во весь рост, замер на мгновение, взглянул на журавлиный клин над головой, окинул взглядом солдат, потом взмахнул рукой, и, перекрывая танковый гул, в воздухе разнесся протяжный хрипловато-простуженный голос:
– Батальо-он, в атаку!..
И поднялись солдаты в атаку, и, нарастая, над округой прокатилось:
– Ура-а!
А над полем боя закурлыкали журавушки…
Допоздна засиделись с Леонтием Шаргуновым и Васькой-трактористом на лавке возле дома. Дядька Ефим переделал всю работу на сегодня и даже больше задуманного успел. Устал. Руки-ноги затряслись. Вышел ко двору. На лавку уселся. Закурил, поглядывая по сторонам.
Не успел и пяти минут отдохнуть, соседка Марья подошла. На мужика жаловалась. Просила приструнить, а то в рюмку стал заглядывать. Умызнет с утра и шлается незнамо где, а воротится и на бровях. Едва в избу вползает. Ладно, в теплую погоду выпил и упал под кустом, а если зима будет и свалится, его же никто не заметит. Дом от дома – не докричишься. Все просила:
– Ты уж посовести его, дядька Ефим. Он послушает тебя.
Ефим кивнул, мол, ладно, вправлю мозги твоему оболтусу, и взглядом проводил журавлей, что плавно летели в сторону реки. Обрадовалась Марья, принялась рассказывать деревенские новости, но заметив, что дядька Ефим слушает вполуха, на полуслове замолчала, потопталась рядом с ним и помчалась домой.
Он глянул вслед. Повздыхал. И правда, нужно приструнить мужика. Нехорошо это. Мужик должен быть хозяином в доме, а не собирать рюмки по округе. Нахмурился. Собрался, посидел на крыльце, покурил, потом решил на лавку перебраться. Краешек солнца выглянул. Показалось, тепло стало. Погреться вздумал. И уселся. Курил. На деревню смотрел и прислушивался к курлыканью журавлей в небесах, и все старался рассмотреть их, но не получалось. И всякий раз что-нибудь да начинало душу тревожить…
– Здоров был, Ефим, – донесся голос, привычное скрип-шлеп, скрип-шлеп – уже понятно, что идет Николай Ерохин. – Вот молочка передала моя соседка, Танька Мануйлова, когда сказал, что к тебе собрался, а еще чуток сметанки положила. А что ты сидишь, о чем думы думаешь?
И осторожно присел рядом, вытягивая ногу с тяжелым деревянным протезом. Расстегнул ремни, чтобы нога отдохнула. И закурил. Запыхал папиросным дымом.
– А, Николай, здоров, коль не шутишь, – Ефим Фадеев ткнул широкую ладонь, здороваясь. – Спасибо передай Мануйловой. Хорошая баба. Всем помогает, – он помолчал, задумавшись. – Вышел ко двору подышать воздухом, будто за забором воздух иной. Уселся, смотрю на деревню, и мысли всякие в бошку лезут. Ни днем, ни ночью нет покоя от этих мыслей.
– Да, Фимка, чем старше становимся, тем больше мыслей в башке копошатся, – закивал головой Николай – Я тоже, как присяду на лавку аль улягусь спать, чего тока не передумаю за ночь. Да, кстати, сегодня ходил на Ветвянку. Возле креста посидел, твою Марийку повспоминал… – Николай Ерохин вздохнул. – Вернулся домой, рюмашку опрокинул. Помянул ее – Марийку-то…
– Мы состарились, а Марийка всё такой же молодой осталась, – завздыхал дядька Ефим. – Я тоже хожу к речке. Сяду на берегу, смотрю на воду, жизнь нашу с Марийкой вспоминаю. Пусть она была короткая, но она наша и ничья более. Сижу, вспоминаю, на воду гляжу, пытаюсь на себя посмотреть. И кажется мне… Нет, даже не сдается, а точно приметил, что река – это наша жизнь. Любая река, будь то Иртыш или Волга, Ока или Дон, наша Ветвянка или безымянная речка, у которой и названия нет, но все равно река – это наша жизнь от истока и до устья, от рождения и до смерти.
– О, куда тебя занесло! – хохотнул было старый Ерохин, а потом задумался. – А что, все может быть, все… Река берет начало из родничка, в ручеек превращаясь, и с каждым километром всё шире становится… И душа у каждой речки есть, такая же широкая и глубокая, а может, узкая и мелкая – это зависит от человека. И правда подметил ты, Ефим, словно про нашу жизнь говорится.
И снова задымил.
Затарахтел «Беларусь». Остановился неподалеку. Из кабины выбрался Васька, весь грязный, одежка колом стоит. Подошел к ним, вытирая измазанные руки. Поздоровался. Прикурить спросил у Ерохина. Выцарапал грязными пальцами папироску. Прикурил. И рядом с ними присел, слушая, о чем они разговаривают.
– Правду говорю, Николай, любые речки – это жизни людские, – словно не замечая Ваську-тракториста, сказал Ефим. – Не судьбы, а жизни. Сам подумай… От истока реки и до устья – это людская жизнь. Текут реки, а с ними рождаются и взрослеют люди.
– Гляди ж ты, а ведь точно подметил, – качнул головой Ерохин и ткнул локтем Ваську-тракториста. – Не беги по жизни, Васька, не лезь по головам. Все, что для тебя заложено в судьбе, все свершится в сроки, а не раньше и не позже. Не беги!
И снова ткнул локтем.
Васька промолчал. Он впервые видел, чтобы так долго разговаривал дядька Ефим. То, бывало, слово не вытянешь, а тут словно прорвало. И Васька притих, лишь бы не мешать ему. А слушал и слушал, о чем он говорит, и пытался запомнить, чтобы в свободную минуту посидеть и подумать над его словами…
– Но даже за такой короткий отрезок люди проживают долгую жизнь, – словно не замечая, сказал Ефим Фадеев. – У кого она светлая от рождения и казалось бы, что ей не будет конца и края. Человек живет и радуется. К примеру, взять тебя, Николай. Ты своего сына, Алешку, воспитал. Он стал военным. Письма пишет, приезжает. Глянешь на него, и душа радуется за вас, что хорошего парня вырастил, что в душу ему вложил зерна, а они крепкие дали всходы. Так было и так должно быть. Но есть и другие реки жизни – узкие и извилистые. Плывешь по ним и представления не имеешь, что ждет за поворотом, куда занесет эта река. Живет человек и не знает, что будет через год или два, а может, три или четыре. И куда унесет река жизни – никто не ведает…
Они долго просидели на лавке. В основном говорили дядька Ефим и Ерохин, а Васька молчал и слушал. Негоже молодым перебивать старших. И он сидел. Курил. Слушал и запоминал, что говорилось, чтобы потом, когда будет свободное время, он не один раз задумается над этими словами.
Давно уехал Васька. С утра ему на работу. Следом поднялся Николай Ерохин и закондылял, поскрипывая протезом. А дядька Ефим остался сидеть.
Ефим Фадеев немного посидел, прислушиваясь к ночной деревне, поднялся и тоже направился домой. Заскрипел половицами. На ощупь нашел ведро с водой, ковшик. Налил воды и гулко стал пить. Острый кадык ходуном заходил на тонкой морщинистой шее. Выпил. Утерся ладонью. Постоял, посматривая в темное окно, а потом снова вернулся и улегся на старую скрипучую кровать. И опять мысли закружились в голове, и снова закрутился калейдоскоп воспоминаний…
В дверь стукнули. Коротко и сильно, по-свойски. Пал Иваныч вздрогнул и оглянулся.
– Иваныч, ты дома? – Дверь распахнулась, и в квартиру зашел сосед в линялом трико, которое едва держалось на нем, в голубой застиранной майке и с баночкой в руках. – Пал Ваныч, одолжи соль. Моя Надюха фарш крутит. Решили пельмешки настряпать. Дочка обещала прийти. Сунулись, а соли кот наплакал. Вот она и отправила к тебе. Говорит, Иваныч запасливый мужик. Всё есть, а соль тем более, – замолчал, взглянув на сумку, потом снова взгляд на соседа. – Ты, что ли, куда собрался? Никому не говорил, а сейчас уезжаешь. Что-то случилось, Ваныч?
– Случилось, – буркнул Пал Иваныч, но особо не стал распространяться. – Ночами не сплю. Вот съезжу, погляжу, что со мной будет.
– Заболел, что ли? – удивленно посмотрел сосед. – А по тебе не скажешь…
– Заболел, – буркнул Пал Ваныч и ткнул пальцем. – Сам возьми соль. Там, на кухне.
Оглядываясь на сидевшего Пал Ваныча, сосед взял соль и молчком вышел, прикрыв дверь.
Павел завздыхал, потоптался и присел, осматривая холостяцкую квартиру. Окинул взглядом – все ли окна закрыты, невольно вытянул шею, пытаясь заглянуть в кухню, повернул ли кран на газовой трубе, и прислушался, не шумит ли вода.
Поднялся. Опять вздохнул, словно уезжал на долгое время, хотя намеревался вернуться дня через три-четыре – это крайний срок, а в лучшем случае хотел управиться за день-другой. Поднял сумку, вышел, закрыл замок на два оборота и стал спускаться по лестнице.
Он решил съездить в родную Васильевку, где не был лет двадцать, а может, и поболее того. Последний раз приезжал, чтобы с родителями попрощаться.
Они на старости лет надумали к младшему сыну перебраться. Давно велись разговоры, но как-то отрывками, а может, Павел не прислушивался, мимо ушей пропускал. Павел думал, что они просто мечтают, как мечтают все люди, чтобы бросить все дела и уехать на край света и зажить как в сказке. Ан нет, не мечтали – эти разговоры правдой оказалось. Сказали, словно точку поставили, и стали собираться в дорогу. Что можно, продали, что-то раздали, но всю обстановку в доме оставили. Так, на всякий случай…
Теперь в Васильевке никого из близких родных не осталось, чтобы вот так приехать и остаться на день-другой. И поэтому Павел перестал ездить в деревню. Не к кому, да и незачем…
Павел вздохнул, вспоминая Васильевку. Многие из ребят, кто уезжал учиться, отслужв в армии, не возвращались в родные деревни. И получалось, а может, так и должно быть в этом мире, что на первом месте была своя семья, а родители и родной дом, где они родились, откуда выпорхнули в новую жизнь, – это уже дело десятое.
Да, скорее всего, так и есть. А получится ли вернуться туда, где мать с отцом, бабка с дедом, где дом родной и березка под окнами, которую вместе с батей сажали, где журавушки кружатся над округой и курлыкают, тревожат душу, и болит она, ноет, покоя не дает. Получится ли вернуться – неизвестно…
Младший братишка Васька решил остаться там, где служил. Жизнь понравилась на берегах великой реки, про которую песни слагали, а он, редкий раз приезжая в деревню, хвастался фотографиями своего домика на окраине старинного городка, чуть ли не на берегу реки. Спокойная размеренная жизнь, никакой суеты, и люди приветливые. Живи и радуйся.
Васька остался в тех краях. Женился. Ребятишки пошли. Работа хорошая. Живешь, как на курорте отдыхаешь. А что жена? Моя благоверная самая что ни на есть наилучшая, которая будет родителей любить и почитать.
И получилось, что из всех детей, а в семье было пятеро сыновей, родители выбрали младшенького. Последышек всегда роднее, чем другие дети. Можно было в деревне докуковать свой век, но колхоз развалился, работы не было, даже в магазин приходилось тащиться в соседнее село.
Вот так местные жители стали потихонечку уезжать из деревни. Одни продавали свои дома, а другим приходилось бросать. Некоторые уезжали, не задумываясь, потому что надеялись на завтрашнюю светлую жизнь, а иным горько было расставаться с родными местами, но никуда не денешься, нужно устраивать свою жизнь.
И родители Павла уехали, а дом оставили сыновьям. Сказали, двери дома для всех открыты. Живите, сколько душе угодно. Ну, а кто вздумает вернуться, тому и дом достанется. Правда, дом – это громко сказано. Изба. Пусть не старая, но уже далеко не новая. Там прошло детство, там они в школе учились.
Павел, а следом за ним и братья перебрались в город. И началась жизнь, как у многих. Павел отучился в училище и поступил в техникум, а после защиты диплома по распределению попал на завод. Потом была армия. И, демобилизовавшись, он поехал не в деревню, где ждали родители, а вернулся в город и снова пришел на свой завод. Жизнь вошла в свое русло. Незаметно стала стираться деревня из памяти.
У него не было тяги к родному дому, не было тоски по родному дому. Может потому, что уехал рано и сразу вписался в городскую жизнь, которая стала для него куда ближе, чем деревенская.
Он не забывал родителей, изредка ездил в деревню. Женился. Родился сын. Павел стал брать сынка с собой, чтобы свежим воздухом подышал, молочка парного попил, фрукты-ягоды покушал. Жена отмахивалась от деревни. Всегда занята, всегда времени не было. И оставалась дома. А потом все рухнуло. Павел не знал, что сыграло, но однажды жена собрала вещи и ушла.
Свою первую любовь встретила. Снова искра пробежала между ними, да такая, что пламенем полыхнула. Она бросила мужа и сына, и укатила с этой первой любовью на край света. И пропала. Ни одной весточки от нее не получил. Ни разу не поинтересовалась сыном. Видать, первая любовь затмила собою всё, даже чувство материнской любви.
По-чёрному запил Павел. Не то что с горя, от обиды запил. Всё для жены делал, чуть ли не на руках носил, не пьянствовал и не буянил, как другие, а она подхватилась и умчалась со своим ухажером.
Когда приезжал в деревню, отец пытался поговорить с сыном, когда он запил, а потом махнул рукой. Сказал, что шелуха сама отпадет и Пашка вернется к нормальной жизни. И правда, он пить бросил, но глубоко внутри обида осталась.
Возненавидел всех баб. Но пришлось спрятать её – эту обиду, когда на маленького сына посмотрел. Ну и ладно, пусть укатила, а сын-то с ним остался, решил Павел. Нужно было его воспитывать, на ноги ставить. Это бабе привычнее, а мужику – ох, как тяжело воспитывать ребенка! Особенно первые годы, но потом втянулся.
Были женщины, а как без них-то? Он не монах, чтобы до конца дней поститься. Были. Всякие. И сами приходили, и он ходил в гости. А некоторые хотели замуж выйти за него. Ну и что, что с ребенком, зато мужик серьезный и тем более с квартирой – чем не жених. Они хотели, а Павел руками-ногами отмахивался от этой женитьбы. Достаточно одного раза. Вдоволь нажился. И отмахивался от невест, как от мух назойливых.
Павел спозаранку приехал на вокзал. Сразу в кассу сунулся, пока народу маловато было. Взял билет. Вышел на улицу и присел возле киоска на лавку. Киоск еще закрыт. За стеклом пусто. Две-три газеты виднеются, стоит тарелка на виду – и всё на этом. Напротив еще один киоск. Газетный. Свежая пресса. Правда, свежей не пахнет. Некоторые газеты пожелтели, а на других видны пятна, но всё равно продают. И люди берут, лишь бы скоротать время до отъезда…
Донесся невнятный голос из громкоговорителя. Пассажиры заволновались, а некоторые поднялись, подхватили поклажу и заторопились к автобусу, стоявшему в конце перрона. Павел проводил взглядом пассажиров. Поерзал на неудобной скамейке. Нахмурился. Поднял сумку. Расстегнул и заглянул внутрь. Слава богу, не забыл сунуть сверток с бутербродами. Испугался, что на столе оставил.
Всё началось после снов, которые стали одолевать Павла, когда его отправили на пенсию. Покоя не стало от них. Пока работал, отвлекался: сутолока, постоянно с людьми, день пролетит – и не замечал, а возвращался домой, на душе становилось привычно тоскливо, и ждал ночь, чтобы побыстрее завалиться спать. Ухайдокается за день, не успеет к подушке прислониться, уже цветные пятна закрутились перед глазами. Вроде что-то снится, а утром поднимется и ничего не помнит.
А потом он затосковал, когда сына в армию забрали. Ждал, что он вернется из армии и всё веселее будет, а сынок, охламон этакий, долго скрывал, что не собирается возвращаться в родной дом. Письма присылал, что остался на сверхсрочную службу, а сам демобилизовался и остался жить там, где служил. Писал, что на работу устроился. Встретил девчонку. Недолго гулял. Женился. Свадьбу не играли. Просто расписались – и всё на этом. Пока в общаге поживут. К весне обещают комнату выделить.
Павел аж подпрыгнул, когда письмо прочитал. Обманул, засранец! Отца родного не послушал и женился! Ах, ты, так, так и еще разэтак! Гром и молнии метал.
Ругался не из-за того, что сын в родной дом не вернется, а обманул его и женился, что рано хомут одел, но в душе-то другого опасался. Боялся, что сын пойдет по его стопам. Он никогда не рассказывал сыну про его мать. Не хотел травмировать неокрепшую душу ребенка, а потом, когда сын вырос, вопрос отпал. Может, сам сынок догадался, а может, кто-нибудь правду рассказал.
Павел боялся, что сын не успеет нажиться, как жена вильнет хвостом, как и его мать, смоется с каким-нибудь ухажером. Боялся, что сын наступит на те же грабли. Написал ему, чтобы приехал с женой. Посмотреть и понять намеревался, что за девка вскружила голову сыну.
Вскоре они приехали. Девка как девка. Ничего примечательного. Маленькая, худенькая, да еще конопатая в придачу. На улице встретишь и мимо пройдешь. Замухрышка, одним словом. Павел бы мимо нее прошел, а сын налюбоваться не может.
Видать, что-то в ней было, чего Павел не увидел или не успел заметить, потому что недолго они пробыли в гостях. Сноха лаской брала – папа, папулечка, для вас гостинчики привезли, а вот рубашечку купили, примерьте, а он хмурился, ворчал и близко не подпускал. Всё на сына обижался, что обманул его и женился, но придет время, будет локти кусать.
Вскоре они уехали, но обещали, что станут навещать, но возвращаться в родной дом сын не захотел. Сказал, что там ему лучше живется. И дом есть, и семья появилась. А потом шепнул отцу, мол, пора бы и тебе жениться, ты ж еще не старый. Хохотнул, глядя на обескураженного отца. И уехал.
Павел так и остался бобылем. Хоть частенько вспоминал слова сына о женитьбе. Ему не хотелось приводить новую жену в родной дом. Привык к одиночеству. И казалось, что женщина в доме – это лишнее. Сам в силах за порядком следить да поесть приготовить, а чтобы каждый день перед глазами маячила чужая женщина – нет, и не дай бог начнет командовать – этого он уже не выдержит. Ладно, пришла в гости, посидели, выпили, шуры-муры, а утром ушла, и он забыл про нее. И так до следующего раза. Правда, чаще сам старался ходить. Так и жил затворником.
Сын три раза приезжал. Уже дедом его сделали. Две звезды на погоны получил. Павел радовался, чего греха таить, но в глубине души боялся, что спугнет эту радость и сын пойдет по его стопам. Очень боялся! Пусть живут, пусть! Ничего не стану говорить, не буду советы давать.
А старость незаметно подступила. Не успел оглянуться, на пенсию отправили. Вроде бы работай да работай еще, в душе молодым чувствовал себя, но время подошло, и сказали, мол, пора, дорогой Павел Иванович, место освобождать для новой смены, пора на заслуженный отдых отправляться.
И правда, Павел никогда не думал, что у человека может быть столько свободного времени… Теперь не нужно торопиться на завод, куда ни свет ни заря поднимался и тащился в любую погоду. Всё, теперь можно лежать и поплевывать в потолок. Даже зарплату, как он назвал пенсию, будут домой приносить. Месяц провалялся на диване, а тебе еще за это деньги платят.
Не жизнь, а малина! Но вскоре эта жизнь стало угнетать Павла. Привык, что всю свою жизнь работал, что нужен был, пусть не всем, но многим – этакий винтик в большом механизме, а тут взяли и отправили на пенсию. Первые дни отдыхал, можно сказать. Отсыпался. До обеда в кровати валялся, газеты почитывал или телевизор смотрел…
Автобус гремел разболтанными дверками. В салоне пахло бензином. Было прохладно. Пассажиров мало. Но Павел знал, что по дороге автобус начнет притормаживать возле каждой деревни, и в салоне станет тесно. Многие ехали с сумками и узлами. Дорога дальняя, чтобы скоротать время, начинаются долгие дорожные разговоры ни о чем, а если прислушаться, в основном говорили о жизни. У каждого находились истории, которыми они делились. И поэтому долгая дорога казалась всегда короткой.
И опять Павел вернулся к своим снам. Одолели в последнее время. Никогда не тянуло его в деревню, уж думать-то забыл про неё, а гляди ж ты, снится и снится она. Даже странно это. Раньше были сны, но какие-то расплывчатые, неясные. Мелькнут, а поднимешься – и не можешь вспомнить. Так, всякая ерунда снилась…
А теперь измучился. Почти всю жизнь в городе прожил. Ну, родился в деревне и первые годы провел там, а потом умотал в город и выбросил из головы эту Васильевку и деревенскую жизнь, потому что у него началась своя жизнь – городская, в которой места не оказалось для села. Не зря же говорят, что человек ищет где лучше…
К примеру, взять родителей. Они тоже родились в деревне и до самой старости прожили в Васильевке, но пришло время, бросили дом и хозяйство и подались к сыну. Значит, не держала их деревня. Родители обратно не вернулись.
И Павел вздохнул, вспоминая свою Васильевку…
Его словно магнитом притягивало к этой малой родине, где прожил-то всего ничего. Днем отвлекался за повседневными заботами-хлопотами, а вот ночами хоть глаза не закрывай. Не успеет уснуть, а Васильевка перед глазами. Картинки из детства появлялись. Уж забыл ребят, а во сне всех по именам вспоминал. На речку Ветвянку бегали. Там дерево было, склоненное к воде. С него ныряли. С весны и до осени купались. Играли на берегу, а потом рыбачили. А журавлей столько было в округе, что диву давались. А потом батя рассказал, что души погибших солдат в журавушек переселяются. И летят они во родные края, и курлыкают над домами, словно просили, что эхто они – отцы и сыновья вернулись с поля боя. И кружили над ними, и курлыкали. И оставались жить мертвые рядом с живыми. Павел думал, что отец обманывает, сказки рассказывает, а присмотрелся – и правда, кружат птицы над домами и курлыкают, словно рахговаривают, да не каждый понимал их…
Ребятни много было в деревне. Вечерами домой не загнать. И всё это стало приходить во снах. А бывало, утром проснется, а в голове еще сон плавает. Понимал, что на кровати лежит, даже рукой за одеяло хватался, но в то же время казалось, что находится в деревне и сейчас донесутся голоса друзей, и они куда-нибудь помчатся. И всё это было таким явственным, что протяни руку, и ты окажешься в прошлом.
Это пугало его, но в то же время притягивало. Хотелось помчаться на вокзал, взять билет и отправиться в деревню, где его ждут родители и братья. А потом сердце словно в кулак сжимало, а родителей-то давно уж нет, и братья разлетелись, и никто не вернулся в опустевший родной дом, все забыли о нем, как забыл и Павел. Дом, от которого одни развалины остались…
Да, так и есть – самые настоящие развалины. Даже не руины, а головешки. Это средний брат постарался. Выпивать стал. А где пьянка, там никакой жизни не будет, семейной тем более. Всё было: работа, семья, жена и дети. Живи и радуйся!
А он стал в рюмку заглядывать. Человек чем старше, тем мудрее становится, а он покатился по наклонной. Давно дети выросли. Уже своими семьями живут. Живи и радуйся, а он запил и с каждым днем всё чаще и чаще стал в рюмку заглядывать. Жена с детьми пыталась ему помочь, а его не остановить. Стал руки распускать. И жена не выдержала, ушла.
Он стал кочевать от брата к брату. Вспомнил, что братья есть. У одного пожил. В душу нагадил. У другого побыл – и тоже со скандалом его выпроводили.
А Павел не стал дожидаться. Сгрёб его в охапку и в Васильевку увез. Немного навел порядок в родительском доме и оставил жить там. Все вздохнули с облегчением. Думали, пристроили брата.
Ан нет, радость была недолгой. Уснул с папироской. Пьяный был. Так полыхнуло, даже соседний дом сгорел. Ладно, в нем никто не жил. А он, сволочь этакий, успел выскочить. В чем был, в том и смотался. А куда – никто не знает. Видели, что он на попутку садился. Сколько искали, но бесполезно. Может, где-нибудь пристроился и живет, а может, давно на свете нет.
Да, многое приходило в сновидениях. Словно опять в детство возвращался, и снова начиналась жизнь по второму кругу. И ведь, зараза, всплывает такое, о чем уж давно забыл, а тут приснится.
Павел взглянул в окно автобуса. Почти полдень, а они еще не добрались. Дорога в колдобинах. Лето дождливое. Машины всю дорогу поразбивали. Автобус ехал медленно. Если встанет по дороге, потом не доберешься. Попутки то и дело шныряют, но не останавливаются. Пролетят мимо, обдадут потоком воды из лужи, и пока приходишь в себя после грязного душа, их уже след простыл. Автобус неторопливо объезжал рытвины, притормаживал, а потом медленно набирал скорость, чтобы снова перед возникшей ямой притормозить. И так всю дорогу. Он запахнул куртку, прислонился к окну и закрыл глаза.
– Павлик, Пашка, поднимайся, пора домой, – едва слышно раздался над ухом голос отца. – Скоро солнце встанет, а ты дрыхнешь.
И хрипловатый смешок донесся.
Павел вскинулся и вздрогнул. Оглянулся и нахмурился. Видать, задремал в автобусе. Гляди ж ты, даже здесь приснилось, как ходили с отцом на рыбалку. Бывало, с вечера отец брался за дела. Павел помогал ему. Изо всех сил старался. По пятам за отцом ходил. Всё делать приходилось. И навоз убирали, на старом корыте за сарай вывозили и в кучу укладывали. Забор подправляли, и песок возили, глину из оврага привозили. Нужно баньку подмазать да печка местами облетела, тоже мазануть нужно, а еще…
Они отправлялись на рыбалку, когда солнце скрывалось за горой. Брали узелок с едой – это на всякий случай, бутылку молока, Павел прихватывал пук удилишек, через плечо вешал брезентовый подсумок с крючками, леской и всякой мелочевкой, без которой не обойтись на рыбалке.
Набрасывали на плечи старые фуфайки, чтобы ночью не замерзнуть, и неторопливо спускались по меже между огородами к речке. И Павел неторопливо шагал рядом с отцом, с гордостью поглядывая по сторонам. А как же! Он же с батей на рыбалку отправился! Редкий мальчишка мог похвастаться этим. Весь вечер готовились, а еще всю ночь будут сидеть. И сидели. На берегу, отец разводил костер. Костер на рыбалке – это первое дело, как он говорил. Дрова всегда под рукой были. Разведет. Рогульки воткнет. Котелок повесит. А как без ухи на рыбалке? Нельзя! Пока было светло, налавливали мелочевки: плотвичек, окунишек да верховок. Отец чистил рыбу, чуточку картошки, лук и прочую мелочь. Он не торопился. Словно специально время тянул, а Павлу было невтерпеж. Подгонял батю. Главное – это не количество пойманной рыбы, а ожидание возле костра.
Отец садился на камень, доставал папиросы, исподтишка посмеиваясь над ерзающим сыном. Закуривал. И, выждав долгую паузу, начинал о чем-нибудь рассказывать, а Павел пристраивался возле костра, обхватывал руками колени и застывал, слушая отцовские рассказы. А бывало, не дожидался ухи и не замечал, как засыпал на берегу.
Утром, едва начинало светать, отец поднимал его, ставил перед ним кружку с пахучим чаем, совал в руки лепешку, испеченную матерью, а потом, дождавшись, когда он съест, протягивал кукан с пойманной рыбой, какую успевал наловить, пока Павел спал, сам подхватывал котелок с ухой, и они возвращались домой…
И вот такая ничего не значащая мелочь стала донимать его ночами. Ну что такого в этой рыбалке? Не счесть, сколько раз ездил с друзьями по рыбалкам за долгую жизнь. Везде побывал. На реках ловил, на озерах, даже на море рыбачил. Казалось бы, привык, а простая удочка с пробковым поплавком из детства покоя не дает. Он уж думать забыл про нее, а она приходит во сне и бередит душу своими воспоминаниями. И на душе становилось как-то неспокойно, что ли… Утром глаза откроет, а сам еще в снах находится, и опять всплывают картинки далекого прошлого, и снова начинала болеть душа…
И еще припомнилось. Однажды отец, возвращаясь с рыбалки, остановился в кустах и приложил палец к губам, мол, молчи и слушай. Павел остановился. Завертел головой. Сначала не понял, что слушать-то, а потом отовсюду стали доноситься соловьиные трели. Да так громко, столько много, аж казалось, уши заложило.
А отец поманил за собой и кивнул, мол, смотри на траву. Первые лучи легли на траву, и она засверкала всеми цветами радуги, а на ней застыли журавушки. Там и сям они виднелись словно изваяния. И Павел стоял, опасаясь шагнуть вперед. Казалось, сделай шаг, и вся прелесть утреннего рассвета пропадет. Но отец снова подтолкнул и кивнул, пора домой. И они зашагали по узкой тропке, стараясь не задевать траву, на которой лежали драгоценные росные россыпи…
Да, сны постоянно возвращали его в прошлое. Туда, где были родители и дом, где его ждали. Да, ждали, а он уехал и голову не ломал, как там деревня поживает. Не прирос к ней душой, чужой казалась, когда приезжал на выходные или в отпуск, и всё торопился обратно в город, который стал для него куда ближе, чем родная деревня. И уезжал. Автобус не успеет отъехать от остановки, а он уже мыслями в городе. По нему скучал больше, чем по Васильевке и родителям.
Автобус притормозил. Громыхнули дверцы. Кто-то прошел по салону. Взревел мотор, и автобус дернулся раз-другой. Павел, задумавшись, взглянул в окно, с недоумением посмотрел на старую облезшую остановку, потом встрепенулся. Вскочил. Подхватил сумку и заторопился к выходу.
– Эй-эй, подождите! – невольно вскрикнул он, когда шофёр нажал на газ. – Задумался, чуть было мимо деревни не проехал.
– А мы всю жизнь мимо проскакиваем, – кто-то сказал в автобусе. – Не думаем о тех, кого оставляем, а мчимся вперед, лишь потом понимаем, когда теряем.
Он остался стоять на обочине. Взглянул вслед автобусу, который взобрался на небольшой холм, кому-то посигналил и исчез, направившись по маршруту. Загавкала собака, невесть откуда выскользнувшая. Бросилась под ноги Павлу, но тут же отскочила, едва он замахнулся на нее, и снова гавкнула, а потом неторопливо затрусила по обочине. Выполнила свою работу – и теперь можно спокойно бежать по своим собачьим делам.
Павел смотрел по сторонам. Казалось бы, радоваться нужно, наконец-то приехал в родную деревню, в которой столько лет не был, а на душе камень появился. Он еще в автобусе почувствовал. Едва отъехали от города, и стало тоскливо, на душе тяжесть появилась. Чем ближе подъезжали к Васильевке, тем тяжелее груз становился. А сколько в деревню рвался. Наконец-то приехал, а зачем и для чего – он не понимал.
Не нужно было ворошить прошлое, потому что никогда не знаешь, какие сюрпризы тебя ожидают. А прошлое в сновидениях к нему пришло и растревожило душу, затеребило. И Павел не удержался и помчался сюда, чтобы посмотреть на деревню и постараться заглянуть в свою душу и понять, почему она рвется сюда.
Деревня расположена на пологих холмах. Редкие дома разбросаны по склонам. Огороды спускались к речке Ветвянке, упираясь в обрывистый берег, заросший кустарником. И возле каждого огорода были тропки к воде. Интересно, а если пройти берегом, можно попасть на место, где рыбачили с отцом? Павел пожал плечами. Слишком долго его не было.
Павел топтался, озираясь. Не знал, куда направиться. Взглянул на солнце. Долго добирались. Уж давно на вторую половину дня перевалило. Не успеет оглянуться, как вечер настанет.
У кого бы на ночлег остановиться? Павел опять стал озираться. Тишина. Редкий раз донесется шум машины, послышался собачий лай и следом мукнула корова. Павел посмотрел на редкие дома, разбросанные по склонам холмов. Раньше плотно стояли, а сейчас словно стариковские зубы – два покосились, один шатается, и три пенька-фундамента видны – это и есть сегодняшние, забытые богом и людьми, деревни.
Павел вздохнул. Подхватил сумку и неторопливо направился по обочине в сторону домов. Шагал, с любопытством посматривая по сторонам. Изменилась Васильевка. Сильно! А если вспомнить детство, вообще не узнать деревню. Это она раньше была деревней, а сейчас превратилась в деревушку.
Деревушка-старушка, лучше так назвать. И жители, наверное, такие же. Старики да старухи остались, а те, кто помоложе, по городам разъехались. Одним захотелось легкой жизни, а другие от трудностей бежали. И он уехал. Жалеет? Не задумывался… Павел пожал плечами. Некогда было думать.
В молодости казалось, словно на свободу вырвался. После деревни и редких поездок в райцентр он оказался в огромном городе с новыми друзьями, он всё больше отдалялся от родной деревни. Ей как-то места не нашлось в его душе. И он старался не вспоминать про нее, тем более не говорить, где родился, когда у него спрашивали. Стеснялся что ли…
Павел чертыхнулся, думая про жизнь. Вот уж радость великая, что сидит дома и никуда носа не кажет. Ездить некуда. Братьев много, а общение к письмам и открыткам сводится. Привет, брат! Привет! Как дела? Всё нормально. А у тебя? Тоже пойдет. Вот и ладушки. Вот и вся переписка.
На пенсию вышел, и друзья незаметно стали исчезать. Вот и получилось, что в конце жизни остался один и не знает, чем заняться. День прошел – он радуется. А ночью закроет глаза – и снова деревня напоминает о себе. Поднимется и курит одну за другой. И так до утра мается со своим одиночеством и снами.
Павел приостановился и закурил. И правда, как-то не заметил, что жизнь пролетела. Павел остановился. Некуда торопиться. Вот она – деревня, и он здесь же. Павел закурил. Отошел на обочину, заросшую травой. Поставил сумку. Рядом присел. Курил, посматривая по сторонам, где-то в вышине курлыкали журавли, и сразу же припомнился рассказ отца про солдатские души, что переселялись в журавлей и летели они к родным домам, и курлыкали протяжно и печально. Гляди же ты, и сейчас они курлыкают. И Павел задрал голову, пытаясь рассмотреть журавлей. Иногда хмурился, но чаще задумчиво смотрел на деревню. Вернее на то, что осталось от некогда большой деревни. Здесь дом. Там дом. А тут печная труба видна, а вон там крыша провалилась и только стропила заметны среди кустов. А здесь вообще несколько домов, как корова языком слизнула.
Правда, деревня стала похожа на стариковские зубы. Если ночью пройти по деревне, можно заблудиться. Кусты и березы заполонили округу. Раньше березки возле домов росли. Хорошо было, а сейчас повсюду разрослись. Березовая роща, а не деревня. Так, кое-где крыши домов виднеются, и всё на этом.
Павел хотел было достать бутерброд, но раздумал. Вытащил бутылку с водой. Отпил. Поднялся. Потоптался, не зная, куда податься, а потом махнул рукой и напрямую направился к ближайшему дому.
– Эй, есть кто живой! – крикнул Павел и заглянул во двор, где в пыли копошились две-три курицы, и снова повторил: – Эй, кто-нибудь…
Но стояла тишина.
Потоптавшись, Павел растерянно оглянулся, не зная, куда податься. Он уже не раз пожалел, что решил съездить в деревню. Чем ближе деревня, тем меньше хотелось видеть её. В такую даль тащился, а для чего, и сам не знал… В душе пустота, ни одна поджилочка не дрогнула, когда вышел на остановке. Деревня как вымерла.
Это раньше можно было в любой дом зайти, и тебя никто не выгонит, а наоборот, накормят-напоят и спать уложат. А теперь на порог не пустят. Мало того, собак спустят, если сунешься без спроса. Наверное, жизнь такая наступила – собачья… И зачем только приехал? Приехал, а внутри пусто. Нет, не пусто, а тяжелый груз стал давить, что зря прикатил.
Какая к чертовой матери родина, ежли здесь и корней-то не осталось! Братья разъехались в разные стороны и носа не кажут в деревню. Вот и получается, что была семья да вся вышла. Даже на кладбище не сходишь. Нет родных могилок-то. Все родственники по бескрайним просторам страны разбросаны… А в родной Васильевке никого. Ни единой души…
Это что ж получается? Павел нахмурился. Выходит, один на белом свете остался? Да ну-у… Он невольно махнул рукой. Есть братья. Пусть в разных городах живут, но всё же есть. И сын живет на Волге-матушке! У него семья. Дети растут. Два сорванца.
А он сидит тут и расстраивается, что один как перст остался на всём белом свете. Ан нет! Вон еще сколько родни, если всех пересчитать, а то, что не общаются… Наверное, жизнь такая стала – необщительная. Каждый своей семьей живет. Мой дом – моя крепость, в которую никого не пустят. И правильно сделают, что не пустят. Советчиков много, а семья одна…
Мотнул головой и сгорбился, пригорюнившись. Недолго просидел, поднялся. Покрутил головой, вспоминая, а потом направился в сторону дальнего холма, на котором виднелся березовый колок, решив по дороге завернуть к родному дому.
Он шагал, поглядывая под ноги. Вздрагивал, когда кидалась под ноги чья-нибудь собачонка, лаяла на него, а потом, повиливая хвостом, трусила следом за ним и отставала, скрывшись на заросшем пустыре.
Редкий гогот гусей, слышно квохтанье кур, протяжные голоса петухов, а вот людских голосов не слышно. Изредка откуда-то издалека донесется голос, а прислушаешься – показалось. Может, ветер балует в покинутых домах, поскрипывая ставнями или посвистывая в пустых оконных проемах, – кто знает.
Деревня словно вымерла. Тишина. А раньше только и раздавались голоса да шум тракторов или машин. А уж на праздник тем более деревня гуляла. У них любили отмечать праздники. Пусть не всей деревней, а небольшими компаниями собирались на берегу речки, если было тепло и начиналось гуляние. Особенно Первомай и День Победы отмечали. Ух, на всю Ивановскую гуляли. С песнями, с плясками!
А бывало, мужики перепьют, до кулаков дело доходило. Но тут же мирились, и глядишь, уже вместе сидят, стопки поднимают. А вечером, когда уставали, над речкою разносились песни. Разные пели: грустные и веселые, старинные и современные.
На улице темно, и в темноте разносились песни, и казалось, словно вся деревня запела. Вышла на берег речки и запела. И слаженно так, душевно. А сейчас… А сейчас тишина, как будто Васильевка вымерла. А может и правда, что вымерла…
Над головой ровный шум берез. Вроде сумрак, но в то же время свет призрачный, зеленоватый. Повсюду оградки, холмики. Где-то кресты видны, а в других местах памятники, а у некоторых вообще ничего не осталось. Лишь холмик напоминает, что здесь чья-то могилка, но пройдет немного времени, и холмик сровняется с землей, и тогда никто не узнает, что в этом месте покоится человек.
Павел приостановился, осматриваясь. Он долго сидел возле своего дома, от которого одни головешки остались. Курил, вспоминая детство, братьев и родителей и ждал, что душа заноет, появится эта тяга к родному дому, к своей малой родине. И не дождался… Не было её – этой тяги, как не было и самой тоски по родине.
Как же так? Во сне приходит, а наяву нет. Говорят и пишут много, а на деле всё наоборот получается. Павел вздохнул, еще раз взглянул на заросший двор, где в человеческий рост разрослись сорняки, а потом направился к березовому колку, где было деревенское кладбище.
Вроде некого проведывать, все родные могилки поразбросаны по необъятной стране, а он всё равно пришел. Сам не знал, почему потянуло сюда. Тишина и покой, а может, думы одолели, и захотелось уединения. Он, осторожно ступая по высокой траве, обошел кладбище.
Холмиков-то сколько! И между ними были заметны два или три журавля, которые будто застыли возле могилок. Павел бродил по кладбищу, вчитывался в едва различимые фамилии на табличках, всматривался в поблекшие фотографии и хмурился. Никого не узнавал. Вроде все свои – деревенские, а гляди ж ты, даже на лицо не мог вспомнить. Как же так, а? Родная деревня, а он не чувствовал влечения к дому.
Что-то расплывчатое и бесформенное ворочалось в душе. Павел уж который раз пожалел, что поддался мимолетной слабости и поехал в деревню. Зачем, если в душе ничего не осталось, да и было ли оно – это чувство, он не знал…
Павел сидел на траве в тени берез. Смотрел на могилки, слушал приглушенное пение птиц и думал. Думал обо всем. Всю жизнь словно по полочкам раскладывал. Это сюда, а это туда, и вон то тоже на полочку. А эти бы выбросить, чтобы память не засоряли, да не получается. Ну и ладно, суну в самый дальний уголок памяти, пусть там валяется.
Потом вскидывался и с вершины холма глядел на редкие дома, прислушиваясь к звукам. Редкий раз ветром доносило тарахтенье трактора – это, видать, на дальних полях работают, проехала машина – дорога вдоль деревни проходит, но еще реже лай собак или мычание коровы, а про человеческую речь и говорить нечего, зато чаще всего были слышны журавлиные крики с небес. Снесут последнего жителя на мазарки, и одни журавушки останутся, и будут они летать над округой, печально курлыкая.
Вроде донесется голос, а посмотрит на деревню и не поймет, где разговаривают. В двух-трех местах куры копошатся в пыли, завизжал поросенок и умолк, а вот людей не видно.
Павел долго всматривался в густые заросли, что заполонили берега речки, и пытался угадать место, где рыбачили. Опять смотрел на деревню, на густой кустарник и березки, на место, где раньше был родной дом, и от него начинал мысленно проводить дорожку, как они с отцом отправлялись с ночевьем. Потом поднялся и направился к речке.
Он не пошел по улице. Не хотел, чтобы его видели. Хотя кто увидит-то? За годы, что его не было в деревне, сама деревня изменилась до неузнаваемости, а жители тем более. Убедился, когда по кладбищу ходил. Он не смог вспомнить никого, рассматривая фотографии! Нет, почему же… Он не забыл соседей, некоторых друзей. Помнил не только имена и фамилии, даже прозвища, как у ребят, так и у взрослых.
В деревне же как? Прозвище получить легче легкого, а вот отмыться от него уже не получится. Один раз назовут – и будешь всю жизнь носить. Мало того, что сам, так еще и детей станут называть этим прозвищем.
Павел спускался вдоль деревни, рассматривая её. Виднеются дома, окна которых крест-накрест заколочены, заросшие сорняками огороды. Заборы повалены. Кое-где торчат столбы. А там мелькнул покосившийся сарай. И там выглядывает.
Он невольно повернулся. Взглянул на кладбище, потом на брошенные дома, и показалось, что прямо из деревни начинается этот погост, медленно переходя из умерших домов в кресты. И нет этой четкой границы между живыми и мертвыми. Стерлась она…
Приостановившись, Павел закурил, продолжая смотреть на деревню. С пригорка она была видна как на ладони. Вроде заброшенная деревня и жителей не видно, а приглядишься и замечаешь, что мелькнул дымок из трубы, а там видна картофельная ботва. Её сразу различишь среди бурьяна. Яркая и сочная зелень.
Ровные рядки тянутся от верха огородов и спускаются к речке. Заметны небольшие участки, огороженные слегами. Там всегда сажали капусту, как помнил Павел. Она, эта капуста, воду любит. И чтобы недалеко было таскать, всегда сажали подле воды.
Спустился по тропке, зачерпнул из речки и торопишься на огород. Сажали-то помногу! Нужно везде полить, да хорошенько, тогда кочаны вырастут крепкими и упругими. Картошку уж давно собрали, а она еще виднеется на огородах. Пройдут первые заморозки, тогда за нее возьмутся.
Павел мотнул головой. Сколько лет прошло, думал, что давно забыл, а взглянул, и сразу вспомнилось, как капусту поливали. В городе ничего не сажаешь. У кого были дачи или старики в деревнях, они ездили туда, а другие на рынке покупали. Так проще. И мучиться не нужно. Не нужно трястись над каждой морковкой или кустом картошки. Выбрал получше, уплатил денежки и тащи домой. А дома хоть засаливай, хоть суши, хоть суп вари.
Павлу предлагали участок под дачу, а он отказался. Зачем, если работать некому. Сын уехал, а одному много ль нужно?! Всего ничего! И это всего ничего вполне можно на рынке взять, а не горбатиться на даче. И поэтому отказался…
По едва заметной тропке Павел спустился к неширокой речке Ветвянке. В одних местах воробью по колено, но есть глубокие места, где дна не достанешь. И ширина разная. В одних местах сужается, и тогда зажатая берегами речка шумит, стараясь вырваться на просторы. А вырвавшись, разливается, постепенно теряя свой бег, а потом снова попадает на узкий участок и опять мчится по перекатам, чтобы снова затихнуть на просторах.
Павел остановился на берегу. Господи, как же она изменилась! Раньше, когда приезжал к родителям, в голову не приходило, чтобы позвать отца и снова, как в детстве бывало, сходить с ночевьем на речку. Редко приезжал в деревню. В основном, когда просили. Помогал по хозяйству. Вечером с отцом шли в баню, а потом подолгу сидели на крыльце. Чаще молчали. Просто сидели, курили и каждый о чем-то думал.
А если спросить, о чем думаешь, любой из них ответил бы, да обо всем и о жизни – тоже. А вот с ночевьем не ходили. У него не было желания. Детство давно ушло, когда с радостью бежал рыбачить. А потом приезжал по принуждению. Если бы не родители, ни за какие коврижки бы не появился в деревне. Братья далеко жили, а ему хочешь или не хочешь, приходилось ехать, если родители просили помочь.
И тогда отец к его приезду побольше работы выискивал, потому что неизвестно, когда Павел в следующий раз сможет появиться. И работали, потом в бане попарятся, и весь вечер сидят на крыльце. Ни рук, ни ног не чувствовали. Какая уж тут рыбалка может быть, если сидишь, и разговаривать не хочется, до такой степени устаешь.
А тащиться к реке и потом всю ночь просидеть возле костра – уже не тянуло. Разговоры возле костра заменили беседами на крыльце. Отец не звал на рыбалку. Видать, понимал, что Павел оторвался от родного дома. Приезжает – и на этом спасибо. А другие-то как укатили – и с концами. Носа не кажут, открытками да письмами отделываются. Это жизнь и никуда от нее не денешься…
Он ходил по берегу, оглядывался на деревню, а потом опять пытался разыскать место, куда ходили с ночевьем. Речка изменилась за долгие годы. Половодьями подмывало берега, и они рушились. Появлялись новые островки и острова, виднелись отмели и мыски, а где был пустынный берег, там всё позаросло кустарником.
Природа не стоит на месте. Она жила и будет жить, а вот человек – это пылинка. Появился в этом мире, мелькнул и исчез, а на его месте новая пылинка оказалась. Появилась, чтобы тоже сгинуть. Вот и получается, что человек рождается в природе, чтобы исчезнуть…
Павел мотнул головой, подошел к поваленному дереву, уселся, достал из сумки бутерброды и стал медленно жевать, поглядывая на быструю воду. Мелькнула стайка пескариков. Застыли и тут же бросились врассыпную от полосатого разбойника, который вышел на охоту. Павел взглядом проводил их. И снова вздохнул.
Н-да… Приехал в деревню, называется. Какого лешего припёрся сюда? Сны, сны… Ишь, одолели! Покоя не стало! А вот приехал, и полегчало, что ли? Да черта с два! Еще тяжелее стало…
Павел опять ругнулся. Стряхнул крошки. Газету смял и сунул под бревно, на котором сидел. Авось какой-нибудь рыбак наткнется. Пригодится для костра.
Взглянул на вечернее солнце. Уж над горизонтом нависло. Скоро начнет темнеть. А он сидит на берегу и нюни распустил. Если ночлег не найдет, тогда возле речки придется ночевать. Автобус-то завтра с утра будет. Здесь они раз в день ходят. Раньше чаще ходили, а люди стали уезжать, деревни опустели, и автобусы стали реже пускать. А в некоторых деревнях вообще не появляются. Возить некого. И если не успеешь на единственный автобус, можешь пешком топать. А до города, как до Китая вприсядку.
Э-хе-хе! Павел закрутил головой. Приложил руку к глазам и прищурился, рассматривая дворы. Возле домов, где картошка зеленеет на огородах или копенки сена стоят, в них живут, а брошенные дворы бурьяном позаросли – заборов не видать. Постоял, почесывая небритую щеку, а потом стал подниматься по заросшей меже.
– Хозяева, – ткнувшись в закрытую калитку, крикнул он, заглядывая во двор. – Эй, есть кто живой? Повымирали все, что ли…
Постоял, прислушиваясь, но стояла тишина. Из конуры выглянула собака. Вылезла, потянулась и зевнула. Потом нерешительно тявкнула, заюлила хвостом и снова скрылась в конуре. Павел стоял, пытаясь заглянуть в окно, а потом опять протяжно крикнул.
– Ну, что разорался как резаный? – позади него раздался скрипучий медленный голос. – Что высматриваешь, мил-человек? Не гляди, уж всё порастащили – это ворьё проклятущее. Так и шастают, так и норовят что-нить стибрить. А тебе что надо?
Опять спросил он.
Павел вздрогнул и оглянулся. Перед ним стоял высокий худой старик в штанах, заправленных в носки, сам в галошах. Несмотря на теплый вечер, на нем фуфайка, из-под которой виднеется синяя клетчатая рубаха, а на голове фуражка.
– Что тебе нужно, мил-человек? – опять сказал старик и взялся за калитку. – Высматриваешь, что плохо лежит? Собаку спущу, вмиг на кусочки разорвет. У, какая она злющая! Ага…
И встал, подбоченившись.
– Хозяина звал, – буркнул Павел, с удивлением рассматривая незнакомого старика. – Мне бы переночевать. До утра перекантоваться, а с автобусом уеду.
Старик задумчиво осмотрел его. Приподнял кепку и почесал лысину. Пошкрябал щеку, а потом махнул рукой.
– Ну ладно, проходи, гостем будешь, – сказал он и толкнул калитку. – Всё веселее будет. Ну, заходи! Не боись, собака не укусит. Завел скотинку, думал, охранницей будет. Ага, только и делает, что жрет и дрыхнет все дни напролет, а ночами брешет. Цыц, Чернявка! На место, говорю!
Он прикрикнул на черную вертлявую собаку, грозно нахмурился, а сам склонился и ласково потрепал её по загривку. Было видно, что любит свою скотинку. Погладил её и задвигал ногами-ходулями к крыльцу.
Павел двинулся вслед. Наклонившись, он прошел под навесом, на веранде скинул обувь и чуть ли не заохал от удовольствия, пошевелив пальцами. Весь день в тесной обуви. Устали ноги.
Мельком огляделся. В полумраке вешалка на стене. Даже не вешалка, а три здоровенных гвоздя вбиты в стену, а над ними полка, с которой свешивалась тряпка и виднелась потертая шапка. Лавка вдоль окна. На ней два ведра и скомканная марля.
В дальнем конце приоткрытая дверь, за которой видна занавеска и незаправленная старая кровать. Павел не стал рассматривать, что было на веранде, а заторопился за старичком. Прошел в заднюю избу, где раскорячилась большая печь, а напротив возле окна стоял стол, подле него шкаф-пенал и в углу притулились кочерга с ухватом. Пахло едой, хлебом и табаком.
– Ну, проходи в горницу, мил-человек, – старик откинул занавеску. – Вот приходится закрывать, чтобы мухи не налетели. Прям ужас, сколько в этом лете развелось их! Того и гляди, живьем сожрут. Откуда взялись, не понимаю.
И закачал головой.
Оставив сумку возле порога, Павел прошел в горницу. С голубого крашеного потолка свисала лампа под желтым выцветшим абажуром. В углу икона, а под ней стол, на котором виднелась стопка газет, две-три книги, старый радиоприемник, а под стол задвинуты табуретки. Около двери продавленный диван, в другом углу платяной шкаф, а за печкой-голландкой за занавеской кровать…
– Что застыл столбом? – подтолкнул в спину старик. – Вон, присаживайся на диван. В ногах правды нет. Сейчас радио включу. Скоро концерт будут передавать. Всё веселее будет. Как зовут тебя, мил-человек? С чем пожаловал в наши края?
Он повернулся к постояльцу, продолжая крутить настройки.
– Пал Ваныч Горлов, – присел на край дивана Павел. – А ваше имя?
– Иваныч значит, – закивал старик. – А я Ефим Петрович Фадеев, но все в деревне называют дядькой Ефимом или Петровичем, а кто за спиной «жердиной или оглоблей» кличет, но я не серчаю. Привык.
Он вроде засмеялся, а в то же время на лице хмурая морщинистая маска.
Павел тоже хмыкнул. И правда – жердина. И опять захыкал.
– А что тебя занесло в наши края? – с любопытством посмотрел дядька Ефим. – Мы к вниманию не привыкшие. В основном тут старичьё живёт, а молодых по пальцам одной руки пересчитаешь. Работы нет, так мотаются в райцентр или в соседнюю Козулиху. Затемно уезжают и в темноте возвращаются, – и опять сказал: – Так что ж тебя занесло к нам, аль какая нужда приключилась, а?
– Я родом отсюда, – пожал плечами Павел, нахмурившись, посмотрел на дядьку Ефима. – Сам в город подался после школы и до сих пор там живу, а родители отсюда родом. К ним ездил, пока они к младшему не перебрались.
И снова пожал плечами.
– Горловы, говоришь, – старик задумался, закивал головой. – Помню, помню… Были такие, но поразъехались. Сначала детишки укатили, а потом и родители отправились в дорогу дальнюю. Да, помню, – он снова кивнул головой. – Там они жили… – И махнул рукой. – А в Васильевке благодать! Я всю жизнь прожил здесь. Видать, вдоволь насмотрелся на города, пока воевал. Сколько мне пришлось по ним пройти – не счесть, от Москвы и до самого Берлина. Смотреть не могу на каменные здания. Все кажется, сейчас опять стена обрушится и я попаду под завал. Было дело. С тех пор не переношу города. И после войны бывал в городе. Суетливый он – этот город, и люди такие же. Здесь моя жизнь. К одному соседу загляну, к другому. Ко мне прибегают и тоже помогают, если есть надобность. Так и живем, друг дружке помогая… Вернулся с войны и всю жизнь провел в деревне. Не знаю, как другие, но я видеть не хочу эту городскую жизнь. Слышь, Иваныч, а сейчас для чего ты приехал? Решил осесть на старости лет? Могу подсказать, у кого избу сторговать. Вон, наш Денис Климентьев вздумал в город перебираться. Дурак! Ох, какой дурень! Хоть бы башкой подумал, кому он нужен там. Ну и что, что дочка живет. Так у нее есть муж и куча ребятишек. Здесь кум королю, хочу лежу, хочу гопака спляшу, а там с утра и до ночи колготня в тесной квартире и суета – ни посидеть, ни полежать, а на улицу выйдешь, башкой крути во все стороны, лишь бы под машину не попасть. А он собрался… Дурак!
В сердцах сказал старик и махнул рукой.
Павел посмотрел на него, а сам задумался над словами. А чему радоваться – этой непролазной грязи или деревенским просторам? И опять пожал плечами.
– Да я… – Павел запнулся и снова пожал плечами. – Даже не знаю, как сказать-то… Молодым был, радовался, что в город перебрался. Казалось, словно в другой мир попал. Думал, так и должно быть. И особо над этим не задумывался. Некогда было. Всю жизнь проработал на заводе, а на пенсию вышел, покоя не стало. Не поверишь, Ефим Петрович, сны замучили. Деревня снится. Всю душу вымотала. Вот и приехал сюда, чтобы с душой разобраться, чтобы понять, что это такое – малая родина, почему её не только видеть, но и слышать ничего не хочу, а деревня ночами во сне приходит, и ноет душа и ноет… Пока в городе был, сюда тянуло, а пока добрался, сто раз успел пожалеть, зачем я тащился в такую даль. Чем ближе подъезжал, тем тяжелее на душе становилось. Всяко рассуждал и пришел к выводу, что нет её – этой малой родины. Нету и быть не может, потому что всё это враньё чистой воды и ничего более! Одного, другого, третьего в автобусе спросил, откуда родом. Отвечают, что в деревне родились, а сами в городе живут. Вот едем, соскучились. А что же вы не хотите вернуться? А зачем? Нам и в городе неплохо живется. Как же так, Ефим Петрович? Наша родня по всей стране разбросана. Получается, вроде бы родом отсюда, а корней не имею. Всё сидел и ждал, что во мне взыграет тоска по родине. Всё башкой крутил, как попугай, осматривая окрестности. Думал, ну вот, погляжу на речку или вон тот дубок, а может, на березовую рощу, и тогда в душе ворохнется, и почую её – родину свою, заколотится сердце, затрепещет! Ан нет, внутри меня тишина. Ни один нерв не дрогнул, когда смотрел на деревню, смотрел на свой родной дом, от которого одни головешки остались, на нашу речку Ветвянку, где с друзьями купались, на березки… Да на всё глядел, ни одну мелочь из вида не упустил! И ничего не дрогнуло внутри. Абсолютно! Почему? Может, родители виноваты, что не привили эту самую любовь к родному дому, может, чего-то в меня не доложили, когда воспитывали, или у меня душа зачерствела, а? Что молчишь-то, Ефим Петрович? Скажи…
И взглянул на старика. А потом принялся торопливо, иногда сбиваясь и подолгу задумываясь, рассказывать про свою жизнь. Дядька Ефим сидел, внимательно слушал и не перебивал. Изредка кивал головой, тоже иногда задумывался. Может, свою жизнь вспоминал, а может, её сравнивал. Кто знает…
– Ну ладно, потом договорим, – неожиданно перебил Ефим Фадеев, хлопнул ладонями по коленям и поднялся. – Айда ужинать, Пал Ваныч. Деликатесы не держу, но супом накормлю. Солнце давно за лесом скрылось, а мы языками молотим, как бабы базарные.
И зашагал на своих худых ходулях из горницы.
Следом направился Павел.
Уже после ужина они опять вышли на крыльцо и уселись на ступеньки. В деревне принято, что крыльцо – это место для работы и общения. Для всех дел, если уж на то пошло.
Что в доме сидеть впотьмах и духоте, когда можно ту же картошку почистить на крыльце или взять вязание и сиди, вяжи, а если соседи заглянут, обо всем можно поговорить. И получается, что крыльцо – это клуб при каждом доме.
И сейчас Ефим Фадеев прихватил бутылку, две стопки, тарелку с закуской и поспешил на крыльцо.
– Ну, Иваныч, опрокинем по стопочке, – он поставил стопку и придвинул тарелку. – Ну, дай бог не последнюю и последнюю не дай бог! – медленно выпил, отломил корочку, понюхал и кивнул. – Пей, а то остынет!
И мелко затрясся с серьезным лицом – это он смеялся.
Павел взял рюмку. Подержал в руке. Нахмурился. А потом выпил. Сморщился, передернувшись, но от закуски отказался. Достал сигареты и задымил.
– Как приехал, всё на деревню гляжу, что-то жителей не видно, – сказал Павел и ткнул сигаретой. – Умирает она, умирает! Я помню, как раньше жизнь кипела в деревне. Ключом била, можно сказать, а сейчас на ладан дышит. Десять – двадцать лет пролетят – и можно крест на месте деревни ставить. Где же эта самая тоска по родине или любовь к родному дому, Ефим Петрович, если все убегают, а обратно на аркане не затянешь? Получается, что малая родина – это пустые слова и не более того.
Сказал и запыхал сигаретой.
Ефим Фадеев сидел, сложив руки на коленях. Смотрел на деревню. В сумерках поблескивала лысина. Где-то гавкнула собака. А там звякнуло ведро и протяжно заскрипела калитка.
По дороге, что вилась по холмам, замелькал неяркий свет. Кто-то проехал мимо деревни, и вскоре шум затих вдалеке. Опять звякнуло ведро. Донеслись голоса, приглушенный смех, затарахтел мотоцикл, и мимо них, виляя по дороге, неторопливо проехал мотоцикл, направляясь к речке.
– Ты видел журавушек над округой? И на погосте побывал? Это и есть наша малая родина, пока живет память о нашей Васильевке. Я всю жизнь прожил тут. И Марийка моя погибла, спасая детдомовских ребятишек. А я до сих пор прихожу на берег Ветвянки, где она утопла, и разговариваю с ней словно с живой. А помру, так журавушкой отправлюсь на встречу со своей Марийкой. Это и есть моя малая родина. Не помрет деревня, – продолжая сидеть со сложенными руками, сказал дядька Ефим. – Как пить дать, не помрет! Одни уезжают, а другие приезжают. Антошка с Валькой с весны и до холодов живут в деревне. Ждут, когда младший определится в жизни. Сказали, квартиру ему оставят, а сами сюда переедут. Пусть позже, но жители возвращаются, а есть такие, кто городскую жизнь сменял на деревенскую глушь. Причин много. К каждому в душу не заглянешь, да и расспрашивать не станешь. А те, кто уехал, могу сказать, дня не проходит, чтобы родной дом не вспомнили. Пусть в мыслях, но они побывали там. А некоторые из города едут, чтобы в деревне остаться. Всё бросают. И забираются в самую глушь. И живут они, и радуются! Ну, а родина… Каждый понимает это по-своему. Да, по-своему! Здесь родители жили, дед с бабкой. И на мазарках вместе лежат. Могилкой для моей жены стала речка Ветвянка. До сих пор прихожу на бережок и разговариваю с ней, как с живой. Моя жизнь в деревне. Моя родина здесь, а где твоя – это сам решай…
И Ефим Фадеев пожал плечами.
– Я родился в этой деревне, – сказал Павел и обвел рукой окоём. – И мои родители отсюда. Сам говорил, знал моих родителей. Кажется, здесь должна быть моя родина, ан нет. Нет, понимаешь? Долго думал, всяко размышлял, что кровь предков, что родные могилки, но ошибся. Нет у меня этого чувства! Объясни, почему? А, не знаешь?! Вот и я не могу понять. А может, правда, душа зачерствела. Не знаю… Сны замучили про деревню. То детство увижу, то отца, то пацанов, с кем играл, с кем всю округу облазили и везде побывали. Уехал – и словно никогда в деревне не жил. И не только я один, но и другие, кто в город укатил. Уехали, а обратно не возвращаются. Почему, скажи, Ефим Петрович? Почему никто не хочет вернуться в родные места, а сами на каждом углу языками молотят про малую родину, как любят её, как жить без неё не могут. Кого обманывают, скажи? Все стараются себя обмануть, что помнят о своей родине, а на деле… – он вздохнул, а потом стукнул по груди кулаком. – Честно признаюсь, для меня город куда ближе, чем деревня. В командировках бывал, а душа рвалась не в деревню, где отец с матерью жили, а в свой город, в свою холостяцкую квартиру, где мебелишки-то всего ничего, но где каждая мелочь знакома, где каждую половичку по скрипу узнаю. И пусть за окном стены, стены и стены, как ты говоришь, но они для меня роднее, чем колхозные поля, чем этот простор, – и Павел обвел рукой, показывая в темных вечерних сумерках. – И сегодня с утра поехал сюда, а в автобусе заскучал. Суток не прошло, а я места не нахожу. Обратно в город тянет. Как же так, Ефим Петрович? Для меня малая родина – это город, в котором почти всю жизнь прожил. Я ж говорю, что больше скучаю по нему, где каждый камушек знаком, чем по дому, где родился. Так объясни, что же это такое – родина для человека? – Он посмотрел на старика. – Как же так? Может, мне что-нибудь родители в душу не заложили, а? Не знаешь… Вот и я не знаю, но хочу разобраться с душой. Видать, время настало, чтобы свою жизнь по полочкам разложить…
И снова закурил. Задумался, всматриваясь в темные вечерние сумерки.
Ефим Фадеев помалкивал. Сидел, неторопливо посматривая по сторонам, и молчал. Он слушал и пытался все разложить по полочкам, чтобы когда-нибудь вытащить эти листочки памяти и попытаться в них разобраться. А сейчас молчал и сдушал…
– Взять моих братьев, – он снова повернулся к дядьке Ефиму. – Все поразъехались. Страна огромная! И каждый нашел для себя лучшее местечко – и там остался. Некоторые из братьев два-три раза приезжали в отпуск, но всегда раньше сматывались. Недельку поживут и тыщу причин найдут, лишь бы уехать, а другие вообще ни разу носа не показали. Где же у них малая родина? Где то самое место, тот уголочек земли, где они были счастливы? Все только и говорят, что родной дом, любовь к малой родине, а на самом-то деле её не существует. А если и есть, то там, где человеку хорошо. Да, наверное, так и есть! О, сидишь и плечами пожимаешь! Не знаешь, что мне ответить… Получается, что малой родины не существует. Бабкины сказки и не более того, но тогда объясни, почему во сне приходит эта деревня, где я родился, но про которую слышать не хочу? Молчишь… Вот и я не знаю…
Сказал, нахмурился и махнул рукой.
Дядька Ефим сидел на крыльце, сложив мосластые руки на худых коленях. Смотрел на деревню, прислушивался к ночным звукам, а на дворе уже ночь наступила, а они продолжали разговаривать. Ефим сидел, всматривался в ночную тьму, а ночью звуки сильнее доносились. Опять забрехала собака. Скрипнула дверь. Донесся кашель. Кому-то не спится. Тоже вышел на крыльцо, чтобы покурить, а может, просто усядется на ступеньку и начнет о чем-либо думать. О чем? Да обо всем и о жизни – тоже.
Вот как Ефим с Павлом. Сидят в ночи и разговаривают за жизнь. Но почему-то больше Павел говорил, а дядька Ефим слушал, вздергивал кустистые брови, смотрел во тьму, словно хотел что-то рассмотреть и думал. О чем? Наверное, о жизни и малой родине…
А утром, едва рассвело, Павел засобирался в дорогу. Даже не стал завтракать, попрощался с дядькой Ефимом и заторопился на остановку. Он шагал по деревне, больше смотрел под ноги, чем по сторонам. Хотел было свернуть в проулок и подойти к родному дому, но раздумал.
Вчера было сунулся, понахватал репьев, как собака блох. Всё ждал, что в нем пробудится чувство к своей малой родине. Проснётся любовь к дому, где он родился, но не дождался. Чертыхаясь, обобрал с одежды репьи и подался на кладбище, надеясь, что возле могилок душу защемитя, но душа молчала.
Долго бродил между могилками, а потом присел возле березок. Он прислушивался к шепоту листвы, пению мелких птах и взглядом выискивал любую мелочь, лишь бы внутри отозвалось, но душа молчала.
И сейчас шагал в сторону остановки и радовался, что наконец-то вернется домой, в свою квартиру, окна которой выходили на пустынный двор больничного городка. Поставит чайник. Нальет чай в кружку. Возьмет кусок хлеба с маслом. Выйдет на балкон, где стояла табуретка, будет пить чай, а может, начнет перекликаться с одним из соседей, который тоже сидел на балконе.
А Ефим Фадеев вышел на улицу. Посмотрел вслед постояльцу. Пожал плечами. Потом взглянул на редкие дома, видневшиеся там и сям среди берез и черемушника. Задрал голову, когда над ним в вышине разнеслось курлыканье, и увидел журавлей, что кружились над округой. Взглянул – и на душе стало легче. Легче от того, что ему не нужно куда-то мчаться и что-то искать.
Он давно нашел. Нашел и не хочет терять. Ему не нужно уезжать и жить долгие годы где-то на стороне, чтобы понять, что малая родина для него – это место, где родился и вырос.
А еще родина – это черемуха, которая растет под окнами каждой избы и заглядывает в них, а уж расцветет по весне, такой дух от нее, что можно ложкой черпать. И березовые колки, что там и сям разбросаны.
А еще журавушки, которые кружат над ним и курлыкают, словно разговоры разговаривают, когда печально, а когда и радостно. А придет время, и он присоединится к ним…
Это его сосед, Николай, которого уж на свете нет, а его березки, что многие годы сажал в округе, радуют людей, а они называют деревню не Васильевкой, как принято, а скажи любому шоферу – «Поехали в Колины березки», и тот сразу поймет, что нужно ехать в Васильевку.
