Камень небес
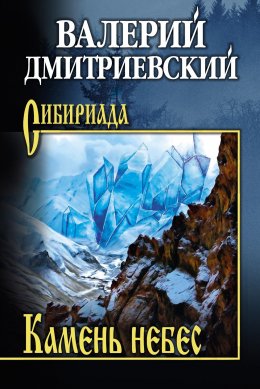
© Дмитриевский В. В., 2024
© ООО «Издательство „Вече“», 2024
Повести
Санрейс
1
Сколько уж раз я выходил из самолёта на таких вот самодельных аэродромчиках, где привольно пасутся козы да коровы, бегают по своим делам собаки и лысеют под вьюгой от винтов седые одуванчики, и всегда всё было нормально. Едва сойдя на землю, все мужчины (и я в том числе, конечно) доставали свой табачок – кто папироску, кто сигаретку, а кто и заранее набитую трубочку – и закуривали, соскучившись без дымка за час-полтора полёта. А если лёту было около двух часов, как сегодня, то и сам бог велел, как говорится, и не только велел, но и не отказался бы вместе с нами затянуться разок-другой. Многие несправедливо называют это вредной привычкой, однако таким способом снимается накопившийся за время полёта стресс, потому что не каждый признается даже сам себе, что летать боится. И на таких лётных полях (название прямо в точку!) мы никогда не обращали внимания на грозные плакаты, сулившие за курение немыслимые штрафы. Да и на нас, впрочем, тоже никто внимания не обращал. А то, что написано – ну, не всем же надписям нужно верить. Я тоже могу понаписать везде всякого.
Вот и сейчас, впервые прилетев в этот посёлок, я по привычке закурил на ходу, направляясь к небольшому бревенчатому сооружению, которое, судя по редкой паутине антенн и еле трепыхавшейся на слабом ветерке полосатой чёрно-белой «колбасе», было местным аэровокзалом. Недалеко от него прогуливался милицейский сержант, на вид мой ровесник или даже чуть моложе, лет двадцати двух. Занятый своими заботами – встретит ли меня кто-нибудь, а если нет, то как найти в незнакомом посёлке нужный мне адрес, – я и внимания на него не обратил, просто отметил для себя: посёлок-то с претензией, раз милиция на прилёте дежурит. И тут этот сержантик направляется ко мне, козыряет и говорит:
– Так-с, гражданин, не успели прилететь, сразу нарушаете. Платите штраф.
– И что же это я успел нарушить? – интересуюсь. Действительно, что? Минута всего как ступил на землю.
– А курите на аэродроме, – объясняет сержант и показывает на соответствующий текст на заборе.
– Так все же курят, – отбиваюсь я.
– Кроме вас, никто. – И он делает широкий взмах рукой, обводя окрестности. Как Ленин на постаменте.
Я оглядываюсь – народ разбрёлся от самолёта в разные стороны. Все почти местные, к антеннам я да ещё одна дамочка следуем. Каждый знает свою дырку в заборе – там, где этот забор есть. А по большей части граница между посёлком и полем (лётным, разумеется!) довольно условная. Но никто и правда не курит – знают здешние порядки, и ни один гад не предупредил, когда я папироску вытаскивал.
– Я больше не буду, – неуклюже оправдываюсь я, гася окурок о каблук. – Первый раз тут у вас. Теперь буду знать.
Но зря, что ли, сержантик это место себе прикормил. Нет бы преступников ловить, а он, шустряк, пристроился тут стричь купоны.
– Все так говорят, – возражает он, – а потом снова нарушают. Платите пять рублей.
Ничего себе у него такса! Да я долетел сюда за семнадцать. Выходит, одна «беломорина» стоит как полчаса полёта. Но не станешь ведь прейскурант просить. Жалко, но достаю пятёрку.
– Получите. – И он протягивает мне квитанцию.
– У меня бухгалтерия её не примет, – отвечаю я, отчаливая от него, и бросаю квиток на землю.
– Вот и опять нарушаете, – довольным голосом говорит он мне вслед. – Поднимите и бросьте в урну.
– И за это тоже пять рублей? – осведомляюсь я и решаю, что буду требовать: пусть всё-таки покажет, откуда он эти расценки берёт.
– Нет, это нарушение несерьёзное. Достаточно моего замечания. – Сержант так и светится, впечатлившись собственным снисхождением к злостному несоблюдателю правил общественного порядка.
Ну и чёрт с ним! У каждого свои загогулины, к тому же у нас разные весовые категории: он при исполнении, а я кто такой? Было у отца три сына: два умных, а третий – геолог. Я как раз из третьих…
Вслед за мной сержант выходит через калитку на поселковую улицу. За пределами подотчётной территории он становится совершенно другим, просто душа-человек! И, легко перейдя на «ты», спрашивает меня:
– Так ты в первый раз здесь? А к кому прилетел?
Я лишь секунду раздумываю, как ответить. У калитки пусто, никто меня не встречает. Глупо продолжать конфронтацию, ведь адрес всё равно спросить больше не у кого.
– Мне нужна Гоуджекитская партия, – отвечаю.
– Геолог, да? – интересуется сержант и тут же представляется, протягивая руку:
– Олег. Пойдём, покажу. Сейчас у меня обед, я там рядом живу.
– Федя, – называюсь я.
– Зря ты обиделся. – Он мотнул головой. – В прошлом году один сопляк так же вот закурил и сразу выбросил, затошнило его. Загорелась трава сухая, прямо под самолётом. А к нему уже заправщик подъехал. Каплю керосина пролил бы – и всё.
– Да меня и в самом деле Фёдором зовут! А траву косить надо вовремя.
– Надо, – соглашается он. – Теперь вот косят. Но всего не предусмотришь. Так что лучше возле самолёта не курить.
Город, откуда я прилетел, давно завоевала весна, а тут, в посёлке, снег растаял только на открытых пригорках. Было довольно прохладно, на небе косматились мрачные тучи. Север однако. База партии располагалась через две улицы от аэродрома. Собственно, это была наша будущая база, которую ещё надо обустроить. А сейчас здесь, на пустыре, огороженном забором, стоял лишь один домишко. Из трубы курился дымок. Над крышей висела антенна, только поскромнее, чем на аэродроме. Я потянул скрипучую дверь и вошёл.
– А-а, появился. – Из-за стола поднялся Стас, наш радист, парень с причёской под битлов и редкой бородкой, шагнул навстречу, протягивая руку. – Ну, привет! Как долетел?
– Нормально, – отвечаю. Необязательно ему знать, что у меня возникли проблемы с правопорядком.
– Когда будешь залетать – завтра? А то я утром связывался с участком – Андрей сказал, что продуктов надо привезти. Тушёнка кончается, ещё там что-то. Я записал.
– Ну, конечно, завтра, если погода будет. Сколько тут бортов?
– «Восьмёрка» и «двойка». Но оба с утра улетают и мотаются туда-сюда без передыху, видно, заказчики в очередь стоят. Ты сходи сегодня в аэропорт, узнай. Хотя Ми-восемь тебе не подойдёт, ты же один. Вадим Семёнович скажет – слишком дорого.
– А где Матвеич? Я думал, он меня встретит.
– Поехал с плотниками на «трумэне» в Новый Уоян. Есть возможность купить у бамовцев старые щитовые домики. Пока в них перекантуемся, а за лето что-нибудь посерьёзнее построим… Ну что, отметим прилёт на новое место?
– Давай-ка, Стас, без этого. Просто поесть у тебя имеется?
– Да вон каша с утра осталась. Чай горячий на плите. А к вечеру супчик какой-нибудь сварим.
Было видно, что он немного разочарован. Ничего, переживёт. Да и другие тоже. Иван Матвеевич, прораб по строительству, лишь на прошлой неделе устроился к нам и сразу сюда в командировку угодил. Ну и робеет, наверное, в незнакомой обстановке. И, видимо, позволяет им тут… Нет, пусть сразу почувствуют, что прибыл геолог. Инженер-геолог, если точнее. Вот уже третий год. Какое-никакое, а начальство. По крайней мере, для Стаса, потому что водителем и плотниками руководит Матвеич. Конечно, недолго я тут пробуду. Если повезёт, завтра улечу на участок. Но всё равно я должен сразу поставить себя как надо. Никакого панибратства!
Отобедав, я плюхнулся на спальники, расстеленные прямо на полу, и стал обдумывать свои дальнейшие действия. Стас прав: надо бы сегодня же сходить в… аэропорт, узнать обстановку. Не хотелось называть это поле и убогое сооружение рядом с ним громким словом «аэропорт». Скорее это аэропирс какой-нибудь или аэропристань. Но нет таких слов, к сожалению, поэтому ладно – пусть будет аэропорт. Схожу, отдам заявку на полёт, должны же меня на очередь поставить, если, как Стас говорит, там полно заказчиков. Пусть даже не завтра, но через день-другой улечу, наверное. Андрей там уже второй месяц дежурит, пора его сменить.
Андрей – старый мой друг и однокашник, он и позвал меня сюда работать. Нужны, мол, такие молодые и энергичные, как ты да я, будем изучать новый перспективный район. А я только из армии вернулся – рекрутировали на два года после военной кафедры, лейтенантом. Одному из группы мне так повезло, остальные разъехались по местам распределения. И писали потом сочувствующие письма и желали, стервецы, успехов в боевой и политической подготовке… Но дембель неизбежен, как крах капитализма, гласит армейская мудрость. И вот теперь я должен буду вспоминать всё, чему меня учили пять лет в институте и что основательно улетучилось из головы в сур-ровых условиях пограничной службы. Посидел месяца три в городской конторе, почитал материалы по району, начал кое-что к проекту работ писать. Но сейчас предстоит простое дежурство на поисковом участке в горах. Там в прошлом году построили пару домиков и вертолётную площадку. В домиках разное полевое имущество и снаряжение: палатки, печки железные, запчасти к вездеходу, спецодежда, посуда, молотки, топоры и прочее, без чего невозможны нормальные геологические поиски. И чтобы всё осталось в целости, решили этой зимой охранять по очереди. Дабы не сдуреть от одиночества да исключить всякие неприятные ситуации, дежурили вдвоём: кто-то из геологов и радист. Геологи раз в месяц менялись. Правда, те, кто отдежурил, говорили, что никто из чужих не приходил, да и откуда им взяться: туда ходу от ближайшего посёлка несколько часов – высоко в горы и по глубокому снегу. И если кто и позарится на наше имущество, просто не сможет его далеко утащить. Даже охотники там вряд ли появятся. Леса на такой высоте почти нет, соболей не добудешь, а изюбрь и сохатый в двухметровый снег не сунутся. А делать на участке целыми днями нечего. Лежи, читай, слушай радио, печку топи да поесть чего-нибудь готовь. Тоска… Может, и до руководства нашего дошло постепенно, что никто там ничего без нас не тронет за зиму, но ведь почти все начальники исповедуют принцип: не отменяй принятых решений. С целью не уронить своего авторитета в глазах подчинённых. И вот теперь настала моя очередь нести вахту вместе с Альбертом, молодым радистом, которого забросили туда на всю зиму. Парень холостой, в городе ему делать особенно нечего. А так хоть денег заработает, на полевых работах зарплата ощутимо выше.
Немного переварив обед, я вытащил из пистона свой спальник и расстелил его на свободном месте на полу. Потом развязал рюкзак и достал полевую сумку, где лежали бланки заявок на полёт. Одевшись, я сообщил Стасу, с грустным видом наблюдавшему за мной:
– Ну, пошёл на разведку.
– Давай, – сказал он без энтузиазма и удалился в свою каморку, где на сколоченном из дощечек столике стояла рация.
2
По дороге в аэропорт я приглядывался к посёлку, который занимал узкую полоску земли между берегом Байкала и невысоким горным хребтом, и он меня сразу очаровал. Была в нём какая-то суровая, сдержанная северная красота. На кривоватых улочках старые аккуратные кондовые избы, рубленные, наверное, лет сто назад, перемежались с длинными двух- и трёхквартирными сооружениями, очевидно, советской постройки, а в конце посёлка сменялись ещё более длинными сборно-щитовыми домами – там жили бамовцы, как я потом узнал. Вдали виднелись два портовых крана на капитальном бетонном пирсе, возле него стояли вмёрзшие в лёд катера. Чуть дальше у пирса поменьше застыли сейнеры рыбозавода. На льду озера видны были скопления небольших будочек – Стас успел рассказать, что местные рыбаки вытаскивают эти будки на всю зиму на лёд, ставят там железные печки и вот так, в тепле и уюте, сверлят лунки во льду и ловят омуля. Будку можно легко перетащить на другое место в поисках хорошего клёва. По гравийной трассе вдоль берега то и дело проносились большие оранжевые немецкие самосвалы – «Магирусы». Стройка века приближалась к посёлку, и через год ожидалось прибытие первого поезда.
Да, здесь жить можно. Вот выстроим свою базу и начнём осваивать эти края… Байкал, горы, БАМ, вертолёты. А то на практике в Читинском управлении пришлось работать совсем в другой обстановке. Идёшь по сопке, а внизу трактора землю пашут, мимо разведочных канав коровы бродят, а по осени в лес за ягодой толпы горожан наезжают. Это сильно гасило во мне всякий энтузиазм. А тут совсем другое дело.
Поднявшись на крылечко и войдя в хибару «аэропорта», я отыскал справа по коридору дверь с табличкой «Диспетчерская». За ней в тесной комнатке стояли два стола буквой «Т», вокруг – несколько стульев. На длинном столе лежала большая карта, а за коротким сидел крупный усатый мужчина лет тридцати в синей аэрофлотовской форме и держал возле уха телефонную трубку. Сбоку от него на другом столе стояла большая, не чета нашей, радиостанция, которая помаргивала зелёным глазом и стрекотала разными атмосферными помехами. Выслушав то, что говорилось, и сказав пару слов в ответ, диспетчер положил трубку и повернулся к рации.
– Здравствуйте, – как можно твёрже сказал я.
Усатый развернулся обратно и посмотрел на меня так, будто только что заметил.
– Здравствуйте, – сухо ответил он.
– Мне лететь надо. На вертолёте… – Я немного оробел от его неприветливости. А также от того, что не знал, как делается заказ вертолёта. Что сначала: вынуть заявку и положить её на стол или рассказать на словах, куда мне надо лететь и зачем, а потом доставать бумаги? Чёрт его знает, какие тут порядки.
– Вы откуда? – спросил усатый.
– Я из города, сегодня прилетел.
– Да нет, организация какая? – немного досадуя, переспросил диспетчер.
– Гоуджекитская партия, – отвечаю. А какая ему разница, вообще-то?
– Гоуджекитская… В прошлом году работали?
– Летом работали. Начальник Вадим Семёнович. Но он сейчас в городе. А мне надо на участок, геолога сменить. Да груз небольшой забросить. Продукты там и прочее…
– Понятно, – промычал диспетчер. – Только сейчас бортов свободных нет.
– Да мне всего час полёта нужен. Туда и обратно. На Ми-два. – Я чувствовал, что мой голос становится просительным, нет в нём твёрдости, но другой интонации не получалось.
– Ми-два надолго занят. ПОХ летает.
– Это что?
– Промыслово-охотничье хозяйство. Сейчас старший охотовед должен подойти. С ним договаривайтесь…
Я сел на один из стульев. Минут через пять дверь открылась, и в диспетчерскую вошёл невысокий мужчина в дублёном полушубке.
– Ну что, Петя, – спросил он, – когда мои прилетают?
– Хитренко полчаса назад передал – расчётное прибытие в девять ноль пять, Павел Сергеич.
Павел Сергеевич взглянул на часы.
– Минут через двадцать. Хорошо. Ну что, ещё разок на Чаю, а завтра начнём вывозить с Томпы.
– Сколько рейсов туда планируешь? – спросил Петя.
– Там у меня двое в разных точках. А потом останутся самые дальние. Абчада, Котера, Левая Мама.
– Погода портится, – изрёк Петя. – По прогнозу с запада фронт идёт.
– Плохо. Надолго это?
– Дня на два. А то и на три.
– Может, по фактической получится?
– Если будут просветы, то возможно. – Диспетчер повернулся к рации, потому что оттуда прозвучал искажённый аппаратурой и помехами голос:
– «Ланита», я двадцать три триста сорок.
Петя ответил, потом, как я понял, пилот вертолёта запросил погоду в аэропорту. Петя стал передавать погоду, а я подошёл к Павлу Сергеевичу.
– Это вы сейчас летаете?
Он посмотрел на меня прищурившись.
– Да. Охотников вывозим.
– А может, по пути меня забросите? Мне надо на участок продукты доставить.
– А ты откуда?
– Да геологи мы. В прошлом году работать здесь начали. Вот базу строим на Рабочей.
– И куда тебе надо?
– В район Гоуджекита.
– Покажи на карте.
Я показал. Он посоображал немного, потом ответил:
– Нет, по пути не получается. Крюк надо делать. А у меня люди почти пять месяцев в тайге сидят. Сезон закончен, мясо, шкурки вывозить надо. А тут погода меняется, сам же слышал. Не могу.
Тогда я сказал, как на всякий случай научил в городе Вадим Семёнович:
– Ну тогда рейс за наш счёт. Вам же выгодно будет…
Но Павел Сергеевич даже не дослушал.
– Не могу. У меня каждый час на счету. А тебя завозить – на час крюк и получится.
Я посмотрел на диспетчера: может, замолвит словечко? Но Петя выпятил губу и развёл ладони в стороны.
– И когда же вы закончите? – спросил я.
– Ну, дня четыре ещё, может, пять, – ответствовал Павел Сергеевич. – И то если погода будет.
– Ничего себе, – пробормотал я. – А там продукты на исходе. Голод скоро начнётся.
– Так уж и голод, – засомневался Павел Сергевич. – В тайге всегда можно мясо добыть.
– Это в тайге. А они в горах сидят. Там мясо не ходит.
В диспетчерской повисло молчание.
– Ты вот что, – помягчел Павел Сергеевич. – Приходи завтра, с утра. Может, в нашу сторону не будет погоды, а к тебе, наоборот, прояснение. Лови момент, короче. А так никак не могу. У меня тоже люди там, домой хотят.
Я направился к двери. Петя-диспетчер крикнул вслед:
– Телефон запиши. Чтобы пешком сюда не мотаться.
– Да нет у нас пока телефона. Сам приду, – пообещал я и вышел.
3
На пустыре возле нашего домика стоял древний, как мамонт, ЗИЛ-157 неопределённого цвета – что-то серое с бурым и зеленоватым. Матвеич и плотники, молодые парни моих лет, по виду местные, разгружали большие деревянные щиты. Водитель сидел в кабине с открытой дверцей и курил. Махнув прорабу рукой, я поднялся на крыльцо и вошёл в избушку.
Стас в своей каморке монотонно бубнил в гарнитуру: «Ень-сорок восемь, я Ень-полста пять, как слышишь, приём». Потом покрутил что-то в аппаратуре, пощёлкал тумблерами и снова начал: «Ень-сорок восемь, а сейчас слышишь?» Из наушников доносилось: «Полста пятый, ответь, я тебя не слышу». Минут через десять Стас обернулся ко мне и сказал:
– Вот сволочь, приём есть, а передача пропала.
– Ты же говорил, что утром с участком связывался.
– Утром Альберт прекрасно меня слышал. А сейчас нет.
– А что могло случиться?
– Да чёрт его знает. – Стас озабоченно глядел на рацию. – Может, чего перегорело.
– Ну, ты разбирайся быстрее. Без связи труба.
– Да сам знаю. – Он выключил рацию, потом достал отвёртку. – У тебя-то как дела?
– Да никаких дел. Охотники вылетают, ещё несколько дней будут летать. И погода скоро закроется. Всё глухо.
– Надо же, кругом непруха, – посочувствовал Стас, откручивая винты, и засмеялся. – Смотри-ка, в рифму получилось.
В дверь ввалились Матвеич и остальные, отряхивая снег с валенок.
– Ну как там в городе? – спросил Матвеич, протирая очки.
– Да так, всё нормально. Дела идут. Проект пишется…
– А мы сегодня, видал, домики привезли, пару штук. Четыре на четыре метра. На днях опять туда сгоняем. А потом начнём ставить. Вот только на рыбалку сбегаем. Ребята говорят – омуль подошёл, большой косяк. Сейчас вот сяду, настрой приготовлю.
– Ладно, – говорю. – Только сперва давайте продукты на участок отложим. Вдруг завтра полечу? Вон у Стаса список, Альберт передал.
Матвеич нацелил очки в бумажку, потом сказал:
– За ними ехать надо, покупать. А магазин до шести.
– Так сейчас только пять.
– Может, завтра? С утреца. – Матвеичу не терпелось взяться за подготовку к рыбалке. Эти рыбаки – больные люди, не раз замечал. Маньяки какие-то.
– Да нет, давайте, Иван Матвеич, сегодня.
Матвеич поворчал, но надел шапку и сказал водителю:
– Ладно, Николай, поехали. Ну а вы, – обернулся он к плотникам, – завтра приходите. Ледобур-то есть у кого?
– Я возьму, – отозвался один из парней. – Только бормаш ещё нужен. Не подкормишь – не поймаешь ничего.
– А это что такое?
– Бормаш-то? Рачки такие маленькие. Без него за омулем не ходят.
– Где ж его брать?
– Люди ловят. Я знаю, у кого можно купить.
– Тогда со мной поехали. Эх, вот бы будочку сколотить… Ладно, потом сколотим.
Не понравились что-то мне эти рыбацкие разговоры. Нет, я тоже люблю рыбу ловить, но без фанатизма, и мне даже везёт иногда. Вот в прошлом году строил я со своим взводом дорогу к заставе на берегу Амура. Шёл как-то утром к недостроенному мостику через ручей и услышал: среди обрезков досок кто-то плещется. Пошарил рукой – вроде рыба какая-то. Я перегородил ручей досками и вверх, и вниз по течению, чтобы она не смогла никуда уйти, потом долго ловил её руками и наконец изловчился выкинуть на берег. Это оказался здоровенный язь, килограмма на два. Рыбина долго лежала на берегу, пока мы мостик достраивали, и спустя несколько часов всё ещё иногда разевала рот. А в обед мы на заставе всем офицерским корпусом её с большим удовольствием слопали, зажаренную. Да к тому же она икряной оказалась, мы из неё полный стакан икры выдавили. Начальник заставы капитан Гнедой всё не верил, что я её руками поймал. А замполит Лёня Таран сказал, что язь (или уж сазан это был, не помню) как раз в тёплое время года нерестится и любит заходить в такие вот маленькие притоки… Но у меня и мыслей не было, чтобы бросить всё и начать обшаривать ближние ручьи в надежде снова поймать что-нибудь подобное. А что, свободно. Офицеры с заставы мне не указ, а командир моей инженерно-дорожной роты – на соседней заставе, километров за пятьдесят вверх по течению. Сюда он не ездил, я держал перед ним отчёт по телефону вечером. И дня на два можно было взвод оставить на сержанта Пономарёва, а самому заняться чем-то для души – вот рыбалкой той же.
Но что делать – я Матвеичу не начальник. У меня задача – залететь на участок с продуктами. А за строительство базы он сам отвечает. Вот пусть и строит.
Стас сидел в своей каморке и ковырялся во внутренностях рации.
– Схема-то есть? – спросил я у него.
– Да ну, какая схема, – фыркнул он. – Данному телефункену триста лет в обед. Музейный раритет… Ого, снова в рифму!.. Сейчас везде аппаратура на транзисторах, а эта ламповая. Видал, какая громоздкая. Отдельно передатчик, отдельно приёмник. А что я могу – только контакты проверить. Вроде всё цело…
Он включил рацию и подул в микрофон, потом проговорил:
– Раз, раз, раз… Ну нет индикации на выход, и всё.
– Ладно, сиди думай, – напутствовал я его, а сам вышел на крылечко покурить.
В открытые ворота въехал наш «трумэн». Матвеич вылез из кабины и доложил:
– Вот, всё по списку купил, чего они заказывали.
– Хорошо, давайте в дом перетащим.
– Главное, бормаша я достал, – похвалился Матвеич. – Эх, завтра как начнём таскать!..
– Не говорите «гоп», – остановил я его. – И вообще вы сюда не рыбачить приехали.
– Ну, Фёдор, не понимаешь ты… Когда ещё у меня будет возможность со льда омуля половить? А домики никуда не денутся, через пару дней начнём.
Нет, с рыбаками говорить хуже, чем с инопланетянами.
4
Назавтра я не улетел. И через день аналогично. И на третий. Просвета в мою сторону не было, над посёлком висела низкая облачность. Охотники тоже не летали. И самолёты не садились, но Олега в аэропорту я встречал каждый день и соболезновал, что некого ему штрафовать. Он только посмеивался. Диспетчеры менялись: после Пети появился Евгений Степанович, бывший лётчик, его сменила Людмила, женщина лет тридцати пяти. Узнав, что прогноза хорошего нет и вряд ли будет, я возвращался в наш домик и тосковал от безделья и от того, что время идёт, а я никак не могу сменить Андрея.
Стас так и не смог наладить передачу, к тому же у него вдобавок и аккумулятор сел, и теперь не было ни передачи, ни приёма. Матвеич с плотниками всё таскался на рыбалку. Тем более что связь не работала и ему не надо было отчитываться перед руководством, как идут дела. Но у него ловилось так себе, а плотники улов уносили домой. Стас, убедившись, что рацию отремонтировать не сможет, влился в рыбацкую компанию. Водитель Гуреев с утра стал куда-то уезжать на весь день.
От нечего делать я обошёл весь посёлок, разузнал, где почта, где магазины и прочие нужные учреждения. Между прочим, выяснил, что здесь и геологи, кроме нас, есть: разведочная экспедиция и наука из академгородка. Но просто гулять по улицам скоро наскучило, это ведь не в городе. Посмотреть абсолютно не на что. А валяться на спальнике и читать журнальчики я не мог. Всё думал, какой же ход предпринять, чтобы хоть на час завладеть вертолётом. И не находящая реализации кипучая мозговая деятельность стала трансформироваться в нарастающую неприязнь к Матвеичу. Щиты который день лежали на снегу, их понемногу заметало, а он, радуясь, как пацан, приносил к вечеру пару хвостов и долго рассказывал, как и в каком месте он дырявил лёд, как сидел и мёрз на ветру, как вытаскивал каждую из рыбёшек, и обещал уж завтра-то обязательно поймать столько, что хватит нам и на жарёху, и на уху. Стас был ненамного успешнее его, но хоть ничего не обещал.
Поскольку связи по радио не было, я решил заказать телефонные переговоры с нашей конторой, чтобы как-то проявиться, а то из города улетел, а на участок не прибыл. Номер я взял у Матвеича, при этом будто бы случайно назвал его Ипполитом Матвеевичем, на что он, как мальчишка, обиделся. Сам он записал телефон на всякий случай, но ни разу пока не звонил, видимо, держа в уме, что чем меньше о тебе начальство знает, тем крепче будешь спать.
В небольшом зальчике междугородней связи было всего две кабинки, а единственная телефонистка сидела тут же, за барьером, и даже стекла никакого не было. Перед ней стоял громоздкий пульт, куда она то и дело втыкала наконечники проводов. От пульта через барьер доносилось:
– Алё!.. Алё-о!.. Дежурненькая, дай мне Кумору… Ну, дежурненькая, он уже второй раз приходит, и никого…
– Да! Да, межгород. Обождите минутку… Тонкошкурова вызываю… Иркутск, говорите!
– Алё! Да, слышу… Ну так чё сделаешь, если у них тяму нету. Ну опять вызову, ждите…
Минут через сорок подошла моя очередь. Я объяснил Вадиму Семёновичу, что у нас сломалась рация, Стас починить не может, поэтому нужно прислать опытного радиста для ремонта. А также аккумулятор. Обрисовал ему ситуацию с вертолётами. Начальник партии сказал, чтобы я был понастойчивее в аэропорту, потому что Андрей очень нужен в городе. Конечно, я пообещал, хотя и не знал, как этого добиться. Голодовку им там объявить? Напоследок он спросил, как дела у Матвеича. Я начал отвечать что-то вроде «дела идут», и тут закончились мои три минуты. С облегчением я подумал, что соврал не сильно, потому что часть домиков он же всё-таки привёз, а всю правду я просто сказать не успел. Хотя, честно говоря, и не собирался. Пусть Матвеич сам про свои дела говорит. А ябедничать на него я не буду.
Вечером, понукаемый жаждой хоть какой-нибудь полезной деятельности, я решил организовать производственное совещание. Матвеич, неискушённый в геологической субординации, слава богу, не собирался выяснять, кто из нас тут главнее, и молча признал за мной право такое совещание проводить. Первым делом я спросил у него, когда он закончит рыбачить.
– Толку с вашей рыбалки, Иван Матвеич, всё равно мизер. Да мы и без рыбы проживём, на консервах. Или вон налимов можно в магазине купить. А жильё не строится. Через полтора месяца люди из города станут приезжать, к сезону готовиться. Где им жить?
– Да я все хитрости у местных разузнал, – обиделся Матвеич. – Просто не везёт мне. Косяк, может, через день-два уйдёт… А дома́ собрать из щитов за пару дней можно.
– Ну, за пару вряд ли, – отозвался один из плотников, Сергей. – Пара дней только на сборку одного домика нужна. А потом стыки утеплить надо, окна вставить да печки сложить. А стекла-то пока нету. Да и кирпича тоже.
Матвеич, не ожидавший, что в бригаде созрела оппозиция, что-то невнятно буркнул и замолчал.
Ободрённый поддержкой, я повысил голос.
– А куда машина каждый день уезжает? Видите, тут и кирпич, и стекло надо привезти, да и, наверное, много чего.
– Пакли тоже нет, – добавил Сергей.
Гуреев молчал, будто это его не касалось. Матвеич, помявшись, сказал:
– Тут такое дело… Мы позавчера с Николаем выпили немного и поехали в посёлок. За куревом. Нас гаишники засекли. Права отобрали. Теперь вот Николай к ним ездит, отрабатывает.
– Учти, Матвеич, я ехать не хотел, – подал звук Гуреев. – Пусть геолог знает. А то пойдут разговоры – Гуреев алкаш, то да сё…
– Ну, Матвеич, ты прямо как ребёнок. – Я незаметно для себя назвал его на «ты». А как иначе, если он, действительно, хуже маленького. А ведь мужику за сорок. – За куревом мог бы и пешком сходить. Самому-то не смешно?
– Да ладно, Фёдор, завтра начнём, – сдался Матвеич. – Поедем за остальными домиками. Всё будет нормально.
– Куда я без прав поеду? – вскинулся Гуреев. – Не раньше чем через неделю. Тут или штраф мне платить, да ещё в контору сообщат. Или вот батрачить, пока всё не сделаю.
– А чего им надо-то? – спросил я.
– Да они же вечно побираются! То бензину им дай, то дров привези. А тут придумали брус да доски с пилорамы возить, собираются пристрой себе делать, расширяются. Как вывезу всё, так и отдадут права, обещали.
Тогда я переключился на Стаса.
– А ты, Стас, чем на рыбалку бегать, попробовал бы в посёлке радистов найти. В том же аэропорту. Или в ПОХе, у них же должна быть связь с охотниками. Может, там и аккумулятор можно зарядить.
– А где этот ПОХ?
Я начал закипать.
– Тебя за ручку отвести? Сам найдёшь, не маленький. Связи нет, а ты развлекаешься тут…
Когда всё обговорили и высыпали на двор покурить, ко мне подошёл Сергей.
– Фёдор…
– Можно без отчества, – разрешил я.
– Я давно вижу, что хреновиной он занимается, – начал он про Матвеича. – Но как я ему об этом скажу? У нас всё равно повремёнка, мы своё получим. А он с этой рыбалкой… А ловить не умеет, тут же крючки без засечек, самодельные. Из иголок швейных мы делаем, сами гнём над свечкой. Я ему показывал…
– Ладно, Серёга, давайте завтра домики начинайте строить.
– Да я думаю, что он и не знает, как их собирать. Вот и оттягивает. А я их ставил, где сейчас мехколонна сто тридцать седьмая. В конце посёлка.
– Пусть он у вас и поучится. Вдвоём-то справитесь?
– Ну конечно. Мы с Витюхой вместе у бамовцев и работали. Только иногда надо, чтобы третий помогал. Вы ему сами скажите.
5
До армии я думал, что два года из моей жизни будут бесполезно вычеркнуты. По складу характера человек я вовсе не военный, командовать не умел, да и стеснялся, а огороженная со всех сторон уставами армейская жизнь, усугублённая самодурством некоторых тупых начальников, претила мне до самых печёнок. И во время службы, мотаясь по льду Аргуни между заставами с колоннами машин на зимнем завозе или строя мосты и дороги в тайге летом, я постоянно считал дни, оставшиеся до увольнения в запас, вычислял, сколько процентов срока прошло и сколько осталось. Но к концу службы мне удалось немного освоиться в этой специфической среде. Выработал у себя командирский голос, научился добиваться подчинения «дедов» и водку привык пить часто и помногу – без этого, оказывается, невозможен быт офицера. По крайней мере, на уровне от прапорщика до капитана, на более высший уровень мне заглянуть не удалось. В общем, перед самым дембелем мне добавили на погоны по звёздочке, и я щеголял по части старлеем, с видом бывалого вояки просвещая молодых лейтенантов, только что прибывших из училищ. А начальник штаба майор Паламарчук предлагал мне остаться служить и дальше, обещая дать в подчинение роту. Конечно, я категорически отказался.
Всё, что ни делается, к лучшему, сказал кто-то, и это действительно так. По крайней мере, мне пригодился благоприобретённый командирский голос. Видимо, во время устроенного мной совещания он произвёл впечатление и на плотников, и на радиста, и даже на Матвеича. Во всяком случае, когда я установил распорядок дня и расписал очерёдность дежурств по приготовлению еды, никто не пикнул против. До этого, вернувшись из аэропорта где-то около десяти часов, я заставал Стаса и Матвеича ещё в спальниках. Продрав глаза, они начинали соображать что-нибудь насчёт покушать. Гуреев уезжал на барщину к гаишникам голодный, перекусив что-нибудь всухомятку. Плотники, видя такое дело, являлись из посёлка ближе к обеду.
Теперь же, с неожиданной лёгкостью наладив трудовую дисциплину, я понял, что сам на этом бурлящем деятельностью фоне выгляжу как-то нехорошо. Все с утра были при делах, даже Стас. В том же ПОХе, как я и говорил ему, он познакомился с радистом, за бутылку тот ему наладил рацию (там чепуховая неисправность была), за вторую бутылку зарядил аккумулятор, и мы через оживший эфир отменили приезд радиста из города. А я так и не мог дождаться своей очереди на вертолёт. Придя утром домой после визита в аэропорт, я не знал, чем заняться. Помогать плотникам? Они и сами справлялись, Матвеич только изредка выходил что-то поддержать или подпереть. А больше придумать было нечего. Хотя Стас бездельничал от сеанса до сеанса, а Матвеич большую часть дня тоже был не при делах, оба держали себя так, будто работали не покладая рук. И я начинал страдать от собственной бесполезности.
Надеясь на какое-нибудь чудо, я стал наведываться в аэропорт и днём. Попытался поговорить напрямую с пилотом «двойки» Хитренко, он посмотрел, где это на карте, но сказал, что, пока не выполнит заявку ПОХа, к другим заказчикам не полетит. Я никогда бы не подумал, что в тайге всю зиму живёт столько охотников. И когда погода наконец наладилась, они всё летели и летели в посёлок, а Павел Сергеевич, встречая с машиной садившийся вертолёт, на меня и внимание обращать перестал. Иногда, правда, вертолёт мог неожиданно улететь в какую-нибудь дальнюю деревушку за больным. Рейсы по санзаданию выполняются без очереди. Конечно, какая там очередь, если человеку врач нужен. А летом, оказывается, так же без очереди летает авиалесоохрана. Чтобы патрулировать с воздуха тайгу, засекать, где горит, а потом забрасывать людей тушить пожары. Хорошо, что пока не лето…
Как-то раз Евгений Степанович посоветовал мне поговорить с Мухиным, командиром Ми-восьмого, большого вертолёта.
– Он на Даван за опорами ЛЭП летает, потом несёт их на подвесе в сторону Кичеры. Вот пока на Даван идёт, может к тебе завернуть.
– Сейчас взлетать будет, – добавил он.
И я подумал – почему бы и нет? Конечно, час его полёта по стоимости раза в три дороже, но главное для меня – всё-таки добиться наконец результата, а там… Победителей, как говорится, не судят. А если по пути, то, может, и платить за рейс не придётся.
Но я сделал большую тактическую ошибку. Вместо того чтобы дождаться, когда «восьмёрка» вернётся из очередного рейса и не спеша поговорить с командиром, я тут же выскочил из диспетчерской и побежал к вертолёту, уже запустившему двигатели. Пилот отодвинул стекло кабины, и я совершил вторую ошибку, ляпнув:
– Вы на кого сейчас работаете?
– А вам-то какое дело? – сурово спросил Мухин.
Ну, неправильно я задал вопрос! Конечно, чего это он будет передо мной отчитываться? Поняв, что дело моё пропащее, я всё-таки прокричал:
– Мне продукты надо на участок завезти…
– Некогда, – ответил командир и задвинул стекло. Стрекозиные лопасти винта слились в один полупрозрачный круг, потом вообще исчезли, машина поднялась прямо надо мной и, накренившись прозрачным носом пилотской кабины вперёд, ушла в небо.
После такого фиаско обращаться к Мухину в другой раз не было смысла. Да и вряд ли бы он вообще согласился. Тут стройка века, ЛЭП надо тянуть, и чего ради он будет отклоняться от маршрута, чтобы садиться с подбором площадки где-то в снегах из-за одного паренька и полусотни килограммов груза?
Потом опять пришла непогода. Серые тучи залепили весь окоём, не оставив ни малейшего просвета, и то и дело сплёвывали на посёлок мокрый снег. Лёд на озере потемнел, от некогда обширной «камчатки» сохранилось всего с десяток фанерных сооружений, в которых продолжали надеяться на фарт самые упёртые рыбаки. Прочие растащили свои будки по дворам до следующей зимы. Гуреев выручил наконец у гаишников свои права, и Матвеич за три рейса привёз остальные домики. Два дома были полностью собраны, плотники расчищали снег под третий. Сделать остекление и сложить печки решили после, когда все домики будут поставлены.
Днём я находил себе занятия: колол дрова, топил печку и часто, нарушая собственноручно составленный график дежурств по кухне, варил обеды и ужины. А вечерами ничего общественно полезного совершить было нельзя. И мы с Матвеичем и Стасом играли в карты. Сначала в «дурака», потом я обучил их игре в «храп», которую узнал на практике в Забайкалье. Играют в неё на деньги, причём первая ставка совсем безобидная: по копейке. Но банк растёт в геометрической, или какие ещё там бывают, прогрессии, да к тому же случаются обязаловки без возможности паса, поэтому быстро можно проиграть десятки рублей. Или выиграть. Очень щекочет нервы. В армии я однажды за один вечер выиграл у своего ротного, капитана Кизеева, сто двадцать рублей. А он сказал, что это солдатское довольствие, и я ему эти деньги вернул. Хотя капитан, конечно, меня обманул, просто ему жалко было столько проигрывать. Это раньше карточный долг был долгом чести, люди даже стрелялись из-за него…
Потом карты наскучили, и мы разобрали упавший с подоконника будильник, который всё равно больше не ходил, вытащили какую-то шестерёнку и крутили её на столе, как волчок, засекая время: у кого дольше? Сначала рекорд был пятьдесят семь секунд, потом дошли до восьмидесяти одной. Гуреев только головой качал.
В непогожие дни я в аэропорт не ходил, а придя в ясный день, узнавал, что охотники до сих пор не все вылетели. Павел Сергевич и сам начал нервничать, потому что ко всем прочим помехам – нелётной погоде и санзаданиям – добавилось известие, что кончается керосин для вертолётов. Наливники застряли в снегах где-то на Даванском перевале, и когда они доберутся до посёлка, было неизвестно.
Однажды я посчитал, сколько дней прошло с момента моей первой попытки улететь. Оказалось – кончается одиннадцатый. Вадим Семёнович сам на связь приходил редко, но я подозревал, что он очень недоволен. Составление проекта работ сильно застопорилось, ведь и я уехал, и Андрей не появился. И я начал подумывать о том, чтобы попробовать обойтись без вертолёта. До бамовского посёлка Гоуджекит можно доехать с Гуреевым, а оттуда, судя по карте в диспетчерской, до участка всего четыре километра. Правда, на местности придётся идти не прямо, а по изгибающимся распадкам, да ещё и подниматься метров на четыреста в горы, по глубоким снегам, так что лёгкой прогулки не получится. Если бы с кем посоветоваться…
Но на следующее утро Андрей сообщил по рации, что он решил выйти завтра с участка в Гоуджекит на лыжах, если с вертолётом ничего не получается. А мы должны отправить туда машину и встретить его. И я подумал: ну, он словно мысли мои прочитал.
– Сорок восьмой, я полста пятый! Андрей, а может, я тоже приеду? Лыжи у тебя возьму и по твоему следу поднимусь на участок. Продуктов, правда, много не смогу взять, но хоть что-то. А потом Матвеич остальное отправит.
– Ну, правильно решил. Только давай тогда встретимся пораньше, а то не успеешь засветло дойти. Приезжайте часам к десяти. А я выйду рано утром, до связи. Встретимся у почты, это прямо на трассе.
– Всё, договорились.
– Спальник можешь не брать, я тебе свой… – успел сказать Андрей, и эфир стал трещать и завывать от какой-то налетевшей помехи. Стас пытался подстроиться, но не мог.
– Да не надо, Стас, всё и так понятно. – Я передал ему наушники и прямо-таки возликовал от того, что наметился хоть какой-то сдвиг в моем беспросветном существовании. И тут же начал собираться – отложил из коробок, стоявших в углу, с десяток банок тушёнки, скумбрию в томате, чай, сахар, макароны, сигареты для Альберта и папиросы для себя, упаковал всё в рюкзак, взвесил на руке – килограммов десять-двенадцать. «Ладно, дотащу, – подумал я, – поменьше курить буду, почаще отдыхать».
– Дорогу-то знаете? Бывали там? – спросил я Гуреева, озвучив за ужином наше с Андреем решение.
Гуреев усмехнулся.
– В прошлом году. Так вдоль БАМа одна дорога. Не заблудимся, поди.
Он допил чай и сказал:
– Поеду заправлюсь. А то Эльвира в восемь домой уходит. А утром у неё очереди большие. Время потеряем.
6
Утром Гуреев задолго до рассвета разогрел машину, я тоже встал пораньше, мы с ним попили чайку с бутербродами и тронулись. За пределами посёлка я ещё не был, и теперь в бледном утреннем свете с любопытством поглядывал то вперёд, то в боковое окошко. Сначала, виляя, долго тянулась поселковая улица, потом мы переехали по длинному деревянному мосту через какую-то речку и скоро спустились по пологому съезду на лёд Байкала. У берега лёд был очень неровный, бугристый, а кое-где и с торосами, машина тряслась, Гуреев только успевал руль крутить туда-сюда. Но на гладкий лёд, простиравшийся мористее, дорожная колея не выходила. Я спросил Гуреева, почему не ездят там.
– Опасно. Можно в щели становые попасть. Они вдоль всего берега тянутся. Так что туда лучше не соваться.
Справа высились скальные утёсы, отвесно обрывавшиеся прямо в Байкал.
– Как же тут рельсы-то будут класть? – недоумевал я. – Неужели под скалами насыпь сделают?
– Я слышал, здесь собираются тоннели пробивать мысовые, – отозвался Гуреев. – Сквозь утёсы. А между тоннелями будут склоны взрывать и выравнивать. Внизу насыпь под рельсы тоже сделают, только временную. Пока тоннели не построят.
Проехав километров двадцать пять, мы выбрались со льда снова на берег. Дорога шла по просеке среди тайги. Но скоро машина выехала на длинную прямую улицу, образованную двумя рядами сборно-щитовых домов.
– Здесь город будут строить, – сказал Гуреев. – Только название пока не придумали.
Он остановил машину, вышел и попинал скаты, потом присел на корточки, заглянул под передок.
– В прошлом году здесь только три дома стояло, – сообщил он мне, залезая обратно в кабину, и завёл мотор. – Ну что, двинем?
– Давайте. Сколько отсюда ехать?
– Километров сорок.
– Времени почти девять. А нам к десяти надо. Успеем?
– Дорога длинная, – уклончиво ответил Гуреев.
Было видно, что ему не понравился мой вопрос. Шофёры – люди суеверные. Как, впрочем, большинство из нас. Но чёрная кошка, пустые вёдра, число «тринадцать» – это понятно. Тёмное наследие прошлого. А вот почему, например, космонавты, люди вроде отважные и без предрассудков, перед полётом тоже всякие ритуалы соблюдают? По понедельникам не стартуют. Накануне обязательно смотрят фильм «Белое солнце пустыни». В полёт берут бутылку водки, на которой всем экипажем расписываются, и после удачного приземления выпивают её. И все писают на колесо автобуса, который везёт их к месту старта. А то, мол, полёт будет неудачным. И ведь все прекрасно понимают, что тут никакой связи нет, но вот поди ж ты… Что там говорить о Гурееве, у которого, как только мы отъехали от будущего города, вдруг заглох мотор.
– И надо было вам про время спросить! – в сердцах сказал он, несколько раз безуспешно повключав стартёр.
– А что такое?
– А то. – Он вышел из кабины и откинул створку капота сначала с одной, потом с другой стороны.
Я тоже вылез.
– Искра есть? – спросил я и тут же замолк. Потому что в армии в подобных ситуациях какой-нибудь майор-политработник, ехавший в моей колонне пассажиром читать лекции на заставах, обязательно задавал водителю этот же вопрос, хотя сам ничего не понимал в двигателях. Но ему вот непременно надо было как старшему по званию возглавить процесс поиска неисправности. Со стороны это выглядело смешно.
Гуреев молча копался в моторе. Потом выругался и сказал:
– Бензонасос крякнул.
Он вытер руки ветошью, походил около машины и сказал, глядя в сторону:
– Дорога – она дорога и есть. Куда надо, туда и приведёт.
Я молчал. Гуреев тоже помолчал и закончил:
– И чего спрашивать? Это же дорога.
Я чувствовал себя виноватым, вот только не знал, в чём. Ну ладно, не надо было спрашивать. Чёрт бы побрал все эти приметы… Но разве сам Гуреев не мог вовремя заметить, что бензонасос у него скоро выйдет из строя? А если даже и не мог, то при чём здесь я? Это же техника, она имеет обыкновение ломаться иногда. И потом, у хорошего шофёра всегда должен быть запас под рукой.
И я спросил:
– Запасного-то нет?
– Да откуда. – Гуреев закурил. – Ремкомплекта – и то нет… Я в прошлом году завгару говорил: дайте хоть немного запчастей. А то ни трамблёра, ни карбюратора… Две свечки всего на запас. Ключи – и то не все… Хотя, если запчастей нет, зачем тогда и ключи.
– Бардак, – сказал я. – И что теперь делать?
– Снять штаны да бегать, – ответил Гуреев. Он докурил папироску и посмотрел на меня. – Здесь на БАМе я что-то ни одной «ступы» не видел. Сплошные «Магирусы». Ну, КрАЗы встречаются.
– Что это за «ступа»?
– Так вот она и есть, – хлопнул Гуреев по двери кабины. – «Трумэн», «ступа», а ещё «бабай», «колун», «крокодил»… Хорошая машина. Руль только тяжёлый, без гидравлики.
Он закрыл капот и укутал его стёганым утеплителем. Потом снова закурил.
На дороге из «города» показался легковой уазик. Гуреев, махнув рукой, тормознул его и поговорил с водителем. Вернулся ко мне.
– Тут сейчас вроде есть одна, – сказал он. – Лесхозовская. Деляну там лесники отводят, вырубать под следующую улицу. Вдруг у них запасной насос найдётся?
– Так шофёр же не даст. Сам-то с чем останется?
– Ну, может не дать, конечно. Если только хорошо попросить… – Он пристально взглянул на меня, потом под ноги и сдвинул шапку на затылок. – Да нет, самому мне надо. У вас деньги какие-нибудь имеются?
– Сколько?
– Без бутылки не обойдёшься. У меня рубля два с собой. Трёшку дадите? Потом Матвеич отдаст. Оформит как-нибудь.
Я полез в карман.
– Только вы, Николай, не очень там. А то снова без прав останетесь.
Гуреев возмутился:
– Да я вообще за руль выпивши не сажусь. Это с Матвеичем тогда бес попутал. Вот пристал он ко мне: поехали да поехали…
Он взял в кабине рукавицы, потом достал из кузова топор и бросил на дорогу. Спросил меня:
– Спички есть? Костёр разводите и ждите меня. Машина-то остынет скоро.
– Так воду же надо слить, наверное.
– Не надо. Часа три она простоит, а я-то всяко-разно за это время вернусь. Да и где потом воду-то брать? Снег топить?
Он остановил проезжавший мимо «Магирус» и скрылся в его большой кабине. Самосвал пыхнул в меня чёрным соляровым дымом и покатил в сторону «города».
Я подобрал топор и шагнул с дороги в снег по колено. Да, стыковка с Андреем, кажется, сорвалась. Даже если часа через три Гуреев вернётся «со щитом», надо будет снять старый бензонасос и поставить новый. Сколько на это нужно времени, я понятия не имел, но наверняка не пять минут. А потом ещё ехать до Гоуджекита. И выходило, что до условленной почты мы сможем добраться только к вечеру. Не будет же Андрей околачиваться там всё это время. Тогда где его искать?
Ладно, сначала костёр зажгу. Нашёл тонкую сухую лиственницу, невдалеке другую такую же. Парочки штук мне пока хватит. Размахнулся, рубанул раз, другой и посмотрел на лезвие. Типичный шофёрский топор: тупой, зазубренный, с топорища слетает, а само оно чёрное, как головёшка, всё в мазуте. Кое-как свалил один ствол, обкорнал ветки, разрубил дерево на метровые поленья. Содрал кусок бересты и через пять минут грел руки над разгорающимся пламенем. Простое дело – разжечь костёр, но я, городской человек, долго не мог это освоить. Однажды на практике вообще опозорился. Выпало нам с одной девчонкой из томского универа по кухне дежурить. Встали мы пораньше, я принёс воды, она начала рис промывать или там гречку, а я стал огонь добывать. Вернее, добыть я его добыл, со спичками-то, а вот костёр не загорался. Чего я только ни делал: и стружки строгал, и лучинки тонкие щепал, и крафт-бумаги для обёртки образцов с полкило извёл, и дул в появившиеся угольки – только в саже испачкался да дыму наглотался. Из глаз слёзы текут, стал я их протирать – засорил чем-то, смотреть не могу. Побежал на ручей промывать. А возвращаясь, издалека увидел, что костёр горит, вёдра над ним висят, а моя напарница смотрит в мою сторону с нехорошей усмешкой. Я пролепетал ей что-то про свои глаза, она издевательски покивала и склонилась над вёдрами. Но хорошо, что никому она не рассказала, какой у меня вышел конфуз. Я же с тех пор стал уходить один в лес и там тренироваться. Не сразу, но стало получаться, однако всё лето я заранее переживал, когда выпадало мне костёр разводить: загорится или нет?
Пару раз возле меня останавливались машины, и водители спрашивали, не надо ли помочь. Я отвечал, что всё нормально. День стоял пасмурный, мороза большого не было. Интересно, летают ли сегодня вертолёты? Хотя зачем теперь мне это. По земле доберусь.
Если всё сложится… Ну, добудет Гуреев эту железяку, приедем мы в Гоуджекит. Хорошо, если найдём Андрея, тогда вместе переночуем где-нибудь, и он покажет, где начинается его лыжный след. А вдруг мы где-то разминёмся? Лыж у меня нет, а без них идти в горы бесполезно. Значит, надо будет возвращаться обратно. Скорее всего, Андрей, не дождавшись нашей машины, будет искать попутку, чтобы добраться до базы… А если у Гуреева ничего не выйдет, и он вернётся ни с чем? Тогда придётся отбуксировать машину хотя бы до «города», там просить кого-то присмотреть за ней, а самим ехать к себе в посёлок, заказывать бензонасос по рации и ждать, когда привезут… В общем, по-любому большая предстояла морока. И кто знает, может, быстрее мне будет всё-таки вертолёта дождаться.
А там Альберт в одиночестве остался… Это охотники могут в тайге всю зиму сами по себе жить. Да и скучать им некогда. Надо каждый день путики обходить, проверять капканы и самоловы, потом вечером в зимовье ужин варить себе и собакам, шкурки снимать, на правилки натягивать. И много у них всяких прочих забот. А тут городской паренёк, один в горах зимой. Одному вообще плохо быть… На той же практике начальник нашей партии взял на работу старшеклассников, которые хотели в каникулы подзаработать. Помогать геологам в маршрутах, пробы на канавах отбирать, всякие хозработы в лагере делать. И был среди них такой Лёха Данилов. Однажды вся партия уехала километров за десять от лагеря «на выброс» – картировать отдалённую часть площади. Лёху оставили сторожить. Дня через четыре возвращаемся – где Лёха? Покричали. Молчание. Ещё покричали – отозвался. Оказывается, спал на дереве, привязанный. Кто тебя привязал? Сам. Что ты там делал? От медведя прятался. А что, медведь приходил? Нет, но я подумал, что, если придёт, лучше я буду на дереве сидеть… И ведь так и просидел он там с первого дня, спускаясь только в туалет сходить. Ничего себе не варил, ел тушёнку, сухарики грыз да чай холодный пил. А Альберт-то года на три всего старше…
7
День перевалил далеко за половину, а я так и подкладывал дровишки в свой костерок и провожал взглядами машины, идущие со стороны «города». Но Гуреева всё не было. Я начал думать – загулял-таки мужик. Полез под «ступу», чтобы поискать краник да слить воду, а то кончим двигатель – совсем плохо будет. И тут рядом остановилась какая-то машина, и голос Гуреева спросил:
– Там теплее, что ли?
Я вылез.
– А я собрался воду сливать. Краник вот только где – не знаю.
– Сколько времени прошло? – спросил Гуреев.
– Да три часа уже… и десять минут.
– Ничего, сейчас поедем.
– Достали? – обрадовался я.
Гуреев кивнул:
– Уговорил. За бутылку. Но пришлось хоть пива с ним выпить. Иначе не хотел давать. Нормальный мужик.
Он открыл капот и начал отвинчивать старый насос. Я стоял рядом и смотрел. Оказывается, это быстро делается. Не прошло и пятнадцати минут, а Гуреев поставил новый, покачал пальцем какой-то рычажок – и коротко сматерился. Я спросил, в чём дело. Гуреев показал:
– Видите?
Он снова покачал. На корпусе насоса сбоку показались капли.
– Вот запчасти делают! Пропускает… И в поддоне теперь наверняка бензин, масло придётся менять.
– Да, дела.
Гуреев снял насос, развинтил его на две половинки и свистнул:
– Ну, диверсанты, как по-другому сказать! Смотрите, литьё с кавернами. Тут никакая прокладка не поможет. Притирать как-то надо…
Он положил половинки на подножку и молча полез под машину. Повозился там, и в снег полилась струйка воды.
– Ведь новый вроде, нехоженый. В смазке…
– А как же ОТК? – подал я голос.
Гуреев хмыкнул.
– Наверняка в конце месяца делали. План гнали. Тут и ОТК что хочешь пропустит, лишь бы без премии не остаться.
Он повертел в руках только что снятый старый насос.
– Или попробовать из двух один собрать…
– Давайте перекусим сначала. Обед-то давно прошёл.
– Ладно.
Начало смеркаться, дневное тепло сменилось явственным вечерним морозцем, а Гуреев из двух агрегатов всё пытался смастерить один. Он позвякивал ключами, зачищал детали напильником и шкуркой, ронял на снег и искал, ругаясь вполголоса, какие-то «шаёбочки», изредка закуривал и подходил к костру погреться. Наконец всё собрал, поставил на место, попробовал покачать вручную, остался доволен, потом начал масло в двигателе менять, а я стал снег топить. Хорошо, что в кузове два ведра оказалось. Одно, правда, сильно помятое было и протекало сквозь пару дырок, так что доверху не наполнялось. Но воду мы довольно быстро залили, и Гуреев стал заводить мотор. «Ступа» сперва затарахтела, чихая, потом, набрав обороты, загудела ровнее.
– Ну что, куда поедем? – спросил Гуреев. – Туда или обратно?
Я только собирался рассказать ему свои соображения, как вдруг проносившийся мимо ГАЗ-66 мигнул фарами и посигналил. Я открыл дверь кабины и посмотрел назад. Метрах в тридцати машина остановилась, и из кабины кто-то спрыгнул. В сумерках я узнал-таки фигуру Андрея. Он махнул мне рукой, залез в кузов и сбросил на дорогу рюкзак и связанные лыжи с палками. «Шишига» тронулась дальше, а мы с Андреем обнялись.
– Я так и подумал, что у вас, наверное, машина сломалась, – сказал Андрей, когда я сообщил ему, почему мы до сих пор здесь торчим. – Потом решил, что самому надо как-то добираться. И чуть мимо вас не проскочил.
По темноте ехать в Гоуджекит не было смысла, и мы развернулись. Андрей надеялся утром попасть на самолёт до города, а нам с Гуреевым завтра надо было начинать всё сначала.
– Ну как там, на горе? – спросил я.
– Да всё в порядке. Скучно только. Книжки я брал – все прочитал… На улицу выйдешь – тишина, даже птиц не слышно. Один раз только ворона какая-то залетела сдуру. Шарик наш её облаял, и она больше не появлялась. А так никакого разнообразия. Хорошо, что дрова надо готовить. Выйдем с Альбертом, свалим ствол, потом пилим и колем дня два. И снова делать нечего… Нет, надо всё-таки сказать Вадиму Семёновичу, что зря это дежурство затеяли. Кто туда попрётся зимой? Да и дешевле было бы вывезти всё вертолётом на Даван, это же рядом.
– Почему на Даван?
– А мы год назад хотели там обосноваться. Два домика соорудили. Это потом решили капитальную базу в райцентре строить. Потому что и аэропорт, и корабли. Легче сообщаться. Скоро и железка будет. Летом оттуда всё перевезём. А пока там тоже сторож сидит, эвенк из местных.
Я сказал:
– Ну, теперь-то поздно всё отменять. Я, наверное, последний буду на страже. Хотя больше пользы было бы в конторе. Альберт в одиночку там не свихнётся?
– Да он нормальный парень. Адекватный, – заверил меня Андрей.
Приехали мы к себе в посёлок уже затемно. Стас и Матвеич сидели и дулись в карты.
– Ну что, с приехалом! – сказал мне Стас. – Передумал подниматься?
– Сломались мы. Завтра снова поедем. Поужинать-то осталось чего?
– На печке стоит… А из города радиограмма пришла. Надо съездить на Даван, Семёна проведать. Не звонит давно. Может, деньги кончились. Отвезти просили, а то он тоже голодать начнёт.
– Я сегодня перевод получил из конторы, – подтвердил Матвеич. – Десятку ему с Николаем отправлю. Ну, садитесь, рубайте.
После ужина Андрей сказал:
– Давай карту, покажу, где я шёл.
Карты у меня не было, потому что в городе мы имели в виду только вертолёт, других вариантов даже не обсуждали. Тогда он просто нарисовал мне на листе бумаги схемку.
– От почты вот так идёт переулок. Дойдёшь до самого конца, упрёшься в гостиницу. Обогнёшь её слева, прямо за ней ЛЭП проходит. Широкая такая просека, там лыжню мою сразу увидишь. За просекой – лесок редкий, до хребта с километр тянется, а дальше войдёшь в распадок. Вот по нему и поднимайся. Там разные отвороты будут в мелкие распадки, но ты лыжни держись.
Я спросил:
– Подъём-то крутой?
– Терпимый. Помнишь, в институте на Хамар-Дабан зимой ходили? Там покруче было. Лыжи вот только не охотничьи у меня. Взял с собой, думал, побегаю, может быть. Да где там! Кругом снежные надувы, метра по два, по три. А между ними лыжню проложу – каждый день переметает… Конечно, вниз мне легче было. А на этих подниматься – только «ёлочкой». Но попробуй. Потихоньку дойдёшь.
Я посетовал, что вот охотники застолбили вертолёт надолго и никак не уступают мне даже часа, иначе не было бы этой мороки с лыжами. Андрей пожал плечами:
– Они же местные, все друг друга знают. Диспетчеры, охотники, геологи здешние. Психология! Вот погоди, обживёмся здесь, тоже станем своими. Связи постепенно устанавливаются. Мы им поможем в чём-то, они нам потом помогут.
– Но уж на час-то могли мне разрешить слетать? Всего на час!
– А ты поставь себя на их место. Приходит кто-то неизвестно откуда и требует рейс без очереди. А в тайге свои в таком же положении. У них тоже наверняка продукты кончаются. Ты бы уступил?
– Ну, у них-то оружие есть. Рябчиков, по крайней мере, могут себе настрелять. Не то что мы. Сам говоришь, там только одна ворона и была.
– Да кому какое дело… Конечно, смотря какой человек. Кто помягче, разрешил бы. А жёсткий начальник сначала своё сделает. И только в крайнем случае навстречу пойдёт. Заболел если кто или несчастный случай.
– Нет, ну должна же быть взаимовыручка какая-то, – упорствовал я.
– Так она и будет. Потом, когда связи наладятся, знакомства. А так любой тебе скажет: голодают? А чем они думали, когда залетали? Или чем начальство ваше думало?.. Знаешь поговорку: идёшь в тайгу на день – продуктов бери на неделю. А мы, выходит, сами мало взяли. Не рассчитали. Там, между прочим, хоть и не работаешь вроде, зато аппетит ого-го!
Андрей закопался в спальник и, помолчав, сказал:
– Я бы, конечно, если бы меня попросили, подумал, чем помочь. Ну, сделал бы крюк, в конце концов. Что такое один час, когда мне этих часов нужно в двадцать раз больше? Но я, видимо, никогда не буду жёстким руководителем…
Он засопел и через минуту спал, ровно похрапывая. Он и в институтской общаге засыпал почти моментально, чему я всегда завидовал. У меня же перед сном обычно всякие мысли в голове крутились. И часто приходилось насильно заставлять себя заснуть, а для этого я начинал считать слонов или верблюдов – то с нуля и до засыпания, то, допустим, с пятисот и обратно. Как в песенке:
- Если не спится, считайте до трёх.
- Максимум – до полчетвёртого…
Или представлял себе чёрное пустое пространство, в котором ничего нет, даже никаких моих мыслей. Или что-нибудь другое изобретал. Иногда помогало. А просто приказать себе: «Спи!» – не получалось. И я, наверное, тоже не смогу быть жёстким руководителем. Несмотря на имеющийся командирский голос…
8
На следующее утро мы с Гуреевым снова поднялись раньше всех. Потом подал признаки жизни Матвеич, ему надо было дежурить по кухне. Я взялся ему помогать, пока Гуреев разогревал машину. Стас, разбуженный шумом, молча глазел на нас из спальника. Проснулся Андрей и спросил:
– Ну как, погода лётная?
Вошёл Гуреев, отряхивая снег с телогрейки.
– Что, снег идёт?
Гуреев кивнул:
– Пробрасывает.
– Неужели не улечу? – сам у себя поинтересовался Андрей и вскочил. – Что за погода здесь, ёлки зелёные.
– А за окном то дождь, то снег… – неожиданно пропел Стас.
– У тебя как, связь без брака? – спросил Андрей.
Стас угукнул. Потом дошло, и он захохотал.
– Тогда передашь Альберту, что я доехал. А Фёдор сегодня поедет, вчера не мог. Может, к вечеру доберётся.
Матвеич сказал, обращаясь к Андрею:
– Вадим Семёныч пусть не беспокоится. Дома будут в срок. Как штык.
– Пуля дура, штык молодец, – снова пропел Стас.
– Настроение в коллективе бодрое, – отметил Андрей. – Так и доложу.
Мы позавтракали и погрузили шмотки в машину. Довезли Андрея до аэропорта, а сами двинулись по вчерашнему маршруту. В утреннем полусвете было видно, как по дороге мела позёмка, в стёкла кабины иногда дробно стучала снежная крупа. Проехали «город», а дальше на каждом километре встречались заснеженные палатки, жилые вагончики, разная импортная техника: японские подъёмные краны «Като», японские же бульдозеры «Комацу», американские бульдозеры «Катерпиллер», те же «Магирусы». Между ними изредка мелькали наши КрАЗы и вахтовые ГАЗ-66 с будками. Где-то валили лес, где-то ровняли насыпь, сооружали мостовые опоры. Картинка впечатляющая… К половине одиннадцатого въехали в Гоуджекит. Пообедали в столовой и стали искать почту. Нашли её на первом этаже капитальной брусовой двухэтажки в центре посёлка, а на втором этаже располагалось учреждение, именуемое «строительно-монтажный поезд», вход туда был через отдельный подъезд.
Я распрощался с Гуреевым.
– Может, мне подождать немного? – предложил он. – Вдруг не найдёте лыжню? Снежок сыплет всё-таки.
– Да нет, не надо. Не такой уж он густой, всю не занесёт, – возразил я. – Езжайте.
– Ну смотрите, – ответил Гуреев. – Тогда я поехал на Даван, к Семёну. Счастливо вам…
Мы пожали друг другу руки, и он сел в кабину. А я надел поудобнее рюкзак, подхватил лыжи и пошёл искать Андрееву лыжню.
На край посёлка я вышел быстро и сразу увидел широкую просеку, на которой стояли высокие ажурные опоры, держа провода в сжатых кулаках изоляторов. Где-то здесь должен быть лыжный след. Но, посмотрев в обе стороны, на ровной снеговой поверхности я не заметил ни морщинки.
«Всё-таки занесло, – понял я, – зря отпустил Гуреева». Но тут же прогнал сожаление. Ничего не сделал, не попытался найти – и сразу сдулся. Ведь где-то же Андрей пересёк ЛЭП! Значит, если я пойду вдоль по ней, обязательно встречу хоть какие-то признаки лыжни.
За снежной полосой просеки, как и говорил Андрей, был негустой лес, просвечивающий до самого подножия хребта. Прямо передо мной за лесом виднелся распадок, справа густой лесной порослью трассировались ещё несколько. Левее распадков не было, только сплошной заснеженный склон. И я, надев лыжи, специально забрал ещё на пару сотен метров влево, чтобы наверняка, потом шагнул на просеку и пошёл направо, от опоры к опоре.
На широких охотничьих лыжах мне передвигаться не приходилось, но я сразу понял, насколько это было бы удобнее. Потому что беговые лыжи глубоко проваливались в снег, ведь на плечах был не такой уж маленький груз, и, если бы не палки, на которые я всем телом опирался, мне пришлось бы уже несколько раз кувыркнуться в сугроб. Но самое неприятное заключалось в том, что нигде не угадывалось даже намёка, что вчера здесь прошёл человек. Я пробороздил по просеке, наверное, километра два, пока не понял, что след замело напрочь. Если он был, конечно… Может, я что-то неправильно понял, и Андрей выходил где-то в другой стороне? Да нет же, вот рисунок: почта, гостиница, ЛЭП. Это снежок с ветерком мне удружили, тем более что на просеке им есть где разгуляться. Вот в лесу что-то могло бы сохраниться…
Надо зайти в этот редкий лесок и поискать лыжню там. И я повернул в сторону хребта, дошёл до леска и, углубившись немного, навострил лыжи в противоположном направлении. Проутюжил лесок на те же два километра, внимательно осматривая неглубокие ложбинки и участки, где деревья росли чаще. Там, конечно, могли бы остаться следы, но ведь Андрей шёл, где легче, то есть как раз огибал такие места. И я снова не нашёл никаких признаков лыжни.
Скинув рюкзак, я присел на упавший ствол перекурить и стал думать, что делать дальше. Опять несолоно хлебавши возвращаться в посёлок? И снова каждое утро без толку шляться в аэропорт? А потом ловить усмешечки Стаса и Матвеича, а то и Гуреева и плотников. И терять завоёванный авторитет, – а в том, что он среди них у меня был, я не сомневался… Нет, возвращаться мне нельзя. До участка всего километра три осталось. В распадке, где ветра быть не должно, лыжня наверняка сохранилась… Но в каком? Я только сейчас сообразил, что распадки, в том числе и тот, куда мне нужно, Андрей на своей схемке не показал. А я и не попросил. До того мы были уверены, что с лыжнёй за ночь ничего не сделается.
Ну что ж, надо выбрать один из распадков и пойти наугад. Если я попаду в тот самый, где Андрей шёл, будет совсем просто. А если нет, то неужели не обнаружу, когда поднимусь наверх, каких-нибудь признаков жилья: запаха дыма, лая собаки, звука топора?
Хлебнув из фляжки остывшего чаю, я посмотрел на хребет, который был совсем рядом. Вот три распадка, наиболее близкие к Гоуджекиту. Четвёртый в отдалении, там Андрей точно не мог спускаться. Значит, выбираем из трёх. Три карты, три карты… Надо рассуждать логически. Удобнее для ходьбы, конечно, левый, самый широкий. Но Андрей шёл сверху, а вверху не поймёшь, какой потом окажется самым широким. По кривизне, по залесённости – то же самое. По близости к участку – да все они, наверное, примерно на одном расстоянии… Нет, логика тут бессильна. Если я буду продолжать, то уподоблюсь тому ослу, который сдох от голода, потому что не знал, какую выбрать охапку сена из двух ну совершенно одинаковых. А у меня этих охапок даже три.
Можно, конечно, заглянуть последовательно в каждый из распадков, чтобы наверняка найти след. Но пока я гулял по просеке, а потом сквозь лесок, давно прошёл полдень. Не успею до темноты. К тому же я стал подозревать, что здесь ночью был настоящий снегопад, а не просто крупу «пробрасывало». И лыжню он засыпал, наверное, напрочь. Только время потеряю, если буду соваться во все распадки. И я наудачу направился в тот, что посередине.
Снег в распадке был плотнее, чем на равнине, поэтому сначала подниматься было легко, я просто шёл, опираясь на палки. Лыжни не было. Или не угадал с распадком, или, действительно, всё закрыло снегом. Потом уклон стал круче, и лыжи начали проскальзывать. Вот тут пришлось применять «ёлочку». Забравшись метров на сто вверх, я оглянулся. Сквозь редкие лиственницы видно было и лесок, и просеку ЛЭП, и чёрные коробочки домов в посёлке. Над ними уже замерцали огоньки фонарей. Надо спешить.
Поднявшись выше метров на семьдесят, я обнаружил, что распадок начал изгибаться, ветвиться: то влево от него ложбина утянется, то вправо. Где его основное направление, непонятно. Туда сунулся, сюда – то скалы сплошные, то бурелом. Налево пойдёшь – коня потеряешь, направо пойдёшь – опять какая-нибудь напасть… Каждая из этих ложбин могла увести меня как далеко в сторону, так и приблизить к цели, потому что я не знал, правильно ли вообще иду. Была бы карта с собой, я бы разобрался, куда идти. А так снова, как тому ослу, приходилось выбирать. Но выбирать уже не хотелось. Да и устал я, если по-честному. Не лучше ли переждать до утра, чтобы не тыкаться в наступавших сумерках неизвестно куда?
В общем, не пришлось мне себя долго уговаривать. Выбрал небольшую ровную площадку на склоне, сбросил с плеч надоевший рюкзак и стал утаптывать снег. Вытащил нож, наломал сухих веточек на лиственнице, сложил костёр, зажёг. Достал из рюкзака банку каши гречневой, разогрел на огне и съел её, потом в этой же банке растопил снег, вскипятил чаю, закурил – блаженство! Стою и топчусь у огня, поворачиваясь то спиной, то боками.
Костёр начал гаснуть, и я снова наломал веток, теперь пришлось бросать сырые, потому что сухие поблизости все обломал. Огонь никак не разгорался. И я вдруг понял, что не зря мне байка про осла на ум пришла. Только осёл-то этот – я!.. Романтика, видишь ли, заиграла. А почему бы сразу не подумать: ночью будет совсем холодно, лес засыпан снегом, валежника сухого не найти, топора у меня нет, веток со своим ножичком я не запасу на всю ночь, а без огня замёрзну, и даже если дотерплю до утра (без сна!), то не факт, что вообще найду в горах наши домики. А внизу недалеко – Гоуджекит, там люди, там жизнь, там тепло…
И я начал спуск обратно в долину. Хорошо, что луна выскочила, и на голубоватом снежном фоне чётко и рельефно были прорисованы чёрные стволы лиственниц и мои следы. Забирался я по распадку часа два, а вниз сбежал минут за сорок, пару раз чуть лыжи не сломал, втыкаясь в сугробы. А ещё через полчаса лежал поверх одеяла в гостинице, задрав повыше уставшие ноги, и прихлёбывал из кружки горячий чай.
9
Утром мне опять надо было делать выбор: или снова предпринять лыжный поход, теперь по другому распадку, или вернуться на базу и дожидаться своей очереди на вертолёт. Но первый вариант был настолько неопределённым по возможности достижения цели, что я склонился ко второму. Несмотря на то, что опять предстояли нудные визиты в аэропорт и скука ожидания. И угроза потери авторитета. Ну а что делать? Лыжню Андрея замело полностью, это ясно, а без неё, даже если я угадаю с распадком, вероятность найти наши домики была ничтожной. Значит, мне нужно сейчас выйти на дорогу и ловить Гуреева. Вряд ли он вечером сразу поехал обратно. Вернее всего будет двигаться ему навстречу. Я оставил в вестибюле гостиницы рюкзак и лыжи и пошёл на трассу.
До Давана, как мне сказали, было двенадцать километров. Сначала я решил идти пешком. Тем более что пошёл снег, плотный и густой, а машины по трассе шли в обе стороны одна за другой, и я боялся, что если сяду в попутную, то в этом потоке нашу «ступу» могу и не заметить. Но ветер бил в лицо, он залеплял мне снегом глаза, приходилось опускать голову вниз, и я подумал, что из кабины будет видно всё-таки лучше. Проголосовал и сел в «Магирус», сказав, что мне нужно на Даван, устроился поудобнее на широком сиденье и стал отковыривать ледышки с бороды и усов. Просторная и тёплая кабина самосвала с чисто работающими «дворниками» располагала к долгому путешествию. Однако минут через пятнадцать машина повернула направо и остановилась.
– Я на карьер, – сообщил мне водитель, парень чуть постарше меня. – Тут до Давана совсем недалеко. Пройдёшь портал, а от него уже рядом.
– Какой портал? – спросил я.
– Восточный, конечно, – улыбнулся парень. – Вход в тоннель, – просветил он меня напоследок.
Ну конечно, я просто забыл, что Андрей мне рассказывал про тоннель на Даване. А вот слова «портал» я не знал. А это вот, оказывается, что.
Рядом так рядом. Хотя мог бы и сразу сказать, что сворачивает в сторону. Я снова шёл по обочине, поглядывая на встречные машины. Гуреева не было. Скоро показался портал – большая дыра в отвесном обрыве. Туда заходили пустые самосвалы, а возвращались нагруженные взорванной скальной породой. Отсюда я снова немного проехал на попутке, пока водитель, усатый кавказец, не сказал: «Даван здэсь».
Спрыгнув с подножки, я увидел гладкую снежную равнину, где никаких строений не было. Только вдаль от дороги тянулась линия совсем уж низких столбов с проводами. Где же посёлок? Лишь подойдя ближе по натоптанной в снегу тропе, я увидел, что почти все дома заметены снегом вровень с крышами, а к откопанным дверям надо спускаться вниз по снежным ступенькам. Я пошёл по тропе дальше, но людей так и не встретил. Отцы семейств, конечно, на работе, а жёны и дети в такую пургу дома сидят. Тропа вывела на пробитую бульдозером в снегу дорогу. Это была траншея с отвесными бортами высотой метра три. По ней я вышел к дальнему краю посёлка и тут немного в стороне увидел торчащую из снега железную трубу, из которой шёл синеватый дымок. Труба выходила из такого же щитового домика, какие у нас на базе строил Матвеич. Спустившись к двери, я постучал. Дверь открыл мужчина с азиатским лицом, и я понял, что угадал.
– Вы Семён? – спросил я.
Он ответил утвердительно.
– А я геолог, из города. Гуреев к вам приезжал? Он должен был деньги привезти.
– Приехал он, приехал, – закивал Семён. – Вчера вечером. Деньги привёз. Совсем кончились, кушать не на что.
– А где же он?
– В тоннельный отряд поехал. Ремонтировать ему что-то надо. Сварка нужна. Скоро вернётся.
Пришлось сидеть и дожидаться. Я стал спрашивать Семёна про житьё-бытьё, не скучно ли ему.
– Почему скучно? Дрова колоть надо, печку топить надо, покушать что-нибудь варить. Вон радио мне оставили, слушаю, – показал он на маленький транзистор на лавке.
– Снегу-то сколько. Не боитесь, что однажды совсем завалит и не выйдете?
– Снег – хорошо, в доме тепло. Если бы не снег, дрова давно бы кончились. Кто мне привезёт? Тоннельщики электричеством греются. – Семён отвечал охотно, видно, редко ему приходится с кем-то поговорить. – А совсем не завалит. Люди же кругом. Знакомые есть. Откопают.
– А лавина не может сойти?
– Здесь не сойдёт. Здесь перевал. А дальше, в долине Кунермы, лавины бывают. Но там не живёт никто.
Семён подбросил дров в железную печку, обложенную кирпичами, и предложил:
– Чай наливайте.
Я не отказался. Семён открыл банку сгущёнки. Потом сказал, продолжая не оконченный для себя разговор:
– И здесь никто никогда не жил. Зачем посёлок построили? Дома заносит, дорогу заносит, каждый день бульдозер чистит.
Он раскурил короткую трубочку. Я предположил:
– Построили, потому что здесь тоннель рядом.
Семён, попыхивая дымком, возразил:
– Здесь только шахта. Как раз в середину тоннеля. Сюда можно было из Гоуджекита ездить, из Гранитного. Зачем здесь жить?
– Ну, не знаю, – ответил я. – Наверное, были какие-то причины.
– Причины такие, что думать не хотели. Почему меня не спросить, других не спросить? Здесь каждую зиму так.
Я бодро сказал:
– Народ молодой. Трудности вытерпит. Зато железная дорога будет в глухой тайге. Нам повезло, что мы рядом с такой стройкой живём.
– Железная дорога – наверно, хорошо, – проговорил Семён. – Но и плохо.
– Как это?
– Соболь уйдёт, олень уйдёт. Рыбы меньше будет. Далеко в тайгу ходить придётся.
Он пососал погасшую трубочку, выбил пепел у печки и продолжил:
– Город хотят строить на Байкале. Зачем город? Много людей – Байкалу плохо. Мыться будут, стирать будут, в туалет ходить будут. Всё в озеро потечёт. Тепло надо? Надо. Значит, уголь будут сжигать, дым, сажа на озеро полетит. Люди в лес пойдут – пожары будут. Где людей много, всегда лес горит.
– Если так рассуждать, – неуверенно возразил я, – то мы до сих пор жили бы на деревьях. Покорение природы – это путь к прогрессу…
– Пусть будет прогресс. Но не надо, чтобы лес горел, чтобы зверя и рыбы не было… Хочешь мяса – убей столько, чтобы самому поесть и других угостить. Хочешь рыбы – поймай себе и другим оставь. А эти приехали и сетками реки перегораживают. Или с вертолёта изюбрей стреляют. Иногда только голову с рогами забирают, а мясо бросают.
– Кто «эти»?
– Кто… Которым каждое утро приветы передают. – Он показал на приёмник. – Герои, говорят.
– Ну, не все же такие, – заступился я. – Они вон как работают.
– Работают, да. А всё равно плохо.
Разговор стал меня тяготить. Семёну ничего не докажешь. Хотя и он тоже прав. Это вечный спор о пропорциях добра и зла, если речь заходит о вмешательстве в дела природы. У меня в голове крутилось затёртое: «Лес рубят – щепки летят», – но тут вошёл Гуреев и очень удивился, увидев меня.
– Не нашли лыжню?
Я рассказал ему про свои приключения, умолчав только о своей попытке переночевать в распадке. Мы выпили по кружке чаю, распрощались с Семёном и поехали к себе.
10
Пока я пытался попасть на участок пешим порядком, вертолёты, оказывается, не летали – не было керосина. Поэтому Павел Сергеевич, когда я в очередной раз заикнулся о своём полёте без очереди, посмотрел на меня, как лев на антилопу, и ничего не сказал. С утра часто не было погоды, стоял густой туман, который расходился только к обеду. И у поховцев так и оставалось несколько человек в тайге. Хитренко, отлетав месячную саннорму, убыл в город, его сменил другой пилот – Рудницкий, который был местным и жил недалеко от аэропорта. А я так и болтался каждый день по надоевшему маршруту. Коробки с продуктами и мой рюкзак со шмотками мы с Гуреевым перевезли в камеру хранения, чтобы, если вдруг откроется какая-нибудь оказия, всё было под рукой. Альберт, выходя по утрам на связь, говорил бодрым голосом, но чувствовалось, что в одиночку ему непривычно и тоскливо. Из продуктов у него остались макароны и рыбные консервы. Да немного муки, из которой он что-то стряпал вместо хлеба. Ни сахару, ни чаю не осталось, и ему приходилось пробавляться голым кипяточком. Сигареты он начал строго экономить, и я посоветовал ему вообще бросить курить – такой случай удобный! Но он, похоже, скорее согласился бы голодать, чем остаться без табака. И когда он успел так втянуться? Ведь пацан совсем. Наверняка ещё в школе начал баловаться. А вообще он был молодец, конечно. Не Лёха Данилов.
Чтобы чем-то заниматься, я стал помогать плотникам. Они справлялись и вдвоём, но я прямо навязался. Сергей, увидев, что я довольно умело обращаюсь с топором и молотком, стал поручать мне мелкие самостоятельные операции. Глядя на меня, Матвеич, замученный совестью, большую часть времени проводил теперь с бригадой, а не в доме за книжечкой. Даже пытался распоряжаться. За ним потянулся и Стас, чтобы не скучать в одиночестве. А Гуреев, если не возился с машиной, тоже или снег отгребал, или паклю в стыки между щитами набивал. И вот уже на бывшем пустыре наметилась улочка из аккуратных одинаковых домиков.
Как-то утром, придя в диспетчерскую, я увидел там незнакомого парнишку чуть постарше меня. Он сидел за столом и заполнял заявку на полёт. Павла Сергеевича не было. Я поздоровался и спросил у диспетчера:
– Ну что, Евгений Степанович, как обстановка сегодня?
– Нормальная. Прогноз хороший.
– А что, ПОХ отлетался? – кивнул я в сторону парнишки. – Тогда моя очередь, кажется.
– Поговори с Борей сам, – сказал Евгений Степанович.
– Откуда ты взялся, Боря? – спросил я. – Павел Сергеевич тебе ничего про меня не говорил?
Паренёк поднял голову.
– У нас авария на буровой, срочно нужно метчики отправить. И коронки кончились. Тигран Вартанович договорился с ПОХом.
И он снова продолжил писать.
– Ну вы даёте! – только и смог сказать я. – Евгений Степаныч, как это? Я третью неделю хожу, а тут раз – и на матрас!
– А я-то что? – поднял брови диспетчер.
– Но вы же должны какую-то очерёдность устанавливать. Ведь мне всего час нужен! А я столько дней улететь не могу.
– Да ничего мы не должны. Вы сами между собой насчёт очереди договаривайтесь. Наше дело – корабли принимать и отправлять. А если ПОХ уступил рейс геологам, это их дело.
Я вспомнил слова Андрея и понял, насколько он был прав. Мы тут – чужаки пока что, поэтому не имеем права голоса. И что толку, если я скажу Павлу Сергеевичу, что он нехорошо поступает. Я ему не сват и не брат. А с начальником геологической экспедиции, с этим Тиграном Вартановичем, он, наверное, не одну бутылку выпил.
Евгений Степанович ответил на вызов пилота по рации, поговорил с ним и сказал Боре:
– Рудницкий на подлёте.
Я открыл дверь и вышел на крыльцо – покурить, чтобы успокоиться. Минут через пять появился Боря и тоже закурил.
– Наглость – особое счастье, – сказал я ему. – У меня там человек последние сухари доедает. А у тебя железо какое-то.
Боря затянулся и передразнил:
– «Какое-то»… Ты хоть слышал про Снежное месторождение? Ты знаешь, что оно на контроле у министерства? Уникальные руды, крупнейший объект. И если хоть одна буровая остановится дольше чем на один день, будет большой скандал.
– Слышал, представь себе. Вот только я раньше тут что-то тебя не встречал.
– Да у нас туда дорога есть. Всё снабжение по ней идёт. Вертолёт – это на крайний случай. Дорога, конечно, так себе. В состоянии «лес повален, но не убран». Но обходимся. А тут бульдозер сломался, который её от снега чистит. И авария на скважине, как назло. Форс-мажор.
Я не знал, что это такое. Но спросил, будто знаю:
– И когда он кончится?
– Минут сорок туда, столько же обратно. Ну, там посидит минут десять, – сказал Боря. – Не обижайся, земеля, государственное дело.
– А я, по-твоему, туризмом занимаюсь? У нас тоже месторождение намечается. – Я не слишком и преувеличил, потому что в этом сезоне мы собирались начать разведку одного из наших участков бурением.
Боря прислушался:
– О, летит!.. У вас намечается, а у нас уже есть. О чём разговор…
Я цеплялся за последнее, что осталось:
– А тебе не мимо Гоуджекита? А то бы меня по пути забросил…
– Ты что, это же в другую сторону, – свистнул Боря.
– А если рейс за наш счёт? Какая тебе разница, когда твои метчики с коронками прилетят – в два или в четыре? А вы деньги сэкономите.
– Ну какая это экономия – рублей четыреста. Несерьёзно. Да и такие вещи сам Тигран Вартанович решает. Но вряд ли он разрешит. А ты и не успеешь. Вон Рудницкий садится.
Боря, выкинув бычок, развернулся и скрылся за дверью. Увидев, что он исчез, я решился на авантюрный ход. Боря наверняка же сам не полетит, просто передаст пилоту груз. Чего ему мотаться туда-сюда. И я пошёл к вертолёту.
Рудницкий, коренастый мужчина с лицом, покрытым коричневой кожей в носорожьих складках, выйдя из кабины, что-то говорил подошедшему технику. Я перехватил его, когда он направился в диспетчерскую, и коротко рассказал ему про свои проблемы. Он шёл и молча слушал. Я стал излагать суть.
– Вы сейчас на Снежное полетите. А что, если меня сначала забросите? Я потихоньку залезу, никто не увидит… Это не совсем по пути, но вы, может быть, скажете, что какой-нибудь снежный фронт обходили, поэтому время потеряли… Ну нет у меня другой возможности попасть на участок! А груза всего килограмм сорок, он здесь, в порту.
– Ну, ты придумал! – изумился Рудницкий, взглянув исподлобья своими маленькими глазками и совсем став похожим на носорога. – Какой фронт, по прогнозу никакого фронта нету. Погода звенит на триста километров вокруг. А как мне лишнюю посадку объяснять? Да наверняка с подбором. Или пломбу ломать, барограф вручную подкручивать?..
Он, насколько я мог сообразить, снизошёл до объяснений лишь потому, что до такого фантастического предложения мог додуматься только полнейший дилетант. И я отстал, пока он совсем не рассвирепел. Получается, что опять ляпнул не подумавши. Оказывается, есть такая штука, как барограф. Что он там показывает, я не знал, но, видимо, его по кривой не объедешь.
Вот почему так бывает? Делаешь вроде бы всё, что можно, и даже то, чего нельзя, придумываешь разные способы, чтобы добиться результата, и всё это оказывается совершенно бесполезно… Я стал представлять, что бы ещё мог сделать на моём месте Андрей. Или кто-то другой. Нет, кажется, я вроде бы всё испробовал. Может, причина в том, что я не так себя поставил? Или нет: не сумел себя поставить – здесь, в аэропорту. На нашей базе сумел, а здесь не получилось. И меня никто тут всерьёз не воспринимает, хотя общаются вроде охотно. Но что-то мешает мне подняться на ту последнюю ступеньку, на которой со мной будут разговаривать как с равным. Нет, правильно рассуждал Андрей: дело будет двигаться туго, пока не заведутся тесные связи, личные знакомства. А для этого нужно время.
Напиться, что ли, от безысходности? Вообще-то я никогда не чувствовал влечения к выпивке. В армии с прапорами да летёхами употреблял в основном за компанию. А на «гражданке» мы только дома с отцом выпили немного за мой дембель да с Андреем за встречу хорошо посидели. Но моё положение становилось каким-то совсем трансцендентным. Проходили мы когда-то по философии такое понятие, которое обозначает всё, выходящее за пределы опыта и постигаемое лишь высшим умозрением. Вот так и я никак не мог проявиться в аэропорту как нечто, реально существующее, познаваемое. Вроде что-то где-то и есть, но ни на что оно не влияет. И чтобы прорваться сквозь эту нереальность в сущий мир, может, мне нужно совершить что-нибудь такое… чего я и придумать пока не мог. Разве только напиться…
Да-да, конечно. Как бы меня в этом Матвеич поддержал! И Стас подключился бы с радостью… И тогда Павел Сергеевич, собирая слёзы в кулак, сразу пришёл бы ко мне и уговаривал бы согласиться лететь сегодня же. И Рудницкий в аэропорту сгорал бы от нетерпения: когда же я появлюсь…
Нет, господа. Поскольку Матвеич до сих пор пребывает в неведении о своём положении на иерархической лестнице относительно меня, он и занимается своим делом – строительством, а не какой-нибудь ерундой вроде рыбалки. И стоит только мне расслабиться… Если в конце концов улечу – делайте что хотите. А пока я здесь, для всех сухой закон.
11
С утра над посёлком выкатилось солнце, в распадках дотаивали клочья тумана. По установившейся привычке я сразу после завтрака пошёл наносить визит в аэропорт. Чтобы меня там не забывали – раз, чтобы Павел Сергеевич при виде меня испытывал, может быть, хоть какие-то уколы совести – два. И к тому же всегда была слабая надежда на то, что ему закроется погода, а мне, наоборот, откроется. Это три.
Сегодня в диспетчерской на смене была Людмила. Но мне сразу не понравилось, что здесь крутился и Боря. Я спросил у неё, где сейчас борт.
– Ушёл на Снежное.
– Как на Снежное? Он же вчера туда летал. Боря, что за дела опять? Совесть у вас есть?
– Тигран Вартанович…
– Да моё какое дело! Я семнадцатый день улететь не могу, понимаешь ты? Семнадцатый! Там человек один сидит, без продуктов. А у вас то понос, то золотуха. Государственное дело, смотри-ка ты. У нас тоже государственные дела. А вы совсем оборзели.
– Ну не шуми, земеля. Сегодня главный геолог партии должен в Москву лететь с отчётом. Самолёт в город через три часа.
– А почему вы вчера его не вывезли, вашего главного геолога?
– Вчера не всё было готово. Пока буровая добурила скважину после аварии, потом каротаж, то да сё… Они полночи разрезы рисовали, к утру только сделали.
– Да у вас всю дорогу эти ваши… форс-мажоры! А там человек совершенно один. Пацан совсем. Девятнадцать лет.
– А почему вы его одного-то оставили?
– Так мы думали – на день, на два. А тут вы всё время вклиниваетесь.
– Ну и ничего. Он же у вас не больной, не увечный. Девятнадцать лет – совершеннолетний уже.
– «Не больной». А заболеет, его и не вывезешь. У вас тут свои дела, а на остальных вам плевать.
– Заболеет – другое дело. Но пока ведь здоров, – сказал Боря и пошёл курить. Чтобы последнее слово осталось за ним.
Я тоже было достал папироску, но понял, что даже на одном крылечке с Борей не смогу находиться. Хотя он простой клерк, сам ничего не решает. Зато строит из себя… И вот с такими кадрами нам предстояло устанавливать знакомства и связи, как Андрей говорил. Нет уж, пусть кто-нибудь другой устанавливает. Обойдусь.
– Послушайте, а почему бы он у вас действительно не заболел? – услышал я голос Людмилы.
– Как это?
– Попробуйте сходить в райбольницу, скажите, что у вас в горах человеку плохо. Нужна срочная помощь.
– Так он же не заболел.
– Ну, как будто заболел. У нас так делают иногда. Когда необходимо слетать, а прогноза нет хорошего. Обычный рейс мы в таком случае не выпустим, а по санзаданию пилот может по фактической погоде лететь. А сейчас прогноз хороший, ему даже проще будет.
– Но больного, наверно, надо в посёлок вывозить. Иначе как докажешь, что он больной. А он на самом деле здоровый. И на участке нужен.
– Да не надо никого вывозить. Татьяна Петровна в таких случаях навстречу идёт. Оформит Рудницкому заявку, и вы улетите. Ну, врач с вами слетает, может быть. Для вида… Она понимает, что бывают случаи, когда другого выхода просто нет.
– Какая Татьяна Петровна?
– Лужина. Она санавиацией заведует.
– И что, действительно можно так?
– Я же вам говорю. Объясните ей, попросите. А то ещё долго будете ходить.
Я подумал. Что я теряю, в конце концов? Наверное, это единственное, чего я ещё не пробовал. Схожу!
– Ладно, – сказал я, – пошёл за медицинской помощью. Но если у меня получится, вы Павлу Сергеевичу не говорите, что санзадание того… фиктивное. А то у вашей Лужиной неприятности будут.
– Да Павел Сергеевич несколько раз сам так летал. И ещё придётся. Зачем ему Татьяну Петровну подводить, если даже и узнает… Вы поторопитесь, а то он Рудницкого на Абчаду сейчас отправит.
До больницы в центре посёлка было минут двадцать пешего ходу. Я добежал за восемь. Нашёл кабинет Лужиной, она сидела за столом и что-то писала. Чтобы моя просьба выглядела как можно убедительнее, я посчитал нужным вкратце изложить ей мои долгие бесполезные похождения в аэропорт и попытку лыжного десанта, потом рассказал про голодные муки одинокого радиста, а в довершение назвал цифру: семнадцать дней.
– Осталась одна надежда на вас, – закончил я своё выступление. – А меня, если не улечу в ближайшее время, и с работы могут выгнать.
Это я, конечно, загнул. Но репутация моя и так висит на волоске, и Вадим Семёнович, наверное, жалеет, что зря послушал Андрея и взял меня на работу. В таком случае лучше бы он действительно меня выгнал.
Татьяна Петровна, очень похожая на Лидию Смирнову в фильме Элема Климова про пионерский лагерь, терпеливо слушала, не перебивая, потом сказала:
– Понятно. Сколько лететь до вашего участка?
– Да полчаса туда и столько же обратно. Недалеко от Гоуджекита.
– Это недолго… Может, у радиста вашего действительно есть жалобы? Зубы не болят? Радикулит не мучит?
– Да здоров, как слон. В том-то и дело. Не жалуется.
– Хорошо, напишем: высокая температура, простуда. Врача посылать не будем, у него здесь работы много. Но будто бы он слетал, осмотрел больного, эвакуировал его в стационар. Это на случай, если кто спросит.
– Не спросит. Я же там останусь.
– Хорошо. Какая организация? Как фамилия нашего больного?
Она заполнила заявку на полёт и сказала:
– Подождите, сейчас у главного врача подпишу. Только я должна вас предупредить. – Она приглушила голос. – Мария Егоровна не должна знать, что на самом деле больного нет. Понимаете?
– Мария Егоровна?
– Суханова. Главный врач. Мы стараемся как-то помочь людям в таких ситуациях, как у вас. А у неё с этим строго. Так что я надеюсь.
– Да я с ней вряд ли встречусь, – ответил я. – Спасибо вам огромное.
Получив заявку с подписью главврача и печатью, я так же полубегом помчался в аэропорт. Неужели это делается так просто? Почему же раньше мне никто не подсказал? Ладно, Павел Сергеевич и Боря, им неинтересно, чтобы я у них время отнял. Но диспетчеры-то знали про эту возможность и молчали. Или просто не догадались? Это сегодня зашёл разговор на эту тему, вот Людмила и вспомнила. Не могла она пораньше вспомнить! Впрочем, что теперь о том. Радуйся, что рейс наконец в кармане!
Я влетел в диспетчерскую.
– Татьяна Петровна мне звонила, – сказала Людмила. – Рудницкий садится в шесть пятнадцать, через десять минут. Я его предупредила. Груз у вас есть?
– Да продуктов немного. И свой рюкзак. Сейчас из камеры хранения принесу.
Тут я заметил Павла Сергеевича, сидевшего сбоку за большим столом с картой. Он внимательно её рассматривал, потом поднял глаза.
– Ну что, схитрил?
– Какое схитрил, человек у меня там заболел, – возмутился я. – Люди – они такие, они иногда болеют.
– Ладно, не заливай. Что я, не понимаю? Лети, чёрт с тобой.
И он вышел из диспетчерской. Я стал благодарить Людмилу за совет.
– Что бы я без вас делал!
– С вас шампанское, – рассмеялась она.
– Это когда вернусь, – пообещал я. – Сейчас не успею.
Но у меня оставались кое-какие сомнения. И я задал Людмиле вопрос:
– А вдруг главный врач потом спросит: где больной, которого вертолётом должны были вывезти?
– Да не спросит, у неё других забот полно. Ни разу такого не было.
– Но всё равно это надо как-то оформлять? Как-то отчитываться, какую-то историю болезни придумывать…
– Не ваша это печаль. Делали же раньше. И теперь отчитаются. Или вы раздумали лететь?
Чего я, в самом деле, морочу себе голову? Получается, мне хотят помочь, а я ищу способы отказаться. Проще надо быть!
Хлопнула входная дверь, послышались шаги, и в диспетчерскую вошёл Рудницкий.
– Здравствуйте, – сказал я.
Он ответил, не глядя на меня:
– Здоро́во. – И спросил у Людмилы: – Куда летим? Где врач?
– Врача не будет, Юрий Анатольевич, – сказала диспетчер. – Вот ему очень надо. – И показала в мою сторону. – Он семнадцать дней не может улететь. То ПОХ, то геологи.
Рудницкий обернулся. Но и виду не подал, что вспомнил, как я разозлил его вчера своим предложением.
– Понятно, – сурово сказал он. – Сколько груза?
– Килограмм сорок, но он в камере хранения…
– Ну, так получай и тащи к вертолёту, – распорядился Рудницкий. – Где точка, покажи. – И он развернул свой планшет.
Я подошёл и ткнул пальцем.
– Наколи. Ну, карандашом отметь. Вон карандаш у Людмилы возьми… Так, квадрат тридцать два девятнадцать. – И Рудницкий сел за стол измерять азимуты маршрута.
– Площадка обозначена? Снег утоптан? Флаг висит – ветер определять? – пытал он меня, записывая цифры.
– Да всё должно быть, – заверил я его, выбегая из двери, хотя понятия не имел ни о чём об этом. На вертолёте я раньше летал… вернее, меня возили – только в армии, и то летом, и такими деталями я не обязан был интересоваться.
За три захода я перетаскал всё из камеры хранения к вертолёту и с помощью техника погрузил в салон. Подошёл Рудницкий, держа в руке какой-то прибор, и показал мне на правое кресло в кабине. Сам угнездился в левом и захлопнул дверцу. Прибор он закрепил на пружинных растяжках чуть сзади кресел, надел наушники, прижал к горлу ларингофон и запросил разрешение на запуск двигателей.
12
Вертолёт Ми-8, на котором нас забрасывали на границу, это большая и мощная машина. Не самолёт, конечно, но в нём на пролетающий за бортом мир тоже приходилось смотреть через круглое окошечко иллюминатора сбоку, как в самолёте. Кабина пилотов на «восьмёрке» в полёте обычно закрывается, а если и бывает открыта, то видишь только спину бортмеханика, который помещается на откидном сиденье в проёме дверцы. А в этом Ми-2 сидишь, как в легковушке, с той разницей, что кабина почти прозрачная. И когда вертолёт взлетел и стал набирать высоту, мне стало жутковато от открывшегося вокруг пространства, которое было совсем рядом. От него защищала меня только нижняя часть дверцы справа да панель приборов впереди. Особенно я опасался смотреть вниз, где под носки моих сапог подплывали всё уменьшающиеся дома посёлка, а потом скальные берега Байкала и гладкое ледяное поле, далёкий левый край которого терялся за торсом Рудницкого, облачённого в кожаную пилотскую куртку. Я боялся пошевелиться, словно сидел на бревне, перекинутом через пропасть. А Рудницкий, достигнув положенной высоты, вздумал достать противосолнечные очки и стал протирать их, для чего штурвал, напоминающий невысокий посох с разными кнопочками на набалдашнике, зажал у себя между коленями, чтобы освободить руки. Он протирал очки долго и тщательно, совсем не глядя вперёд, и я опасался, что он потеряет ориентировку или невзначай выпустит штурвал из… ног, и машина свалится в какой-нибудь вертолётный штопор. Надев наконец очки и взяв штурвал в руку, он снял увесистый камень с моей души.
Оглядываясь в кабине, я посмотрел и на прибор, который установил Рудницкий перед полётом. В прозрачное окошечко было видно перо самописца, чертившее линию на разграфлённом бумажном ролике. Линия от начальной точки постепенно поднималась вверх, потом стала горизонтальной. И я догадался, что это и есть тот самый барограф. Он записывал высоту нашего полёта. Ну конечно, ведь «баро» – это давление (как в слове барометр). Чем выше мы поднимаемся, тем меньше давление воздуха. И если будет непредусмотренная полётным заданием посадка, на барографе она отразится. Если бы я сразу про это знал, ни за что не полез бы к Рудницкому со своей дурацкой идеей.
Мы летели не прямым путём над тайгой и горами, а придерживались дороги, по которой ездили с Гуреевым. Я подумал, что так, наверное, и ориентироваться легче, и искать проще, если – тфу-тфу, конечно! – случится какая-нибудь авария. Было видно, как дорога со льда вышла на берег, потом внизу возникло несколько улиц будущего города. Немного не долетев до него, мы резко повернули направо, прошли над мостом через речку Тыю, и прямо по курсу открылась уходящая вдаль трасса стройки века, обозначенная широкой просекой в тайге и следами земляных работ на ней. Скоро впереди показалось множество крохотных домиков, и я понял, что это Гоуджекит. Справа от посёлка проходила белая заснеженная полоса той самой ЛЭП, где я так и не нашёл лыжню Андрея. Ещё правее простирался редкий лесок, а дальше начинались склоны хребта, прорезанные ложбинами распадков. Где-то среди них был и тот, в котором я хотел переночевать.
Рудницкий сверился по карте, заложил вираж направо, сунул мне планшет и, наклонившись в мою сторону, сквозь шум двигателей прокричал:
– Показывай, где садиться!
Вот это номер! Я-то считал, что раз он за штурвалом, то это его дело – вести маршрут до самой посадки. Зачем тогда я ему точку на карте «наколол»? А оказывается, я сам эту точку с воздуха искать должен.
Я посмотрел вниз, на заснеженные склоны, потом на планшет. Надо было привязаться к местности, но я не находил внизу ничего похожего на то, что было на карте вокруг моей карандашной точки. Карта нарисована коричневым да зелёным с синими нитками рек и голубыми кляксами высокогорных озёр, а сейчас внизу всё было белым. И я прокричал ему в ответ, что не был здесь ни разу, а из-за снега сориентироваться не могу. Рудницкий хмуро посмотрел на меня, забрал планшет и несколько раз поглядел то вниз, то на карту. Но, видно, он и сам не мог сообразить, где на местности искать мою точку, потому что начал змейкой летать туда-сюда. После нескольких зигзагов в окне дверцы справа от себя я углядел еле заметную синеватую струйку дыма, косо выходившую из-за перегиба склона, и тронул его за локоть. Мы полетели в ту сторону и скоро увидели под собой два почти полностью занесённых снегом, как на Даване, домика, один из которых и пускал в небо дым.
– Здесь? – осведомился Рудницкий.
– Наверное, здесь. Больше негде, – пожал я плечами.
Вертолёт сделал круг, снижаясь, и прошёл над лагерем. Я видел, как из домика вышел человек и замахал руками. Рядом прыгала и лаяла собака. Чуть дальше мы с Рудницким почти одновременно заметили большой квадрат, очерченный на снегу серыми прерывистыми полосами. Похоже, Альберт обозначил площадку золой из печки. Флага нигде не наблюдалось, но направление ветра можно было определить по дыму из трубы. Видимо, Рудницкого удовлетворило увиденное, и после разворота он, сбросив скорость, стал плавно спускаться. Подняв снежную вьюгу у самой земли, мы мягко сели.
Возле вертолёта, отворачиваясь от ветра, поднимаемого винтом, маячил Альберт. Я вылез из кабины и стал выгружать на снег продукты. Когда осталось вытащить рюкзак и распрощаться с Рудницким, подошедший Альберт залез в салон и протянул мне бумажный листок.
– Здравствуйте! Радиограмма пришла сегодня, – громко сказал он мне в ухо. – Вам обратно надо лететь.
– Привет. Что такое? – Я стал читать. Однако каракули Альберта вообще не поддавались расшифровке, это было даже не «курица лапой», а гораздо хуже. И я попросил, чтобы он рассказал на словах, в чём там дело.
Оказалось, Андрей ехал на такси и попал в аварию. С переломом ноги он лежал на вытяжке в больнице. И проект работ писать стало некому. Поэтому Вадим Семёнович передал Стасу, чтобы я вылетал в город и брался за проект. Но Альберт и сам был на связи, всё слышал и как мог записал на всякий случай. В компанию к нему вместо меня должны были прислать кого-то из техников, отбывших свою вахту раньше.
Рудницкий не глушил двигатели, собираясь сразу же улететь, как я выгружусь, просто убавил обороты. И нетерпеливо оглядывался на меня, дожидаясь, когда я покину вертолёт. Но я сказал ему, что обстановка изменилась, и попросил подождать минут пять.
– Как настроение? – спросил я Альберта. Он кисловато улыбнулся. Перспектива снова оставаться в полном одиночестве (не считая Шарика) не вызвала у него прилива бурной радости.
– Ладно, не переживай. – Я попытался скормить ему хоть небольшую порцию бодрости. – Люди по двадцать лет в одиночных камерах сидели. А у тебя тут прямо курорт. Бакуриани! Продукты теперь есть, всего понемногу. Что ещё нужно для счастья?
– А вы книжек каких-нибудь привезли?
– Так ты же не просил книжек.
– Да сегодня посмотрел – остались только детективы. Я их не люблю.
– Там журналов я положил несколько штук, тебе хватит пока… Ну ладно, не скучай. Нам лететь надо. Давай.
Я хлопнул Альберта по плечу, устроился в кабине и объяснил Рудницкому новую ситуацию.
– Ну ты и баламут, – сказал Рудницкий. – То даже зайцем хотел лететь, а то сразу назад навострился. Прокатился на халяву по санзаданию.
И он перевёл двигатели на взлётный режим. Я попытался сквозь рёв моторов втолковать ему, что он сделал неправильный вывод, потому что я не сам решил возвращаться, а мне начальство приказало и что слетали мы всё-таки не зря: снабдили радиста продовольствием и вообще проведали человека, порадовали общением. Но Рудницкий делал вид или действительно был сосредоточен на пилотировании и меня не слушал. Получалось, что я оправдываюсь, а он не желает моих оправданий принимать. Везёт же мне попадать в неудобные положения. И наверняка в аэропорту Рудницкий и Людмиле расскажет, как я доблестно придумал причину не оставаться на участке, да и Лужина потом как-нибудь узнает. Не будешь ведь каждому объяснять, как там было на самом деле.
Ладно, это всё чешуя, как говорил в армии капитан Кизеев. Надо сразу же, как прилетим, идти в кассу за билетом на самолёт до города. На сегодня вряд ли я возьму, а вот завтра, может быть, буду дома… Но радости почему-то не было. Две с лишним недели потратил на то, чтобы организовать этот рейс на участок, а слетал, получается, впустую. Разве что Альберту разносолов привёз баночных. Величина затраченных усилий не оправдывала результата. Хотя, с другой стороны, какой смысл был бы в моём сидении среди снегов, когда в городе столько работы? Нет, что ни делается, всё к лучшему.
13
На обратном пути я стал немного привыкать к почти полной открытости передней полусферы пространства. Если бы не работающие двигатели, можно было бы представить, что находишься внутри большого пузыря, который чуть подрагивает и летит по воле ветра. Жаль, что всё укрыто снегом, всё однообразно. Белые складки гор и чёрные магнитные опилки леса у их подножия. Небо тоже белое, по нему полосами и пятнами размазана сплошная облачность, солнца не видно. Ничего, весна и здесь на подходе, скоро снега потекут ручьями, вылетят первые бабочки, проклюнется трава. Откроются синие речки и ледниковые озёра, зазеленеют леса, горы будут коричневыми, серыми, жёлтыми… Может, здесь, под этими снегами, прячется скрытое в недрах земных месторождение, которое я открою. И лет через сорок молодые геологи будут листать мой итоговый отчёт, рассматривать карты и разрезы и говорить между собой: «Это же тот самый Рубахин! Он сейчас на пенсии, я его несколько раз встречал в управлении. Могучий старик!..»
Предаваясь мечтаниям, я боковым зрением всё же заметил, что Рудницкий что-то говорит, но не мне – видимо, отвечает на вызов диспетчера. Разговаривал он минуты три, после чего достал откуда-то сбоку и передал мне такую же, как у него, переговорную гарнитуру – ларингофон и наушники, чему я весьма удивился: до этого он молчал, будто и нет меня в кабине. А тут вдруг решил потолковать с удобством, чтобы не мешал шум моторов. Я надел наушники и услышал:
– Пришла заявка на срочное санзадание. Что делать будем?
Я удивился:
– А что тут надо делать? Летим же. Когда сядем, я выйду, а вы с врачом полетите куда надо.
– В диспетчерскую звонила Лужина и сказала, что Суханова сама полетит. Она к вертолёту приедет с санитарной машиной – встречать нас. Если она увидит, что на борту врача нет, больного нет, всем кранты. И Лужиной, что врача не отправила. Значит, она знала, что больного нет. И мне, что я без врача полетел. Значит, я тоже знал. И тебе за ложный вызов. И, может быть, Людмиле – это же наверняка она тебе подсказала. Сам бы ты не додумался. – Рудницкий не упустил случая хоть как-то уколоть меня.
– Чего это она сама лететь собралась? Могла бы кого другого отправить.
– Кого она отправит? Там роды сложные, в Куморе. А она единственный акушер в больнице.
– Откуда вы знаете?
– Оттуда. Я тут пятнадцать лет летаю.
– А чего же она до последнего тянула? Ну эта, которая рожает. Могла бы заранее в больницу приехать.
– Я не один раз таких вывозил. У них дома дети, хозяйство. Да и многие надеются, что сами справятся. Или бабок местных зовут. А по нашим дорогам с животом ехать… Короче, надо что-то придумать.
– А что тут можно придумать?
Рудницкий не ответил. Потом минуты через две сказал:
– Всё-таки хорошо, что ты обратно полетел. Я так соображаю, что тебе надо больным прикинуться… Вон и борода у тебя. Как будто долго в горах пробыл.
– Какой смысл? Врача ведь с нами нет. Суханова сразу всё поймёт.
– Сделаем так. Я сейчас передам, чтобы врач на посадке ждал. В посёлке я сяду чуть подальше, он подойдёт с другой стороны, и мы, будто все вместе только что вылезли из вертолёта, пойдём к машине. А ты изображай больного. Главное, чтобы она увидела, что больного привезли, а не просто так слетали.
Да, Рудницкий, пожалуй, прав, и другого выхода нет. Но как быстро он всё обкумекал! Ещё тот комбинатор. Никогда бы не подумал, что он способен замыслить такую инсценировку. Конечно, если надо спасаться, и не такие способности прорежутся.
Я сказал:
– Там написали, что простуда. Кашлять-то я смогу, а температуру ведь сам себе не подниму.
– Вот и кашляй. А температура упала, когда врач таблеток дал.
– Но меня же в палату положат! А мне надо в город лететь, срочно. Я вам говорил.
– Ну, сбежишь как-нибудь. А вообще кончай отговорки придумывать. За то, что слетал бесплатно, можно и пострадать немного. Сколько народу тебе помогало, а ты кобенишься.
Это он мне в самое яблочко попал. Конечно, я им всем обязан. И хочешь не хочешь, придётся сыграть хворого. Я попробовал покашлять. Рудницкий тут же посоветовал:
– Ты громче кашляй, с надрывом. Понатуральнее. И глаза руками потри, чтобы покраснели.
– Может, мне и помереть сразу, для натуральности? – разозлился я.
– Было бы неплохо, – отозвался гад Рудницкий. – Только нам отвечать придётся, что тебя живого не довезли. Так что погоди помирать пока.
Мы летели над побережьем Байкала. Минут через тридцать, если всё пройдёт гладко, меня увезут в больницу. Как ни прикидывайся, но любой врач, даже медицинский студент, сразу поймёт, что никакой простуды нет. И в палату меня, конечно, не положат. И закатят скандал. Хорошо, если удастся поговорить по душам, воззвать к пониманию, чтобы не доложили потом Марии Егоровне. А если не удастся, у всех будут большие неприятности. Но как их избежать наверняка, я придумать пока не мог.
Впереди по курсу показались портовые краны, напоминавшие пару журавлей. Рудницкий начал снижение. Слева поплыли вершины сопок, вытянувшиеся в цепочку хребта вдоль берега, а впереди и справа виднелись улицы посёлка, и я нашёл на его краю наш огороженный бывший пустырь, где была теперь короткая улочка из щитовых домиков. Там, наверное, догадались, что я улетел, потому что долго уже не появлялся. И поскольку Стас слышал по рации, что мне пришла команда возвращаться в город, может быть, и дожидались меня из аэропорта. Но мне надо было и дальше играть экспромтом ту пьесу, что мы начали представлять каких-нибудь полтора часа назад. Её течение теперь развивалось независимо от нас, согласно законам жанра, который мы выбрали. И если начало пьесы было мажорным, то середина становилась драматичной. А каким будет конец, неизвестно. Только мне в этой пьесе разонравились все роли, и особенно моя.
Рудницкий посадил вертолёт метров за пятьдесят от обычного места. От забора, огораживающего лётное поле, отделился человек и побежал к нам. Это был мужчина лет сорока, в очках, с короткой чёрной бородкой. Под демисезонным пальто виднелся белый халат. Всё пока шло, как задумал Рудницкий. Врач открыл дверцу салона, которую не было видно со стороны «аэровокзала», и залез в вертолёт. Рудницкий сказал мне, чтобы я тоже перебрался в салон, прибавил оборотов и покатился к месту стоянки по земле.
– Привет, Анатольич, – сказал врач пилоту. – Сухановой в порту пока нет. Так что всё обойдётся, думаю… Вон она едет, – показал он на светло-серый уазик-«буханку» на улице, ведущей в аэропорт.
– Вот это твой больной, Слава. Потянет? – спросил его Рудницкий.
– Сойдёт, – взглянув на меня, ответил Слава. – Сейчас выйдем, ты опирайся мне на руку, будто идти тебе трудно. Ну и кашляй, конечно.
– Да я-то покашляю, – дал я обещание. – Только вы же знаете, что я здоров. Может, сразу и отпустите?
– Ну, ты меня не подводи. Я должен довезти тебя до больницы и сдать терапевту. А там действуй сам по обстановке.
Вертолёт остановился. Мы подождали, пока перестали крутиться винты, и вышли. Слава поддерживал меня под локоть, а я периодически кашлял, сгибаясь и тряся головой. К вертолёту подъехал санитарный уазик. Из него вышла женщина средних лет, невысокая и чуть полноватая, со строгими, неулыбчивыми глазами, и я понял, что это и есть главный врач Суханова.
– Ну что, Вячеслав Аркадьевич, как состояние больного? – озабоченно спросила она.
– Ничего страшного, Мария Егоровна. О-эр-зэ. Я дал ему жаропонижающее. Жить будет.
– Ну, хорошо. В пятую палату его, там сегодня место освободилось. Вера Сергеевна сама ещё пусть его посмотрит… Юрий Анатольевич, летим?
– Сейчас заправят нас, и полетим, – подтвердил Рудницкий.
– Давайте быстрее, там очень серьёзно.
Она продолжала что-то говорить, но я не расслышал, потому что Слава затолкал меня в уазик, и мы поехали.
14
В больнице я лежал всего два раза. Первый раз – в глубочайшем детстве, когда я себя почти не помнил. Мама позже мне сказала, что у меня была корь. Что это такое, я и по сей день не знаю. Второй раз врачи взялись за меня в пионерском лагере, где из-за простуды я попал в «изолятор» – почему-то так называлось там медицинское заведение. Пробыл я в нём недолго, но осталось в памяти чувство тоски и несвободы. Ведь ребята из моего отряда каждый день играли в лапту и футбол, ходили купаться на речку, а вечером смотрели кино про войнушку или про шпионов. Меня же в это время медсёстры кормили какими-то горькими порошками и ставили градусник. А кроме того, я жутко скучал от безделья.
В общем, больница запомнилась мне как нечто неприятное, хотя и необходимое. А здесь к тому же предстояло моё скорое разоблачение как симулянта, и теперь, обеспечив алиби тем, кто организовал мне липовый санрейс, я оставался единственным виноватым в том, что вызвал санитарный вертолёт к себе, здоровому, и якобы ввёл в заблуждение всех: и заведующую санавиацией, и пилота, и врача Славу. И даже главного врача, подписавшую заявку на полёт. Людмила была ни при чём, она только совет дала, а воспользоваться им или нет, я сам решал.
Я прикидывал, какие могут быть от этого последствия. Конечно, меня не убьют за то, что я притворился больным. В лучшем случае я объясню, что действовал так по необходимости. И если с нашей организации взыщут стоимость полёта, я не расстроюсь. Это будет справедливо, ведь работа сделана и груз доставлен. Но в худшем случае, если Суханова опоздает к роженице в Кумору, может начаться расследование ложного вызова. И наверняка ничем хорошим для меня оно не закончится. А кроме того, всё равно мы получим сильный удар по репутации нашей партии, и Вадим Семёнович будет очень недоволен. Так что, пока мы едем, надо что-то изобрести…
И тут я вспомнил, что Татьяна Петровна, когда я рассказал ей про свои проблемы, спросила про зубы у Альберта. И про радикулит. А что, это идея. Не безупречная, но надо попробовать. Радикулит, конечно, не прокатит, у меня никогда его не было, и я не знал, как его на себе показать. И может быть, его тоже надо лечить в стационаре, а мне надо срочно в город. Поэтому остаётся только одно…
Машину сильно тряхнуло на ухабе, и я треснулся головой о потолок салона. Поездишь по таким дорогам, и придумывать себе ничего не надо. А у меня, по-моему, дупло внизу справа намечается. Теоретически оно могло же заболеть? Могло. Ну и вот.
Подъехали к больнице. Слава вывел меня из машины, посадил в вестибюле на стул у стены, сказал подождать, а сам ушёл куда-то. Никаких терапевтических, хирургических и прочих отделений, как в городе, здесь не было. В общем коридоре прогуливались ходячие больные: кто на костылях, кто с повязками, кто без них. У окна разговаривали между собой две беременные. Меня так и тянуло сбежать, но надо было всё-таки попытаться одним махом загладить все углы.
Появился Слава с какой-то докторшей. Видимо, это и есть Вера Сергеевна. Ну что ж, будем играть до конца.
– Вот он, – показал Слава на меня. – Ну, я пошёл.
И он быстро скрылся. Вера Сергеевна сказала:
– Пойдёмте.
Мы зашли в какой-то кабинет, и докторша предложила мне сесть. Я сел и схватился за правую щеку, нарисовав на лице страдание, даже издал стон.
– Что, у вас ещё и зубы? – спросила Вера Сергеевна, стряхивая градусник.
– Почему «ещё»? У меня только зуб и болит, – проговорил я, не разжимая рта. – Со вчерашнего вечера.
– Погодите. – Вера Сергеевна замерла в недоумении. – Мария Егоровна сказала мне, что прибудет больной с простудой. Вот и место вам приготовили в пятой палате.
Я сыграл удивление:
– А вы разве не стоматолог?
– Я терапевт.
– Да нет у меня никакой простуды. Зуб болит, просто невыносимо…
– Вы что, издеваетесь?
– Послушайте. Сегодня утром радист на участке при мне передал: «острая зубная боль». А здесь, в посёлке, другой наш радист, видимо, не разобрал. Может, помехи были, искажения…
Докторша подозрительно посмотрела на меня:
– Как это можно настолько всё перепутать?
– Бывает, и не так путают, – заверил я её. – Как в анекдоте про английский язык: пишется «Манчестер», а читается «Ливерпуль». Так и у радистов: передают одно, а слышится иногда другое. А морзянкой мы не работаем.
И, видя на её лице сомнение, я открыл рот:
– У меня дупло справа внизу. Болит, как сверло заворачивают. Я ночь не спал, анальгина съел две упаковки – не помогает. Вот и решил вертолёт вызвать.
– А что же Вячеслав Аркадьевич мне ничего не сказал? И почему сразу не отвёл вас к стоматологу, а позвал меня?
– Не знаю. Может быть, чтобы вы место в палате для меня не держали… Но когда он прилетел и узнал про зуб, то не удивился. Сам же первый и предположил, что это радист неправильно понял.
Интересно, сказал бы Станиславский, посмотрев на меня сейчас, своё знаменитое «Не верю!»? Вряд ли. Я чувствовал в себе какой-то прилив вдохновения, внезапно открывшийся дар к импровизации. В эти минуты я понимал, почему на актёров сцена действует, как наркотик. Хотя аплодисментов, конечно, я был недостоин. Это-то я знал точно.
– Ну что ж, – сказала Вера Сергеевна, – идите к стоматологу. У неё кабинет слева от гардероба по коридору. Найдёте?
– Конечно, – с гримасой боли кивнул я и вышел.
Ну всё, кажется, выкрутился! Надо было идти за билетом в аэропорт, потом домой, то есть к себе на базу, но я подумал: вдруг Вера Сергеевна, добрая душа, спросит у стоматолога так, между прочим: мол, заходил к вам геолог, бородатый такой парень, которого на вертолёте привезли? И если узнает, что не заходил, поймёт, что всё было разыграно. Я был уверен, что Марии Егоровне она не пожалуется. Но оставлять ей шанс понять, что она была так подло, на голубом глазу, обманута, я не мог.
Возле гардероба вполоборота ко мне стояла Лужина и разговаривала с кем-то. Я поздоровался, хотя мы виделись. Она прервала разговор и догнала меня:
– Так вы вернулись? Ну что, как ваши дела?
Ей, конечно, надо было узнать, всё ли прошло гладко в аэропорту. Я успокоил её:
– Всё нормально, Татьяна Петровна. Сначала я был простужен, а вот теперь у меня зуб заболел.
И я коротко рассказал ей всё, что было в санрейсе и после. Чтобы она знала, как себя вести, если будут вопросы.
– И Вячеславу Аркадьевичу скажите, – попросил я. – А то он не знает про зуб.
– Ну, спасибо вам. – Она пожала мне локоть. – Кто же знал, что так получится.
– Это вам спасибо.
Пройдя дальше по коридору, я нашёл дверь в кабинет стоматолога. Возле него сидело человек десять. «Ну вот, как назло, очередь», – расстроился я и спросил крайнего. Но к стоматологу были только двое: пожилой мужчина и старушка, остальные хотели попасть к окулисту или к «ухо-горло-носу», кабинеты которых находились по соседству. Я стал ждать.
15
Грандиозная стройка, всё ближе подходившая к посёлку, пока никак не отразилась на районном средоточии здравоохранения. Здание, похоже, было довоенной постройки. В одной его половине располагался стационар, в другой – поликлиника. Стены, многократно побеленные известью с добавкой синьки. Местами под штукатуркой обнажалась дранка. Пол из широких и, видимо, очень толстых плах, прошарканный так, что сучки выпирали на сантиметр. Двери в потёках ядовитой зелёной краски. Стёкла в двойных рамах с частыми переплётами кое-где треснули, а то и были выбиты. Совершенно туземная обстановка. И в такой обстановке врачи как-то умудрялись лечить людей.
Дождавшись своей очереди, я открыл дверь, спросил: «Можно?» и застыл на пороге. За столом сидела совсем юная симпатичная девица. Наверняка у неё и чернила-то в дипломе не высохли.
– Входите, – пригласила девица.
Я сел на стул сбоку от стола. Раньше мне приходилось обращаться к зубным врачам, и каждый раз это были крепкие мужики с волосатыми пальцами. Я так и считал, что стоматолог – это мужская профессия, ведь зубы дёргать – не цветочки рвать. А тут какая-то фифа.
– Что у вас? Лечение, удаление? Где карточка?
– Девушка, столько вопросов сразу… На какой сначала отвечать?
– Вы карточку в регистратуре взяли? – Она была жутко строга, как все начинающие врачи.
– Вам уже нужна моя карточка? – начал скоморошничать я. – Извините, не успел сфотографироваться. Только что с вертолёта.
– Перестаньте клоуна разыгрывать. Ваша фамилия. Имя, отчество. Год рождения. Где работаете?
Она записала всё в тетрадь, потом спросила:
– На что жалуетесь?
– Жалуюсь на ваше невнимание. Вам с этого вопроса и надо было начинать. А вы – «фамилия, год рождения».
– Я знаю, с чего надо начинать. Так что у вас?
– Девушка, вы, надеюсь, обращаетесь с больными не так, как в анекдоте? Врачиха в стоматологическом кабинете включает бормашину и говорит: «А помнишь, Вася, как ты в школе мне кнопки на парту подкладывал?» Кстати, как вас зовут?
– Галина Юрьевна. Там в регистратуре написано. На стене график приёма.
– Я не через регистратуру. Я от Веры Сергеевны. Значит, Галина, и обязательно Юрьевна? А я Фёдор. Можно без отчества. И на «ты».
– Давайте всё-таки без шуток. А то я начинаю думать, что вы совсем на больного не похожи.
– Ты. На больного не похож. Ведь так лучше, правда?
– Послушай… те! Если у вас жалобы, давайте по существу, не отнимайте у меня время. Или я следующего приглашу.
Оттого, что она не подстраивалась под мой ёрнический тон и не отвечала на мою попытку флиртануть, у меня сладко заныло сердце. «Серьёзная девочка», – подумал я. Мне захотелось довериться ей во всём и рассказать, как мои благие намерения привели к тому, что я не могу управлять своими поступками и поток событий несёт меня неизвестно к какому финалу. Но тогда пришлось бы поведать ей и про филькину грамоту Татьяны Петровны, пусть это и было сделано по моей просьбе и из лучших побуждений. И даже если между ними хорошие отношения, Галина (ну какая она Юрьевна для меня!) не должна была этого знать. Мне оставалось только продолжать затянувшуюся пьесу.
– Следующего нет. За мной не занимали. Так что можете без спешки посмотреть на мой зуб. Внизу справа. Болит второй день.
Галина указала мне на кресло и начала исследовать мою нижнюю челюсть. Потом спросила:
– Давно болит?
– Я же говорил. Второй день.
– Что-то вы сочиняете, по-моему. Дырка есть, но очень маленькая, зуб крепкий, не шатается. И десна не опухла. Вера Сергеевна, говорите, направила?
– Ну да.
– Так сначала она вас осматривала?
– Да. У меня диагноз был ошибочный. Думали, простуда, а потом оказалось – зуб… Никакого терпения нет.
Галина взглянула на меня с сомнением, но я был совершенно серьёзен. Почему бы в самом деле не запломбировать зуб заранее, пока по-настоящему болеть не начал? Тем более что это хорошо бы проиллюстрировало необходимость моего вылета с участка. К тому же мне хотелось подольше посидеть наедине с… врачиней. Бог – богиня, граф – графиня… Я обрадовался своей находке. Так и буду её называть.
Галина отошла к столу, что-то полистала, потом вернулась и снова спросила:
– Значит, болит?
Я готов был дать руку на отсечение, что в её глазах мелькнула весёлость. Всё-таки таешь понемногу, врачиня. Конечно, строгость тебе идёт, но хочется посмотреть и на твою улыбку. И я её дождусь. Хоть одно будет утешение в сегодняшнем бестолковом дне. А полное утешение наступит, когда вернётся из Куморы Суханова. Или не наступит совсем.
– Болит, – ответил я.
– Придётся удалять, – заключила Галина. Она достала шприц и взяла из коробочки ампулу. – Не бойтесь, сейчас укол поставим, больно не будет. Новокаин хорошо переносите?
– Постойте, какой новокаин, – завозражал я. – Вы же сами сказали, что зуб крепкий, не шатается.
– Удалять будем другой зуб. У вас зуб мудрости режется, и режется неправильно.
– Какой такой зуб мудрости?
– Так называют последний в ряду зуб, восьмой. Он вырастает после всех других. Или совсем не вырастает. Но часто он растёт криво. Подпирает соседний зуб, и оба болят. Поэтому лучше сразу его удалить.
Она ещё и лекцию мне читала! Но несмотря на то, что она мне всё больше нравилась, терять зуб я не собирался.
– Знаете, – сказал я, – пока на зуб мудрости я не жалуюсь. Мудрость мне пригодится. Вы не можете удалять то, на что я не жалуюсь.
– Когда станете жаловаться, будет поздно. Начнутся невыносимые боли. А вы в это время опять куда-нибудь на вертолёте улетите. Открывайте рот.
– Не открою. У меня даже больной зуб перестал болеть от вашего коварства.
– Испугались? Потому что он у вас сразу не болел, я же видела. Зачем вы меня обмануть хотели?
– Так и вы мне про зуб мудрости, наверное, преувеличили, – упрекнул я её. – Я вам анекдот напомнил, а вы сразу решили ему последовать.
– Надо было вас проучить. А то заходит в кабинет и начинает сказки рассказывать… Так зачем вы ко мне пришли? Бюллетень я вам всё равно бы не выписала, если вы этого хотели.
Интересно, долетела Суханова до Куморы или нет? Сколько туда лёту? А может, возвращается?..
– Бюллетень мне не нужен. Просто сегодня всё по-дурацки как-то идёт… Напишите, что зуб у меня удалили, или что там нужно. И я уйду, – сказал я, пересев на стул.
– Зачем это вам?
– Ну пусть будет такая запись. На всякий случай. Иначе могут пострадать хорошие люди.
Не мог же я растолковывать ей, что этой записью полностью обеспечу себе легенду, по которой сейчас жил, как разведчик в глубоком тылу.
– Как это – на всякий случай? И кто может пострадать?
– Ну вам же ничего не стоит. Два слова: «удалён зуб». Его же не надо никому предъявлять. Или напишите, что укол поставили для снятия боли. Про укол-то можно?
– Написать всё можно, – сказала она. – Наверное, это вам очень нужно, но поймите… Я не могу сделать запись о том, чего не делала. Ведь это документ.
– И вы всю жизнь были такая правильная? И ничего не нарушали? Стойкий оловянный солдатик.
Галина взглянула на меня с каким-то сожалением.
– Если каждый будет считать, что можно хоть немного отступить от принятых правил, от законов, пусть даже и с доброй целью, это же всё разрушит… Не будет вообще никаких законов. Понимаете? Один раз можно, другой раз… И окажется, что можно всё!
– Хорошо, – сказал я. – Представьте ситуацию. Вот на войне прилетает самолёт к партизанам за ранеными. Он может взять на борт двадцать пять человек, а раненых больше. И пилот берёт и двадцать восемь, и тридцать человек. А если бы он…
– Это не война, и вы не раненый, – возразила она.
– Да не во мне дело! А в принципе.
Она не могла сделать для меня такую малость! В то время как я битый час прикидывался то простуженным, то страдающим от зубной боли. И не только ради себя, но и выручая других.
Дверь в кабинет приоткрылась. Просунулась женская голова.
– Можно к вам? Я уже полчаса сижу, и никто не выходит.
– Сейчас я вас позову. У него трудный случай, – сказала Галина.
– Вижу я ваш случай. Свидания после работы устраивайте, – недовольно пробурчала голова, но дверь закрылась.
Я поднялся со стула.
– Вот сейчас же вы слукавили. А два слова написать не хотите.
– У вас действительно трудный случай. И я, кажется, ничего не вылечила.
– Тогда напишите, что у пациента была зубная боль, но от испуга прошла, – сказал я. – Это почти так и было. По крайней мере, испуг был. И зубная боль могла быть.
16
Выйдя из больницы, я подумал и решил сразу идти в аэропорт. Здесь у меня почти не было шансов узнать, как всё прошло в Куморе. Спросить я мог только у Татьяны Петровны, да и то после того, как она сама узнает у Сухановой. Но был большой риск попасться Марии Егоровне на глаза, а ведь я должен был лежать в палате. Лучше я спрошу обо всём у Рудницкого.
Над посёлком взревел Ан-24 и взял курс на город. Я вспомнил, что этим самолётом должен улететь главный геолог со Снежного, которого привёз Рудницкий утром. Но то, что было утром: Боря, моё возмущение, совет Людмилы, – казалось, происходило очень давно. А лучше бы не происходило совсем. И вот как будто я опять иду в аэропорт узнавать, не вывез ли Павел Сергеевич всех своих охотников, и сейчас он мне скажет, что не всех, а я буду возмущаться и в конце концов снова уйду ни с чем. И буду искать способы организовать себе рейс на участок. И хорошо, если кто-нибудь мне подскажет что-то совершенно другое…
Едва затих в небе гул самолёта, тут же застрекотала «двойка». Я ускорил шаг. Подойдя к аэропорту, я увидел, как из ворот выехал санитарный уазик и помчался в сторону больницы. Рудницкого я встретил, когда он шёл от вертолёта в диспетчерскую.
– Ну что, больной, уже сбежал? – устало сказал Рудницкий, когда я возник перед ним.
– Долго рассказывать, – ответил я. – Вы-то как слетали?
– Слетали…
– Что там с родами?
– Двойня у неё оказалась. Но живой только один. Второй совсем слабенький родился.
– Но это при вас было? Вы успели?
– Я же не ездил с Сухановой. Я на аэродроме ждал.
– Значит, она опоздала, – сказал я и остановился. – И опоздала из-за меня. Из-за моего будто бы санрейса.
– Да погоди ты! – Рудницкий тоже остановился. – Что ты расплакался? Она не говорила, что опоздала. Она этого не говорила, – раздельно произнёс он последнюю фразу.
– Вы так говорите, потому что сами чувствуете, что тоже виноваты. Вы же знали, что мы с вами не за больным полетели.
– Ну не к тебе, так на Абчаду бы я улетел, и что? Это намного дальше, чем к тебе. И с Сухановой мы полетели бы ещё позже. А ты со своим санзаданием, наоборот, мне время сэкономил. Мы ведь уже возвращались, когда я вызов в Кумору получил. Хуже было бы, если бы я на Абчаду ушёл. Далеко улететь бы успел.
– Это случайно получилось. А вас всё равно бы с полпути вернули.
– Ну, вернули бы. И это было бы дальше. И Суханова тем более ничего бы не смогла сделать. Совсем слабый был пацанчик.
– Вас же там не было.
– Она сильно переживала. Сама мне всё рассказала. Я с ней столько всяких разных вывез… Она сказала, что если бы в городе, то можно было бы спасти. А здесь почти ничего у неё нет… А так мать в порядке, девчонка более-менее в норме.
– Какая девчонка?
– Второй ребёнок. Я же сказал – двойня.
– Зря утешаете, – сказал я. – Всё равно не так мы сделали. Не надо было этого делать.
– Вот заладил! Я тебе повторяю: хорошо, что ты со своим санзаданием подвернулся. Иначе в Кумору мы точно могли опоздать. Тогда и девчонку бы она не спасла.
И он пошёл в диспетчерскую.
А я закурил и побрёл к калитке. Ничего мне было не понятно. Правду ли говорил Рудницкий? Если правду, тогда, получается, нас всех награждать надо – за выдуманный санрейс, из-за которого хоть одна кроха жива осталась. И, выходит, ни к чему были мои вдохновенные лицедейства.
А если он опять, как тогда в полёте, на ходу придумал индульгенцию для всех нас, для нашей совести? Ведь некогда ему было высчитать, далеко ли бы он улетел в сторону Абчады и когда бы смог прибыть в Кумору. Надо же учесть, сколько времени ушло бы на заправку, какой был ветер: попутный или встречный, да и скорость этого ветра знать. Или он прикинул без вычислений, по опыту? Но как его проверить? Да и стоит ли делать это, если всё произошло так, как произошло, и ничего не изменишь?
Я не знал.
Сзади кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся – Олег, милицейский сержант. «Ещё и с куревом попался», – обречённо подумал я и полез в карман за деньгами.
– Ну что, ветра и солнца брат, как дела? – подмигнул Олег. – Летал куда-то?
– Да нет, вертолёт встречал. А ты всё курильщиков ловишь?
– И это тоже… Да ладно, убери, – отвёл он мою руку с пятёркой. – Вижу, чем-то расстроен. Лежачего не бьют.
И он поспешил дальше.
– Но всё равно – правила никто не отменял, – обернувшись, вдруг сказал Олег. – Если их написали, значит, были причины.
– Может быть, ты и прав, – ответил я.
2013–2015
Где ты забудешь о плохом
Не страна у нас недостойная, как вы изволите утверждать, а то, что с нами происходит сейчас, – недостойно нашей страны.
«Жиды города Питера, или Невесёлые беседы при свечах»[1]
1
– Вы всё один да один, – сказала Ирина.
– Привычка, – ответил Кондратьев.
«Возвращение (Полдень, XXII век)»
Бывает, что к кому-то и в двадцать лет неловко обращаться, скажем, «Саша» или даже «Александр» – только по имени-отчеству, настолько старше своего возраста он выглядит, да и держит себя соответственно. А вот инженер-геолог Лисихин, несмотря на приличные уже годы, всё никак не мог стать Виктором Пантелеевичем. Был он невысок, худ, весь жилистый, поджарый, лёгкий в ходьбе и беге. Острый нос, голубые глаза, рыжеватые волосы и короткая бородка. Время почти не меняло его внешность, он был как мальчишка среди погрузневших, солидных ровесников. И все называли его – Виток.
И хорошо ещё, что Виток, а не Витёк, иначе было бы как-то совсем несерьёзно, по-пацански. Так его дома, в небольшом городишке на Рязанщине, звала мать. Она нагрянула к нему в гости через месяц после того, как он приехал в Северо-Майскую экспедицию после окончания института. Один был у неё Виток свет в окошке, побоялась сразу надолго отпустить от себя сына в эту дремучую, холодную Сибирь, вот и решилась на дальний путь, посмотреть, как он устроился. Да только не застала его в посёлке, поскольку молодой специалист срочно был отправлен на полевые работы, которые, хоть и сорвал последние листья с деревьев октябрь, заканчивать было рано. Летом, когда Виток вместе с однокурсниками натирал кирзой мозоли «в лагерях», готовясь к экзамену на военной кафедре, его будущие сослуживцы нашли в горах проявление молибденовой руды, и теперь вся партия, пока не лёг снег, ударно документировала бульдозерные канавы – их в азарте поисков накопали, где надо и не надо. Молибден всё время хитрил, прятался и в руки не давался, но, чтобы не пропали затраченные средства, все, даже заведомо пустые, канавы надо было зарисовать, измерить и отобрать из них пробы. Мать с неделю прожила в экспедиционной заезжке, каждый день заходя в контору справиться, не вернулся ли её Виток. Уехала обратно, так и не дождавшись: дома всё на соседку оставила, душа болела по своей избе, по хозяйству. А когда с морозами партия вернулась наконец в посёлок, Лисихин, с лёгкого языка конторских тёток, стал для всех навечно Витком.
Он считался лучшим поисковиком в экспедиции. Было у него особое чутьё или уж везло ему так необычайно, но там, где до него десять человек прошли и ничего не заметили, Виток находил породы, указывавшие на несомненную близость руды, а то и сразу рудные обломки. Одна из таких находок привела его к открытию месторождения, за что получил Виток наряду с разными непричастными к этому делу лицами (начальник экспедиции, начальник партии и некоторые прочие) диплом и значок первооткрывателя, а также солидную премию. А вот камеральные работы, когда надо было сидеть в кабинете и чертить карты, писать отчёты и планировать дальнейшие поиски, он почему-то терпеть не мог. И даже зимой сам вызывался или разведку бурением проводить, пока болота замёрзли и можно проехать на дальние участки, или грузы по зимнику сопровождать, а то и просто охранять до лета полевые базы. Несколько раз, желая продвинуть его по служебной лестнице, назначали Витка начальником небольших поисковых отрядов, но он, поработав месяц-другой, сам отказывался: «Не могу брать на себя столько ответственности, я начинаю переживать, если что-то не получается, плохо сплю, давление поднимается… Лучше уж я сам за себя буду». Начальство снисходительно относилось к его чудачеству, тем более что желающих провести зиму в тепле и уюте дома всегда было больше, чем добровольных зимовщиков.
А Виток ни дома, ни семьи не имел, жил в общежитии, а между тем недавно стукнуло ему сорок. И не стукнуло даже, а ударило капитально. «Сорок лет не празднуют», – говорили ему все вокруг. Он и не стал, но грех было круглую дату не отметить хоть как-то. И Виток позвал к себе старого своего дружка Петра Зарицкого. Были они однокурсниками, но Петру три года пришлось отработать по распределению на добыче песков и глин в одной из чернозёмных областей, и лишь после этого, списавшись с приятелем, он приехал покорять романтический Север. Выпили они тогда за юбилей бутылочку «Плиски», покурили, повспоминали молодость. Пётр ушёл за полночь, а Виток лёг спать. В четвёртом часу проснулся оттого, что сильно колотилось сердце, прямо рёбра гнулись. Он лежал и ждал, что вот поколотится оно да и успокоится, как уже бывало. Но лучше не становилось. Он испугался, что может отключиться и никто ему не поможет. Кое-как добрёл до больницы на соседней улице, и там его уложили на полмесяца в палату.
«Инфаркта, слава богу, нет, – посмотрев кардиограмму, сделала вывод пожилая фельдшерица. – Хорошо, что сердце у тебя сильное… Сорок лет для мужчин – опасный возраст. Организм перестраивается на старость, вот и происходят всякие сбои». – «Какая же у меня старость», – сказал Виток. «А как же, пятый десяток – это тебе не молодость. А ты ещё и холостой, оказывается. Пьёшь, куришь?» – «Не больше, чем другие». – «Другие-то в семье живут. Если не хочешь помереть раньше времени, жену себе найди».
Легко сказать. Виток-то был не прочь, но здесь его поисковый талант не срабатывал. Зато подтверждался закон равновесия, по которому не может человеку везти во всём сразу. Удача в геологических поисках оборачивалась полным крахом в устройстве семейной жизни. Бывали, конечно, разные встречи, и девчонки симпатичные попадались, но всякий раз не получалось надёжного контакта: так, чтобы навсегда одно к другому припаялось. Сердобольные пожилые тётушки из бухгалтерии жалели его: это ведь шесть процентов от зарплаты парень теряет за бездетность! А начальница отдела кадров посылала к нему в партию на практику самых красивых студенток, но дальше скромных букетиков и посиделок наедине у костра отношения не продвигались. Или Виток разочаровывался (одна курила, другая молоток держать не умела, третья ноготочки крашеные берегла и отказывалась по кухне дежурить), или они считали нудными и даже издевательскими его требования бескорыстного и добросовестного исполнения ими должностных обязанностей, но осенью расставание было без взаимной печали, что чрезвычайно огорчало кадровичку, да и всех сочувствующих.
Пётр Зарицкий в очередной раз спрашивал:
– Чем тебе эта-то не понравилась? Смотри, довыбираешься, останутся одни мочалки старые. Размножаться-то думаешь?
Но Виток, сам удручённый тем, что ни с кем у него не вытанцовывается, отвечал:
– Женщины делятся на два типа: просто дуры и дуры с претензиями. Зачем это мне?
Пётр злился:
– А моя жена из каких?
– Ну, твоя как раз исключение. А для меня таких исключений уже и не осталось.
– Смешной ты, Витька, – остывал немного Пётр. – Это дуры как раз исключение. А вообще женщины делятся на дам, не дам и дам, но не вам.
– Ну, это старо.
– Зато всегда актуально, – смеялся Пётр. – Ничего, бабу мы тебе найдём, – заканчивал он студенческим присловьем.
В разных вариантах эти милые беседы повторялись из года в год, но Виток, хоть и жутко было ему с тоскливой безысходностью сознавать, что так и проколышется он в этом мире пустоцветом, пресекая род, и чувствовать за это вину перед всеми коленами предков, в конце концов на перспективах своей семейной жизни нарисовал крест и всё реже старался бывать в посёлке, выпрашивая себе самые дальние и длительные командировки. И что могли изменить назидания фельдшерицы, если от его желаний ничего не зависело? Ну не судьба, и всё тут.
Но вот однажды весной, накопив отпусков за три года, укатил Виток на родину, а когда вернулся, сосед его за стенкой, канавщик Валерка по прозвищу Одесса, вечно ходивший по посёлку или пьяным, или с похмелья, целых три дня был как стёклышко и непривычно тихим. И было отчего: привёз Виток с собой сразу и жену, и дочь. Валерка, который действительно был когда-то одесситом, но однажды вышел из дому за хлебом да так больше и не вернулся, после причудливых извивов судьбы осев на северах, уважал Витка за его всегдашнее дружелюбие ко всем, будь то итээровец или пролётный сезонный бич, и добросовестно старался не шуметь в комнате, прислушиваясь к новым звукам из-за стены. Там иногда рассыпался тёплым песочком женский говорок и слышалось треньканье гитары: двенадцатилетняя дочка занималась по самоучителю.
Одесса, ожидавший вертолёта на участок после недельного «выхлопа», всё-таки не выдержал тоски воздержания и перед отлётом провёл бурный вечер в тёплой компании, но постарался, чтобы мероприятие проходило не в его комнате, а у одного из корешей, в другом конце коридора. Наутро, когда Одесса с мордой, как шофёрское ведро, маялся на крылечке, находя в карманах только мелочь, Виток сам предложил ему поправиться, вынеся полстакана водки и сказав при этом:
– Даша моя велела.
Валерка – губы навыкате, руки в тряске, взгляд, как у быка на бойне, – принял снадобье всё сразу, крякнул, выдыхая, и расклешнил свою длань на Витковом плече:
– Правильная у тебя мадам! Смотри, не обижай её.
И отрулил в свою комнату – дожидаться машины на аэродром.
Виток сперва обиделся, аж слёзы проступили. Да как у Одессы и язык-то шевельнулся! Потом рассудил, что никто ведь не знает, даже не догадывается… Вот уже третий месяц Виток просыпался с чувством нереального счастья, будто попал он в сказку про какую-нибудь Василису Премудрую, где сам он хоть и Иван-царевич, но такого счастья не заслужил, просто по сюжету так положено. И всё боялся проснуться однажды и увидеть, что сказка кончилась и ждёт его одинокий серый день. Но каждый раз утром он снова удивлялся: неужели всё это мне? И Дашино дыхание, и спутанные во сне её длинные русые волосы на подушке, и брошенное на стульчик у дивана платьице Маришки, и непривычный, но сразу ставший родным уют, который непременно возникает везде, где появляется женщина… Заливаемый горячей нежностью до самой тонкой жилочки, осторожно сняв Дашину руку со своего плеча, Виток выбирался из-под одеяла и шёл умываться на речку, чтобы не греметь рукомойником. А вернувшись, долго сидел на лавочке у крыльца, пока не решал, что девчонки уже выспались и пора идти завтракать.
2
У большинства здесь нет настоящей идейной закалки, настоящей убеждённости в неизбежности светлого будущего.
«Град обречённый»
Пётр Зарицкий, хоть и строил из себя обиженного на то, что схлюздил дружок, зажал свадьбу, был рад за него.
– Глядишь, я ещё до внуков твоих доживу. Но как ты всё-таки сподобился на такой подвиг?
Они сидели на берегу речки Еловки, недалеко от посёлка, и пили пиво по случаю субботы. Пётр, высокий и широкоплечий, с кулаками размером с детскую головёнку, недавно приехал с полевого участка, где работал горным мастером. Был один из последних дней бабьего лета, когда разливается в воздухе тихое, мягкое тепло, не изнуряя знойной духотой, полной комаров, мошки и прочей кровососной публики. По берегу задумчиво и неслышно бродили осины и берёзы в просвечивающих платьях. Ближние сопки кое-где полыхали жёлто-красным пламенем переспевшей листвы, пытавшейся зажечь пожар в тёмно-зелёном кедраче. А над ними в ледяной синеве белел первым снегом голец Кирон.
– Да мы вот с таких лет с Дашей знакомы, – охотно рассказывал Виток. – У них дом напротив был, через улицу. Играли вместе, хотя она моложе на два года. Я тогда ещё глаз на неё положил, хоть мы и ссорились часто, и она начинала дразниться «Витька-титька» и вообще издевалась как могла. Ну, и я тоже дразнился – «рёва-Царёва». Но вообще-то больше в мире жили, и пацаны обзывали нас женихом и невестой. В общем, как везде… А когда подросли, как-то дичиться стали друг друга, стесняться общего детства, что ли. Почему-то вот на этом переломе возраста всегда возникает отчуждение. У меня и со многими дружками детства так же было… Потом уехал я в институт, на каникулы каждое лето приезжал – она всё расцветает. Хотел я вернуть прежнюю простоту между нами, да как это сделать? У неё ухажёры появились, а на меня она – никакого внимания.
– Подумаешь, ухажёры, – хмыкнул Пётр. – Я вот свою Лариску, считай, из-под венца увёл. Собралась за однокурсника-стоматолога, и тут я возник. Говорю: представь, что каждый вечер будешь слушать, как он в чужих зубах ковырялся. Подействовало сразу же. До сих пор вспоминаем…
– Да не хотел я навязываться ей, раз не глянусь… В первый отпуск приехал, а она уже замужем. За парнем с соседней улицы, я и не знал его толком… Детей долго не было, Маришка через семь лет родилась. А папаша как раз перед этим лыжи смазал. Любил погулять, домой приходил только поесть да отоспаться. Мать мне рассказывала, сколько она с ним натерпелась… Но поманила его какая-то столичная цаца, за ней увязался. Про дочь и не знает, Даша сама решила: ушёл, и чёрт с ним.
– Зачем же она за него выходила?
– Да это я дурак оказался… – Виток дрогнул голосом. – Нынче вот в отпуске встретил её на улице – не разойтись. «Как живёшь?» – «Хорошо», – отвечает. Потом спросила, почему я тогда уехал и не попрощался. Говорю: «Ты на меня и не глядела, я и подумал, что тебе всё равно». – «Эх ты, – говорит, – разве женщина должна внимания добиваться? Я каждый день ждала, что ты придёшь». – «А как же, – говорю, – ухажёры твои? Ты же с ними ходила». – «Да я думала, ты за меня драться будешь, я же давно видела, что нравлюсь тебе… А ты уехал. Вот я и пошла за того, кто первый позвал».
– Ну и оба дураки, – заключил Пётр. – Ишь, какие сложные: ты думал, она думала… А чего тут думать, если душа зовёт.
– Да ладно, чего ты… Теперь всё хорошо. Маришка меня сразу приняла, папой зовёт. А я и сам скоро папой стану.
– Давно пора! – заулыбался Пётр. – Кого заказали?
– Мне бы сына, конечно. Даша тоже говорит: Маришке братик нужен. Но я не расстроюсь, если будет дочь. Я уж имена придумывать начал. Для дочки мне Александра очень нравится. А для сына не нашёл пока.
Над ними, снижаясь, проплыл оранжевый вертолёт и скрылся за домами посёлка. Проводив его глазами, Виток отхлебнул пива, пожевал вяленого хариуса и растянулся на траве, положив руки под голову.
– Да, меняются времена. В городке нашем церкви заброшенные ремонтируют полным ходом. В некоторых уже службы идут. На какой-нибудь Спас столько народу набивается! Все стали такие верующие. И крестят детей, и сами крестятся. Кто бы мог подумать ещё пару лет назад?
– Креститься-то ладно, люди всё равно и крестились всегда, и молились, – возразил Пётр. – А вот посмотри. Сначала мы социализм улучшали, Мишку Мигулина начальником сами себе выбрали. А теперь в капитализм развернулись, акционерное общество создали. Дёргаемся туда-сюда, как рыбы на крючке. «Кто бы мог подумать ещё пару лет назад», – передразнил он приятеля, – что мы с тобой ак-ци-о-нэ-рами заделаемся. Чего там эти гарвардские мальчики ещё насоветуют… Но что-то я сомневаюсь, что мы обогащаться начнём.
Виток всегда считал, что Пётр лучше него разбирается и в политике, и в экономике, которые ему самому в прежние годы, в общем, и не нужны были. Собрал рюкзак, уехал на полгода – и как-то без надобности было знать, что там в мире делается. Впрочем, он слушал радио, был в курсе всех основных новостей и радовался, когда видел, вернувшись из очередного заезда, что вместо дряхлых, еле живых старцев в газетах и в телевизоре появился энергичный улыбчивый вождь, расшевеливший страну и объявивший о перестройке прежней жизни – не сказать, что невыносимой, но какой-то замороженной, без огонька – в новую, свободную и изобильную. Виток ходил по посёлку и удивлялся, почему люди не стали веселей и добрее, почему не радуются тоже, ведь у нас такие дела начались! И впервые не соглашался с Петром, который почти сразу заявил, что «меченый» до добра не доведёт.
Но потом это озоновое опьянение постепенно прошло, и Виток, признавая правоту своего друга, вместе со всеми костерил по-прежнему бодрого и словоохотливого предводителя, потому что почти на всякую покупку, даже зубной пасты и стирального порошка, надо было получать талоны в поссовете, а в продуктовом магазинчике возле конторы уныло и обречённо лежали на витрине разве что жестянки с какой-нибудь морской капустой и частиком в томате. Талоны получали и на водку – каждому совершеннолетнему на месяц полагалось две пол-литры, и поскольку взять её иным путём было негде, водка превратилась в жидкую валюту и закономерно перетекала от непьющих женщин и старушек к изнурённым трезвостью мужикам, готовым за драгоценный квиток и дров наколоть, и картошку окучить, и осуществить ещё массу полезных мероприятий. Раз в месяц все магазины в посёлке превращались в цирковые арены – у водочных отделов происходили схватки, не уступавшие по напряжённости давним чемпионатам французской борьбы с участием какого-нибудь Збышко-Цыганевича или Джона Поля Абса Второго. Борьба нередко сопровождалась акробатическими номерами, когда особо нетерпеливые пробирались к заветному прилавку по головам толпящихся или, наоборот, умудрялись прошмыгивать у них под ногами. Эти импровизированные антре часто приводили уже к кулачным боям, поэтому со временем в каждом магазинчике появилось для таких акций отдельное окошечко на улицу. Отоварившись, страждущие тут же отправлялись реализовывать своё право напиваться и быть напоенными, иногда с мстительным злорадством распевая частушку:
- Как поедете в Москву,
- передайте Мише:
- мы как пили, так и пьём,
- только чуть потише.
Когда воцарился другой вождь, как-то хитро и подло переигравший прежнего, сочинив и подписав с подельниками грамотку о ликвидации недавно могучей, а теперь раздираемой на части империи, Виток обнадёжился, но ненадолго. Вставший у руля командор обаятельно уговаривал всех немного, ну чуть-чуть, потерпеть, и всё наладится, однако в магазинах так и было пусто, а зарплату задерживали. И вот однажды поселковый народ, едва отпившись рассолом от новогоднего похмелья, увидел в магазинах новые ценники на всё, что ещё в них оставалось, и крепко удивился: цифры были намного больше, чем прежде. И почти с каждым днём они увеличивались. То были деньги, да нечего было купить, то появились товары, да купить стало не на что. Покупателей в магазинах было меньше, чем продавцов. Да и сами деньги не успевали за ценами – скоро Виток стал приходить за зарплатой, выезжая с полевых участков раз или два в год, с небольшим рюкзаком и получал в кассе десяток-полтора перевязанных шпагатом и осургученных пачек невзрачных синеньких купюрок, потому что они стоили теперь дешевле, чем бумага, на которой их печатали.
– Чего-то я тоже сомневаюсь, – сказал Виток. – А видал, Мишка-то какой стал важный? И не подступись. Михаил Алексеич, как же! Генеральный директор. Почти что генеральный секретарь… А помнишь, когда он потерялся на Буканде, мы его два дня искали? На выстрелы наши вышел, весь какой-то съёженный, взгляд как у пса побитого. Чуть не плакал: «Ребята, век не забуду»…
– Да помню.
– А сейчас и здоровается через губу. Высоко залетела пташка. Может, сойдёт с него блажь-то эта, ведь нормальным, в общем, парнем был.
– Не знаю, – ответил Пётр. – Вряд ли.
– Раньше можно было поговорить с ним по-простому, спросить, как наши перспективы, какие новости там, наверху, пошутить даже вместе. И вдруг – стоп, шлагбаум, гусь свинье не товарищ. Скоро скажет, чтобы называли его не иначе как «господин директор». Вообще, как только все перестали быть товарищами и перешли на господ, так и понеслось…
– Власть, Виток, власть. Редко кто от власти голову не теряет. Особенно если сам к ней стремился.
– Да какая у него особенная власть – человек триста подчинённых. Не вассалы же, не крепостные…
– Значит, для него достаточно, чтобы хвост распушить.
– Да и ладно. Но я вот чего не пойму – не только он, многие как-то быстро переменились. Вот жили мы вместе с ними рядом, делали одно дело, почти дружили, можно сказать. А теперь получается, что мы вроде как с одной стороны баррикад, а они с другой… Когда всё начиналось, оно ведь задумывалось для того, чтобы всем лучше стало жить, а не только некоторым, кто пошустрей оказался и урвал кусок. Зачем столько шумели на съездах, зачем эти трое ребят погибли тогда в августе, если всё так повернулось, что всякая там инфляция, безработица, наркотики, девки продажные, этот – как его? – рэкет… Они всегда были где-то там, далеко, а теперь вот и у нас. Откуда это всё повылазило? Где эти отважные, решительные люди, которые Белый дом защищали? Куда они подевались? Тоже отхватили себе куски и теперь довольны?
– Чудак ты… на одну букву, – усмехнулся Пётр. – Всё с самого начала так и было задумано. Одним – шоколадки, а другим – сухарики. А остальное – это как приложения бесплатные.
– Да ну – «задумано». Это мы сами как-то прошляпили. Начиналось-то ведь правильно, много чего менять надо было. А потом застряли, забуксовали. Только орали: «Свобода, свобода!» А свобода должна какие-то границы иметь. Иначе анархия получается. Каждый что хочет, то и творит. Вот недавно я прочитал, один такой заявил: «Что вы жалуетесь на жизнь, кричите, что кто-то хапнул, а другим не досталось? Ну вот я хапнул, и рад этому. А вы почему не хапнули?» Он представить себе не может, что большинству людей просто в голову не приходит что-то хапнуть.
– Виточек, ты мал и глуп… – Зарицкий потрепал его по рыжеватым вихрам. – Про мировое правительство слышал? Это они для всех законы устанавливают. Теперь вот и до нас добрались. Насажали своих людей везде. А мы тут ползаем, как букашки, и ни на что влиять не можем.
– Ты веришь в эту чепуху? – изумился Виток. – И кто же туда входит?
– В том-то и дело, что никто не знает. У них конспирация строжайшая. А только без них ничего в мире не решается.
– Да брось ты! Кто-то байки сочиняет, а ты всерьёз…
– Ладно, не о том сейчас надо говорить, – оборвал его Пётр. – Ты вот как дальше жить-то собираешься? Вас четверо скоро будет. Так и останешься в этой… хижине дяди Тома?
– Тесно, конечно, – согласился Виток. – Да ещё это… Лежим с Дашей и ждём, когда холодильник заработает. И всё потихонечку, потихонечку. А то вдруг Маришка не спит?
– Ну вот я и говорю, – продолжил Зарицкий. – Надо тебе заяву в разведком подать, пока он ещё существует. На расширение. Ты человек заслуженный, первооткрыватель. Видал, четыре новых дома строится?
Виток качнул головой. Он и сам понимал, что в его комнатушке дальнейшая семейная жизнь превратится в убогое существование. Одиннадцать квадратов, кухня общая, удобства на улице, соседи – бессемейные пролетарии, не наделённые нежными характерами. Одному-то ему среди них проще было, к тому же его жизнь проходила больше в горах да в тайге, где он чувствовал себя легко и независимо, растворяясь в природе и вместе с ней следуя её законам. Теперь же, хоть и тянуло иногда к прежней вольнице, но больше хотелось быть рядом с Дашей, быть отцом для Маришки, вообще чувствовать себя главой семейства. Мягкая Дашина настойчивость понемногу отучала Витка от холостяцких привычек, и он бросил курить, перестал разбрасывать везде носки и рубахи и впервые за много лет не стал проситься на зиму на какой-нибудь дальний участок, а сидел в конторе и рисовал карты, схемы и разрезы, вспоминая давно забытые навыки. После работы он с радостью спешил домой, купив по пути шоколадку или вафли для Маришки.
– Так они все уже распределены, наверно, – мрачно сказал он. – А больше и не будут строить. Мишка же говорил – Москва деньги даёт только на поддержание штанов. Решили, что не нужна стала геология, слишком много мы всего наоткрывали. Даже диссертации на эту тему пишут.
– Ну это ерунда! – заявил Пётр. – Какая может быть экономика без геологии? К тому же золотишко-то всегда стране нужно будет. А мы скоро сами начнём россыпи разрабатывать… Но тебе обязательно надо в одну из этих новостроек заселиться. Мишка теперь, точно, на жильё вряд ли раскошелится. Себе-то дом отгрохал двухэтажный, с гаражом. Вот куда денежки ушли. А начни копать – по бумагам всё в ажуре окажется.
– Кто же будет всё переигрывать? Да и попробуй только заикнись – такой хай подымется. Не хочу.
Пётр вскочил и начал махать руками.
– Что ты филантропию разводишь? Полжизни в полях провёл, имеешь право на нормальное жильё! Не надо в благородство играть. Ты вот месторождение нашёл, а Мишка лицензию продаст каким-нибудь олигархам, думаешь, тебе что-нибудь достанется? Всё между своими поделит.
– Откуда ты знаешь?
– Интересуюсь. В конторе-то почаще, чем ты, ошиваюсь… Лицензии он сразу оформил на всё, что мог. У меня бы ума не хватило. А теперь будет торговать ими потихоньку. Там же всё схвачено.
Виток сидел молча и смотрел на сопки. Пётр сел на траву рядом.
– У нас, дорогой мой, теперь капитализм. А как нам говорили про него раньше? Там нет справедливости, там человек человеку волк. Это потом всё развернули наоборот, послушаешь – так просто райская жизнь скоро наступит… Для кого-то, может, и наступит. Для Мишки и компашки его. А для нас шиш. Так что хоть зубами, хоть когтями, но должен ты себе хату выскребать.
– Да не могу я так, пойми ты. Чем я тогда лучше Мишки буду?
Пётр ткнул его кулаком в бок.
– Я узнавал у Дваждыкентия – по квартирам только предварительное решение было. Ещё ничего не утверждали, ордеров не выписывали. Так что пиши заяву и не заморачивайся.
3
Хотите верьте, хотите нет, но эта моя комната сама себе не нравится.
«Парень из преисподней»
Виток давно мечтал о своём доме. До того надоела общага с её вечным шумом, галдежом и гулянками, куда постоянно подселяли бесприютных индивидов со смутным прошлым и полным отсутствием изящных манер. Часто это были персонажи, недавно вышедшие на свободу из мест, как принято говорить, не столь отдалённых, которые, имея опыт жизни среди суровых нравов и в условиях постоянного смирения плоти, пытались приспособиться к вольной жизни именно в геологии, – тем более что она всегда охотно принимала всех, кто был годен к тяжёлому неквалифицированному труду в отрыве от очагов цивилизации. В полевых условиях они проявляли (за редкими исключениями) такое трудолюбие, что хоть значки ударников навешивай, а то и медали, и пахали на проходке канав и шурфов с утра до вечера без выходных, потому что заработок зависел «от кубов»: больше накопал – больше получил. Виток иногда даже притормаживал кое-кого – однажды невысокий, худощавый мужичонка сказал ему, что не надо сооружать над шурфом вороток для подъёма бадьи с породой: «Чё время-то терять? И наряд неохота на двоих делить». – «Так проектная глубина – пять метров. Ты оттуда лопатой будешь кидать?» – спросил его Виток. «По такому грунту я и с шести кидал», – заявил мужичонка, и Виток почему-то ему поверил. Но по технике безопасности ручная выкидка породы разрешалась только до двух с половиной метров, и Виток всё-таки распорядился установить вороток: мало ли что может случиться, отвечай потом. Мужичок был очень недоволен, но, похоже, не столько потерей времени и денег, сколько отнятой возможностью показать свою удаль.
Но всё менялось, когда работяги прилетали в посёлок на отгулы или на увольнение в конце сезона. Получив в конторе свои длинные рубли, они несколько дней предавались таким диким оргиям, что древние римляне наверняка позавидовали бы. Откуда-то в их обществе появлялись весьма поизносившиеся гетеры, сильно проигрывавшие античным в красоте и образованности. И поскольку у «патрициев» гонору было выше крыши, они дрались из-за них между собой (да, впрочем, и по любому поводу), мирились, распив очередной «пузырь», и снова дрались, производя в общежитии невероятный шум и превращая комнаты в конюшни. Иногда бывало, что кого-то несильно резали, и тогда соседям приходилось искать участкового Самедова, который сначала препровождал виновника в свою «кандейку», а потом отправлял в городскую КПЗ[2]. До смертоубийства дело не доходило, но Виток, если был в это время в посёлке, уходил ночевать к Петру, потому что от кого-нибудь могло прилететь и ему – просто так, от избытка чувств. Да и всё равно в такие дни, он, как ни закрывал голову подушкой, заснуть в своей комнате не мог.
Пирушка заканчивалась самое большее через неделю, когда заработанные за несколько месяцев деньги разлетались неизвестно куда, и тогда решившие остаться на зиму кадры приходили в комнату к Витку, сильно извинялись за имевшие быть беспорядки и просили срочно отправить их в какую-нибудь разведочную партию, где накормят, напоят и спать уложат, а главное, снова дадут заработать. Прочие как-то ухитрялись перебазироваться на Большую землю, чтобы по весне попытать счастья снова.
С годами Витку стали чрезвычайно докучать эти «фестивали» в редкие недели домашних побывок. Однако на свой дом можно было рассчитывать, только заимев супругу и детей. Виток же, потеряв всякую надежду на устройство личной жизни, сознавал, что мечта так и останется мечтой, и стремился как можно реже появляться в посёлке в том числе и от тоски по несбыточному.
Но и теперь, став главой семейства, Виток не надеялся, что у него получится свить здесь настоящее родовое гнездо. Хотя Северо-Майская экспедиция (а теперь – АООТ «Северомайгео») располагалась в посёлке больше сорока лет, квартирный вопрос так и не был решён полностью. Многие жили в малосемейках – таких же общежитиях, что и у Витка, разве что без примеси контингента вольных искателей приключений. Они были построены в те годы, когда за благо считалось иметь хоть плохонькое, но бревенчатое жильё, а не землянку или засыпушку. Со временем появились и добротные брусовые дома, и новая кирпичная двухэтажная контора с лозунгом на фасаде: «Богатства недр – Родине!», но малосемейки продолжали существовать. А в условиях, когда денежный поток из центра почти пересох, превратившись в маленький ручеёк, на четыре квартиры, о которых говорил Пётр, было достаточно претендентов.
Под танковым напором Петра Виток всё-таки написал заявление и понёс его в разведком экспедиции. Председатель профсоюзной первички Иннокентий Викентьевич Морозкин, известный в народе как Дваждыкентий, грузный седой мужчина на шестом десятке, бывший маркшейдер, сидевший в этом кресле почти двадцать лет, прочитав листок, затуманился и, почмокав губами, произнёс:
– Ну что, правильно написал. Одобряю. Пора тебе расставаться с этой… богемой неприкаянной. Но, боюсь, не по адресу ты пришёл.
Виток удивился:
– Как не по адресу? Жильё всегда профсоюзы распределяли.
– Всегда-то всегда, – сказал Дваждыкентий, подняв палец, – но совместно с администрацией. Только старая метла теперь по-новому метёт. Генерал сказал, что обойдётся и без профсоюза. Так что я этот кабинет скоро покину. Да и кабинета не будет – наш Михал Лексеич задумал тут комнату для релаксации сделать.
– Чего-чего? Это что за зверь?
– Релаксация-то? Восстанавливаться здесь, значит, будут после нервной работы. Бильярд поставят, бар с напитками, телевизор. Музычка, значит, тихая, на окнах шторы, на стенах картины. Всё как у белых людей.
– Ну, это хорошо, – сказал Виток. – Глядишь, и мы как-нибудь забежим шары погонять.
– Забегайте, забегайте. Только не сюда. Дверь эту заколотят, проломают проход из его кабинета, и всё. Кроме его свиты, никто сюда не попадёт.
– Как это?
– Как два пальца… – Дваждыкентий побарабанил ногтями по столу, взял со стола заявление и подал его Витку.
– Иди к самому. А я уже начал вещи свои собирать. Бумажки вот сортирую, свезу к себе домой, в кладовку. Протоколы, грамоты незаполненные, дипломы всякие… Может, пригодятся кому.
Виток всё не мог уразуметь:
– Так как же это – без профсоюза? Он какое право имеет? Ему-то он, может, не нужен. А нам нужен.
Председатель разведкома ещё почмокал, потом взглянул на Витка.
– Он теперь генерал. Сказал – не нужен, значит, так и будет. Кто его за это высечет? По партийной линии никак, потому что и партии той теперь нет. И министерство ему не указ – у нас теперь частное предприятие. Всё решает собрание акционеров. Вернее, у кого больше акций, тот и решает. А у кого больше акций?
– У кого?
– У совета директоров. А там кто? Мишка… то есть Михал, значит, Алексеич Мигулин, потом главный инженер Павел Викторович Сипягин, главный бухгалтер Нинель Авдеевна Ковальская…
– Ты, Кентич, как на собрании выступаешь. Да знаю я все их должности, имена и отчества. Или ты боишься, что подслушают и донесут, как ты тут непочтительно о начальстве говоришь?
– Чего мне бояться… Хотя ты прав, наверное, – начал побаиваться. Он теперь вроде князя над нами. Нечем его прижимать. Это раньше я мог с ним бодаться. Мог добиваться чего-то. Да он как лицо выборное не особо и чванился. А теперь всё не так. Ты вот по горам шлялся, отстал от жизни-то. Всё не так…
Дваждыкентий посмотрел в окно, постучал ногтями и продолжил:
– Они же где лаской, где смазкой выкупали ваучеры эти, особенно у рабочих. Никто же не понимал, что это такое… А они такую штуку проворачивали: бюджетные деньги из банка сразу не забирали, а по месяцу и больше на счету держали. Как проценты хорошие набегут – они деньги снимают, авансы небольшие выплачивают, а проценты себе на карман. Вот на них и выкупали. Больше ваучеров – больше акций. И теперь – как они хотят, так и решают.
– А Проценко?
– А что Проценко… Они его и так-то еле терпят. Со скрежетом зубовным. Но не провести главного геолога в совет директоров у них бы не получилось. Да только что он один может…
– А ты всё знал и молчал? – осведомился Виток.
– Да не молчал я! С Петром твоим да с тем же Проценко кумекали, как это всё поворачивается не в ту степь. Но не могли же мы уговаривать каждого не продавать им ваучеры. Когда дома кушать нечего, а тебе за какую-то бумажку предлагают чуть ли не месячную получку, как не согласишься… А что насчёт денег – так мы не ревизионная комиссия, не имели никаких прав проверять, когда они приходят и куда уходят. Потом уж разузнали, что эта шайка ренту через банк себе накручивает… А всё равно ничего незаконного в этом нет. Не придумали ещё у нас таких законов.
Морозкин встал из-за стола и пошёл к шкафу. Виток так и стоял на месте, теребя в пальцах своё заявление.
– Иди к шефу. Иди, – роясь на полках, сказал Дваждыкентий. – Вы же с ним когда-то в одной партии работали. Не откажет. А мой век кончился… – Он повернул голову. – Придётся на пенсию уходить. Обратно в маркшейдера он меня не возьмёт, да я и сам многое подзабыл. А на всякие синекуры нужных людей будет пристраивать.
– Какие ещё… синие куры? – попытался пошутить Виток. Но профбосс не улыбнулся.
– Ладно, Виток. Иди. Твоё дело правое. Я бы тебе без разговоров первому квартиру присудил. Заработал. Но сам видишь…
Сгорбленная спина Дваждыкентия выражала такую обречённость, что Виток поджал губы и поспешно вышел.
Проходя мимо приёмной, Виток подумал, что, если взял козла за рога, надо тащить до упора.
– У себя? – спросил он раскрашенную девицу, которая недавно появилась здесь вместо прежней секретарши, Любови Ивановны.
– Михаил Алексеевич занят, – не глядя на посетителя, процедила та, листая журнал «Бурда».
Виток быстро, чтобы девица не успела помешать, подошёл к двери и открыл её. Мигулин сидел у торца длинного стола в чёрном кожаном кресле с высокой спинкой, рядом облокотился Сипягин. Они о чём-то говорили, но, услышав запоздалый писк секретутки, повернули головы к двери.
– Заходи, – пригласил шеф. – Давай только быстро. Что у тебя?
– У меня заявление. На квартиру. Сам понимаешь, тесно стало. А Морозкин сказал, что теперь к тебе.
Виток присел на стул и подал свою бумагу. Мигулин пробежался по ней глазами и покивал.
– Слышал, слышал. С ребёнком взял, молодец.
– И второй намечается, – открылся Виток. – Сам понимаешь, это не жизнь же будет. Да и теперь тоже.
Сипягин терпеливо молчал. Главного инженера Мишка (фиг тебе, а не Михаил Алексеевич) в прошлом году переманил откуда-то из города, и Виток совсем его не знал.
– Ну что, Виток, понятное дело, – сказал Мигулин, но Виток впервые почему-то обиделся на то, что его назвали так. Может, оттого, что Сипягин при этом бросил на него короткий взгляд, в котором уловил Виток и насмешку, и пренебрежение.
– Я, вообще-то, Виктор Пантелеевич, – сказал он, поглядев Сипягину в глаза.
– Ну да, ну да, – согласился Мигулин. – Наш первооткрыватель, – обратился он к главному инженеру. – Не просто так. Ульдургинское месторождение-то он нашёл. Так что с ним нужно на «вы»…
Сипягин скривил уголок рта.
– Тогда и мне вы уж, пожалуйста, не тыкайте, – продолжил Мигулин, сделав ударение на «вы». – Лады?
«Да, Мишаня, заматерел ты конкретно», – подумал Виток и спросил:
– Так что с заявлением? Когда решение будет?
Мигулин поиграл пальцами.
– А пусть Морозкин решает. Как решит, так и будет. А я подпишу.
– Он мне сказал, что теперь не при делах.
– Правильно. Ну зачем нам освобождённый председатель разведкома? Что он может? Раньше путёвки распределял, матпомощь раздавал, шахматы и транзисторы для полевых партий покупал. А теперь из области ничего ему не шлют. Ни денег, ни путёвок. А на ваши взносы что он сделает? Ему только на зарплату и хватит. И какой тогда смысл держать его и весь его комитет?
Мигулин переглянулся с Сипягиным и закончил:
– А грамоты выписывать я и сам могу. Вижу ведь, кто как работает.
Виток не знал, что говорить. Может, и прав Мишка, чёрт его знает.
– Я не против. – Мигулин протянул Витку его заявление. – Но Викентьич пусть напоследок доброе дело сделает. Соберёт кворум, пусть обсудят… Демократия у нас или как?
4
И каждый должен знать, на что он может претендовать.
«Улитка на склоне»
– Ну что, дали ход челобитной твоей? – поинтересовался Зарицкий, когда Виток вошёл в кабинет. Он стоял у стены и заполнял календарь погоды, который сам же и расчерчивал ежегодно на листе ватмана вот уже лет пятнадцать. В своё отсутствие погоду каждого дня он поручал отображать чертёжницам из камеральной группы. Регулярно Пётр доставал листы за прошлые годы и пытался делать прогнозы на завтрашний день, на неделю и на месяц вперёд. Что-то иногда сходилось, и он радовался так, будто предсказал солнечное затмение.
Виток сел за стол, бросил заявление на карту золотоносности речки Орколикан и пожал плечами.
– Я ничего не понял. Дваждыкентий сказал – я уже не уполномочен. Мишка сказал – я не против, но пусть решает разведком. А его вроде как и нет уже.
– Так ты отдал заявление или нет?
– Кому отдавать-то? Пришёл вот с тобой поговорить.
Пётр оторвался от календаря и присел на край стола.
– Дело же ясное. Мишка демократичностью своей решил помахать перед всеми. Он бы всё равно тебе не отказал. Если уж тебе отказывать, то кому тогда и выделять…
– Он так и сказал: «Демократия у нас или нет?» – вставил Виток.
– Ну вот, я же его насквозь… Ему, видишь, надо продемонстрировать, что прислушался к голосу общественности. Тут ведь кого-то придётся отодвинуть, решение-то было, хоть и предварительное. А он не хочет на себя это брать. Люди надеются, а тут раз – и отлуп. Шишки на Дваждыкентия полетят, а ему уже всё равно будет… Хитро крутанулся наш генерал. Но тебе-то, по-моему, без разницы.
Виток взял карандаш и стал рисовать на заявлении парусный корабль.
– Что сидишь – неси свою цидулю обратно Морозкину, – услышал он голос Петра. – Да ты чего делаешь-то? Испортил документ… Переписывай.
– Да не могу я так, – вяло сказал Виток. – Не надо никого двигать. Ну что я этому отодвинутому скажу? Я здесь ещё долго жить собираюсь.
– Вот снова он за своё! – Пётр замахал руками. – Настучать бы тебе по бестолковке! Ведь договорились же по-хорошему, а ты опять выступаешь?
– Что ты, как мельница, руками-то крутишь… Поставь себя на моё место, тогда и крути.
– А я бы на твоём месте пришёл к Дваждыкентию и сказал: «Дорогой товарищ, сколько я народу вперёд себя пропустил, теперь пропускать не буду, моя очередь». Вот бы что я на твоём месте сотворил.
– Врешь ты всё. Ты бы так же…
– И ничего не так же! – уже в голос закричал Пётр. – Не ломай комедию, б-божий одуванчик!
Дверь приоткрылась, из коридора просунулась чья-то голова. Показав заглянувшему обе ладони, Пётр сел на подоконник.
– Ты бы хоть узнал сначала, кому там эти квартиры раскидали, – сказал он уже спокойно. – Ладно, Чижов, бульдозерист с Октокита, он давно в своей халупе засыпной мается. Или Ярощук Женька, тот, как и ты, по полгода дома не бывает, жена всё время сама что-то там подколачивает, подпиливает, подкрашивает. Дом-то старый… Ну, Сипягину вроде и так положено, раз его сюда притащили. А вот Вадим Житов. Парень местный, у отца дом шикарный, тот один в нём живёт. А жена у Вадима в лесхозе работает и тоже на очереди там стоит… Жил бы с отцом, помогал ему. Или от лесхоза квартиру дожидался. Нет, они, видишь, и туда, и сюда записались. Где быстрее получится. Вот его-то можно и подвинуть, хотя очередь его подошла.
– Ты откуда всё знаешь? – удивился Виток. – Дваждыкентий что – отчитывался перед тобой?
– Так я же интересуюсь! И, как видишь, это иногда пригождается. – Пётр слез с подоконника и подошёл к Витку. – Переписывай заяву свою да иди, куда тебя Мишка послал. В смысле, к Кентичу. Пускай всё будет демократично. И прекрати себя в жертву приносить по любому случаю. Ты бы лучше о Даше подумал с Маришкой, чем о других заботиться.
Пётр сел на край стола, потом вскочил.
– Нет, я, пожалуй, с тобой пойду. А то опять чего-нибудь выкинешь.
Виток достал резинку и стёр паруса.
– Ну если только вместо Житова… Да не ходи ты за мной, сам отнесу.
«Может, и вправду со стороны это на кокетство похоже, – размышлял он, шагая по коридору к лестнице. – Тогда нехорошо. Получается, ломаюсь, как барышня, позволяю себя уговаривать. Ну их к чёрту, все эти антимонии. Проще надо быть».
На лестнице он встретил геофизика Вадима Житова. Тот, взбегая по ступенькам, поздоровался, Виток ответил: «Привет» и замедлил шаг, силой загоняя обратно в норку выползшего было червячка сомнений. – «Если всё так, как говорил Пётр, обойдётся он пока».
Он оглянулся. Житов уже скрылся за углом коридора. Виток вздохнул и спустился на первый этаж.
В разведкоме на столах высились стопки каких-то бумаг, перевязанные шпагатом брошюры, валялись чистые бланки разных удостоверений и членских билетов. Дваждыкентий упаковывал всю эту макулатуру в картонные коробки из-под зелёного горошка, мясных субпродуктов («ухо-горло-нос, сиська-писька-хвост»), кильки в томате и бог знает чего ещё. Виток подошёл к столу и стал перебирать «корочки». «Профсоюзный билет», «Ударник коммунистического труда», «Победитель соцсоревнования», «Лучший по профессии»…
– Думаешь, пригодится?
Морозкин обернулся.
– Да кто его знает. Жалко сразу выкидывать… А ты чего опять пришёл?
– Генерал отправил. Сказал, чтобы ты комитет свой собрал и решение принял по моему заявлению.
Дваждыкентий сел на стул.
– Чего он мудрит, чего мудрит… Кого я соберу – они все уже знают, что нас разогнали. На что Клюиха боевая баба – и то рукой махнула. Ходила вчера к нему, возражения свои высказывала… Пришла вся белая. Ничего не сказала, обратно к себе в дробилку ушла. Видать, чем-то он её прижучил…
– Может, и правда… – начал Виток, но Морозкин заговорил снова, словно продолжая ещё тот, первый, разговор с Витком, – видно, никак не мог успокоиться и всё время думал о том же:
– Ладно, путёвки перестали выделять, да и денег мало на все дела – пережили бы, потом бы, глядишь, и наладилось. Но главное, что без нашего согласия уволить он никого не мог! Вот ведь что главное. А теперь кто работягу защитит? Да и вас, интеллигентов, белую кость. Как начнут сокращать – только перья полетят…
Морозкин махнул рукой. Виток не знал, что сказать. Он, получается, действительно здорово отстал и только сейчас начал заглядывать в закоулки общественной жизни, в которой в прежние годы никак не участвовал. Разведком, партком… Ещё и комсомольцы были, тоже ведь, наверное, чем-то занимались. Виток и сам в их рядах когда-то числился (в школе почти всех заставили вступить), но, живя месяцами в тайге, взносы платил нерегулярно и получал за это выговоры, а больше ничем и не отметился… Он не замечал, какие двигались поршни, какие крутились шестерёнки, всё катилось будто бы само собой, но вот сломалось что-то в машине, и она начала вилять и тормозить.
– Так мне-то что теперь делать? – спросил Виток. – Кто решать будет?
Дваждыкентий взглянул на него, потом протянул руку:
– Ну, давай сюда свою бумагу. Решим, чего уж там. Не соберутся, так сам всех обойду… Я думаю, мы Вадика Житова уговорим. Его жена в лесхозе четвёртая в очереди стоит, значит, скоро получит. У меня уже была с ним беседа… не про тебя, а вообще.
«Петька-то точно везде агентуру имеет», – подумал Виток.
– Он, правда, кипятится, что, мол, в лесхозе не дома строят, а кордоны, – говорил Морозкин. – Но скажи, какая разница, как они называются, если по сути это такие же квартиры, как у нас? Они же не в тайге строятся, а тут, в посёлке. Это, видимо, Ильвесу пришлось сфинтить – кордоны эти, может, легче ему по документам провести или ещё там что-нибудь…
Он нашёл в тумбе стола какую-то папку и положил туда заявление Витка.
– Завтра займусь. Сегодня, видишь. – Он кивнул на заваленный бумагами стол: – Хочу с этим закончить. Я думаю, решим, как надо. А уж потом… откроем кингстоны.
5
Всё это я вижу так отчётливо, что могу описать во всех подробностях.
«Беспокойство»
Укрытый белым зимним пухом посёлок съёжился и замер. Солнце, едва поднявшись к обеду из-за дальнего хребта, вскоре снова без сил падало за него. Над домами покачивались колонны сизого дыма, а над трубой котельной, стоявшей во дворе экспедиции и обогревавшей контору, общежитие, цеха, гараж и лабораторию, возвышался чёрный клубящийся шпиль. Геометрический Кирон египетской пирамидой нависал над тайгой. В середине дня тишину взмучивал самолёт, привозивший из города почту и с десяток пассажиров. Посидев часок, он улетал обратно, натыкаясь на слабо желтеющий в начинавшихся сумерках лунный шар. Немного погодя небо прокалывали первые звёзды. К ночи посёлок теснее обступала тайга, изредка потрескивал лёд на Еловке, а плотная тишина разрывалась на куски собачьим перебрёхом. Иногда налетала вьюга, царапая жестянками снежинок оконные стёкла, и тогда колонны и шпиль рушились и рассыпались на мелкие клочковатые обломки, а вечер приходил крадучись, не выдавая себя ни луной, ни звёздами.
По субботам Виток вместе с семейством приходил к Петру в баню. В общественной поселковой бане чередовались дни мужские и женские, к тому же до неё надо было топать за три улицы, а Пётр жил неподалёку. Баню он выстроил сам, как, впрочем, и летнюю кухню, и теплицу (каркас под полиэтиленовую плёнку из бруска-пятёрки на бетонном фундаменте), и стайку, и небольшой гараж для мотоцикла и снегохода. Напарившись, мужчины сидели на кухне и охлаждались загодя купленным пивом, пока Лариса, Даша и Маришка в свой черёд мылись.
– Завтра хочу проскочить по Еловке на Ирельские озёра, – делился Пётр, с треском вскрывая очередную банку «Red bull». – Мужики говорят – окунь берёт, как бешеный… Что за дерьмо это баночное пиво! Сейчас бы «Жигулёвского», как в старые добрые времена. Помнишь, привозили из города бочковое? Три дня постоит – уже не пиво. Зато и вкус был. А тут никакого вкуса, одни консерванты да спирт.
– Лучше уж «Рижского», – возразил Виток, расслабленно откинувшись на спинку стула.
– Тоже подходяще, – согласился Пётр. – А что, поехали со мной? К «Бурану» нарты сзади прицепим, палаточку возьмём. У меня и печка к ней есть. Выедем с ранья, за час добежим. А вечером, часам к пяти, обратно. А?
– Да я полки хотел дома сделать. Даша попросила. Хоть немного одежду прибрать. А то или на стульях лежит, или на гвоздях висит.
– Зря отказываешься. Рыбалка сейчас – это не удовольствие. Это способ выживания, – объяснял Пётр. – Я вообще не понимаю, как вы существуете на одну твою зарплату. Да и ту через пень-колоду выдают… Мы вот с Лариской оба работаем, и то экономим на всём. Серёжке, правда, ещё посылаем. Опять без стипендии остался, электротехнику завалил…
– Да хватает пока, – бодро сказал Виток, хотя давно уже не хватало.
– «Хвата-ает»! – насмешливо протянул Пётр. – Даша у тебя терпеливая, вот что. Другая давно бы…
Виток нахмурился:
– Что – «давно бы»?
– Да ну тебя, – отмахнулся Пётр. – Сдались тебе эти полки. Не хочешь на рыбалку – дело твоё. Но ты хатой своей тогда займись! Дваждыкентий ведь оформил решение.
– Чем зимой там можно заниматься? Да и Мишка ещё не подписал.
– Ну и что? Он долго ещё может тянуть. Подпишет. А ты лес бы пока валил на своём участке. Весной раскорчуешь, под картошку вскопаешь.
– А без документа как? Я же не знаю, какой там дом моим будет. Через день к нему захожу. Говорит – некогда.
– У Дваждыкентия узнай. Он копию решения сохранил наверняка. Бумажки у него всегда в порядке были.
– Это да. Он к себе всё из шкафов перетащил. Устроил домашний архив. Но мне на руках всё равно надо что-то иметь.
Пётр взял со стола сигареты, сел покурить у печки. Сказал:
– Некогда ему… Ишь, строит из себя занятого. Ему надо, чтобы вокруг него поплясали, да вприсядку. А тут ведь такая штука… Дома проходили по Олокитскому проекту. А проект закрыли, значит, всё, денег нет. И Мишка не будет их достраивать.
– Он об этом не говорил.
– Скажет. Он вам скажет – сами достраивайте… Но дело в том, что на эти дома уже получены почти все материалы. Ещё год назад завезли. Трубы, батареи, стекло и прочее… Я точно тебе говорю! – повысил он голос, поймав вопросительный взгляд Витка. – Так что надо идти в бухгалтерию и выписывать всё, что положено. И срочно получать на складе. Он же, стервец, поэтому и решение подписывать не торопится, чтобы успеть всё это распродать.
– Кто купит-то? Денег нет ни у кого.
– Это ты заблуждаешься. В посёлке сейчас дома три-четыре строится. Во-первых, кооперативы зря, что ли, работали? Шапки, унты шили, наверняка накопления есть, не все сгорели. Во-вторых, «комков»[3] в посёлке штук пять открылось, хозяева – тоже люди небедные. Опять же охотники, если сезон удачный будет, на соболях заработают. Ну и начальство разное… Так что по весне, я думаю, ещё стройки начнутся. И всё разлетится в момент.
– В кого ты, Петруха, такой умный? – поинтересовался Виток, скрывая этим досаду, что Пётр опять проявил в его делах осведомлённость и практическое мышление, пока он, Виток, парит где-то в небесах, отдаваясь своему счастью. Он понимал, что присказка про рай в шалаше – всего лишь романтическая аллегория, и хорошо бы ему соображать обо всём хотя бы, как Пётр. Но для этого нужно было прожить свою жизнь сначала и по-другому.
– Я от природы такой, – скромно сказал Пётр. – Ну что, сходи к Кентичу, узнай. Потом бери мою «Дружбу», я тебе пару цепей наточенных дам. Бензин твой, автол у меня возьмёшь… А в понедельник иди на склад и получай, пока что-то есть.
– Как я получу без бумажки? Сам же говорил, что Мишка поэтому и тянет. Нинель мне скажет – на каком основании я тебе должна что-то выписывать?
Пётр с интересом взглянул на Витка.
– А ты, оказывается, тоже иногда что-то соображаешь… Ничего, надо Проценко подключить. Пусть Геннадий Кириллыч о своих кадрах позаботится.
В сенях затопали, стряхивая снег с обуви, дверь открылась, впустив туман, и из него проявились сначала Лариса, за ней Даша и Маришка с укутанными в полотенца головами.
– Ну что, с помойкой вас, отроковицы, – через «о» пробасил Пётр, подняв руку будто бы для крестного знамения. Маришка стрельнула на него улыбнувшимися глазами. Полноватая черноглазая Лариса, скидывая шубку, покрутила носом:
– Курил здесь?
– Да я в печку…
– Говорила же – на улицу ходи! – строго сказала Лариса, но по тону было понятно, что вовсе она не сердится, а ворчит так, для порядка.
– Лапочка, да я же простыну сразу, после бани-то, – заворковал Пётр.
– Ладно, запел. Лучше бы вообще курить бросил, как Виток… Чайник поставь, – скомандовала Лариса, раскрутив полотенце и тряхнув мокрыми волосами.
– Сей секунд…
– Красота! – Даша подошла и обняла Витка сзади. – Маришка сказала сегодня: «Баня – это праздник»… Мы тоже себе такую построим, правда?
Виток взял Дашины ладони и приложил к своим щекам. Так хорошо было сидеть у Петра на кухне и представлять, что когда-нибудь и у них с Дашей будет вот такой же свой дом, своя баня, а возле дома – всё, что положено: огород с грядками под зелень, теплица, вдоль забора – малина, смородина, крыжовник… И цветы, много цветов. И подсолнухи – для красоты, не для семечек. В теплице можно попробовать и арбузы вырастить. Некоторые особо упорные поселковые огородники добивались этого, – правда, коротким северным летом вызревали только небольшие, с крупный апельсин, кавунчики. Зато ребятишкам радость… А ещё будет у них собака – не какая-нибудь элитная овчарка или там доберман, которого надо в доме держать да кормить особым рационом, а простой дворовый беспородный пёс с умными глазами: и грозный сторож, и верный друг. А в доме – кошка, как же без кошки. А чтобы для детей всегда было молоко, козу надо будет завести. Многие в посёлке держат коров, но с ними больше хлопот: выпасных лугов мало, бурёнки часто уходят в тайгу и не всегда оттуда возвращаются, попадая волкам на обед, да с сенокосами беда – надо ехать далеко вниз по Еловке, где она из гор выходит на равнину, а оттуда сено вывозить зимой по льду. Вот с козами никаких забот: пасутся рядом, сена немного им на зиму надо, можно по берегам поблизости накосить или на лесных полянах, а в «комках» комбикорма прикупить…
– Ну что, чай-то будете пить? – очнулся он от голоса Ларисы.
Виток переглянулся с Дашей:
– Да нет, пожалуй. Волосы высохли, к себе пойдём. Спасибо за баню.
Хоть уютно у Петра, а дома всё же лучше, пусть этот дом и тесноват.
6
И денег у меня нет и никогда не было – такие заказы делать!
«Дни затмения»
Четыре новых дома из бруса, обнесённые с трёх сторон заборами, стояли, как по линейке, и продолжали Набережную улицу на краю посёлка. Виток, узнав у Дваждыкентия свой адрес, в выходные приходил сюда пилить лес. От фасадов до Еловки было метров сорок. Плотники вывели срубы, сделали потолки и покрыли шифером крыши. После этого стройка замерла, лишь в сипягинском доме с затянутыми плёнкой окнами топилась «буржуйка», там стучали и пилили.
Дом Витка был последним по улице, дальше тянулась просёлочная дорога, уходящая в тайгу. Вокруг толпились лиственницы вперемежку с берёзами, редко среди них встречались молодые кедры. Берёзовые стволы Виток после валки раскряжёвывал, намереваясь ещё до весны расколоть на дрова – на морозе легче. Лиственницы не распиливал – в дело пойдут. Кедры пока стояли нетронутыми.
В первый же день он осмотрел дом изнутри, шагая по просмолённым лагам и прикидывая будущую планировку. Внутри было две капитальных стены, и получалось, что посередине можно сделать коридор, а из него будут входы в кухню, где уже сложен фундамент под печку, и три комнаты. Напротив кухни располагалась большая кладовка-темнушка без окна, треть которой Виток задумал отгородить стенкой и устроить настоящий, с унитазом, туалет с выводом на улицу в септик, как у Петра. Воду в бак над унитазом, правда, придётся заливать вручную, но это ерунда, главное, что не будут его девчонки по морозу на улицу бегать. А со временем можно и скважину пробурить.
«Глаза боятся – руки делают», – говорил ему Пётр. Если бы было из чего делать. Нинель Авдеевна, когда Виток пришёл к ней выписать материалы на достройку дома, хоть и никакой бумажки с него не попросила, но сделала большие честные глаза и сказала, что на складах ничего нет, и откуда он взял, что вообще что-то было. Виток сослался на Петра («Зарицкий видел»), и она будто бы вспомнила: ах да, но это уже давно распродали, вам же надо зарплату из чего-то платить, поэтому вот такое дело, и ты должен войти в положение, времена нынче такие, а вообще проявляй инициативу, соображай, где чего достать, да благодари ещё, что тебе квартиру, считай, вне очереди выделили… Виток терпеливо выслушал её многословие, но сам говорить так долго не умел, поэтому молча вышел.
Вернулся он вместе с Проценко. Нинель показала им документы, по которым выходило, что на складах действительно ничего для строительства нет. Главный геолог почесал залысину на лбу, а Ковальская предложила:
– Есть вот лист железа восемь миллиметров, сваришь котёл для отопления. Выписывать?
Виток получил накладную – хоть шерсти клок… Проценко сказал, когда они вышли в коридор:
– Или точно распродали, или по домам растащили. Мало ли что у неё там написано, она кому хочешь мозги запудрит. Да плюнь! Откупились железом, и то ладно… Ну ничего. Динозавры тоже думали, что они вечные. А пока сам крутись, что же делать.
(Геннадий Кириллович, умница и трудоголик, вот уже семнадцать лет определявший всю стратегию развития экспедиции, недавно стал замечать, что его постепенно, но настойчиво отстраняют от принятия решений. Мигулин нашёл через Сипягина и привёз в посёлок молодого – двадцать семь лет – геолога, назначив его Проценко в заместители, хотя раньше никогда этой должности не существовало. Паренёк был толковый, Проценко это сразу оценил, и по всем вопросам поисков и разведки Мигулин с некоторых пор совещался только с ним. Геннадий Кириллович чувствовал, что этот Гриша Волович скоро займёт его место. Сделать ничего было нельзя. Гриша общался с ним вежливо, но никогда не спрашивал совета и не выказывал неловкости, что все обсуждения вопросов, находящихся в компетенции главного геолога, ведутся за его спиной. И Проценко понял, что ему на смену приходит холодный и расчётливый карьерист. Жаль было отдавать в чужие руки дело, в которое вложил столько сил и нервов, а ещё угнетало сознание того, что некому будет заступаться за геологов перед нынешним руководством. Морозкина нет, а его хоть и вряд ли уволят, но разжалуют. Найдут за что – хотя бы за то, что пенсионер. Смутное время. Время хищников…)
Виток заправил бензопилу, заменил цепь и подошёл к очередной берёзе. Брызнули тёплые белые опилки, и через минуту она упала на снег. Виток свалил ещё пару деревьев, обрубил ветки и вершинник, стащил их в кучи, потом повернул шинку и стал распиливать стволы на кругляки… Сам крутись, говорит Проценко. Чтобы крутиться, надо деньги иметь. Всё придётся добывать самому: доски, гвозди, цемент, краску… да много чего. Мишка, правда, обещал: «Лес на участке свалите – распустим на доски на нашей пилораме». Но этого мало будет, деловых лиственниц всего с десяток, а из берёзы досок не напилишь. На всё деньги нужны, деньги. А на геологию сейчас денег из центра мало дают, да ещё часть из них Мишка и его камарилья под себя осваивают. Это просто, оказывается, можно делать, Пётр просветил: «Допустим, надо купить для бульдозера какую-нибудь запчасть. Посылают снабженца на завод, а тот договаривается там: вы цену пропишете не пять, скажем, тысяч, сколько она стоит, а семь. Мы их заплатим, вы возвратите нам тысячу, а другую себе оставите… Это называется откат. По документам всё в ажуре, а начальство из воздуха деньги куёт».
Где бы так научиться… Виток чувствовал и досаду на нынешние порядки, и бессилие что-то изменить, и от этого становилось ещё досаднее. Ведь были же времена: зарплату ему перечисляли на книжку, всё честь по чести: оклад, помноженный на северный коэффициент, минус налоги плюс полевое довольствие. Ещё и высокогорные иногда начисляли. Он приезжал в посёлок и шёл в сберкассу снять сотню-две, иногда и больше – себе на житьё, матери отправить, да частенько Пётр просил взаймы: то на мотоцикл не хватало, то сыну на магнитофон («Ничего не понимаю, куда она деньги девает. Вроде ни на что серьёзное не тратились, а снова приходится в долги залезать…»). Кроме Петра приходили и другие заниматели. Виток никому не отказывал – много ли ему для себя надо, тем более что на участке тратиться не на что: за питание в бухгалтерии удерживают, а спецодежда выдаётся даром.
Виток и заметить не успел, когда рубли совершенно обесценились, – произошло это как-то очень быстро. И тяжёлый некогда якорь, вокруг которого мыслилось многолетнее благополучие, перестал держать, а кораблик утащило в океан, где его во все стороны швыряло и кренило… Когда Мишка зарплату полностью выдавал, уже и не вспомнить. Всё авансами кормит, еле на еду хватает. Да ещё такую штуку придумал: привёз из города мини-пекарню, приобрёл по оптовой цене машину муки, а лаборанток, которых сперва сократил, принял обратно и поставил хлеб выпекать. И выдаёт его каждое утро под запись, а стоимость хлеба потом вычитает из зарплаты. Вроде бы хочет людям жизнь облегчить, но буханка обходится в полтора раза дороже, чем в магазине. «Почему так дорого?» – «Потому что выпечки маленькие, это же не хлебозавод, не хотите – не берите». А куда деваться, если налички в карманах с гулькин… этот самый. Возьмёшь. А Мишке во благо: из кассы меньше выдавать придётся, да и ему с такой цены (и не только ему) наверняка что-то перепадает, не по себестоимости же он хлеб продаёт.
Если бы какой-нибудь дополнительный заработок заиметь… Виток видел в газетах, которые иногда покупал, объявления от скороспелых предпринимателей. Каждый пытался нащупать свою нишу. Один «за небольшое вознаграждение» предлагал схему конструкции самодельной швейной машинки, которую якобы легко изготовить в домашних условиях. Другой продавал семена сортов овощей, будто бы районированных для северных широт. Третий, не стесняясь, обещал выслать «интимные фотографии прелестных девушек». Четвёртый что-то там полезное изобрёл и тоже продвигал в народ… Все они просили отправить им квитанцию о предоплате, и после получения оной выполнение заказа зависело только от наличия у них совести, а таковая присутствовала не всегда. Хорошо, если вообще что-то присылали, но чаще заочные коммерсанты не снисходили и до этого, безвестно пропадая в мутной воде дикого нарождающегося рынка. Виток и сам пару раз обжёгся, желая приобрести для семьи книги, которые в прежние-то времена были редкостью, а теперь, при дефиците бумаги, тем более. Так было, например, с «Приключениями Незнайки», когда вместо «издания большого формата с цветными иллюстрациями» он получил напечатанную в размере брошюры книжечку без единого рисунка.
Виток не единожды соображал, чем бы он мог утолить возникшую у сограждан жажду потребления, чтобы потом знай себе ходить на почту и получать от них переводы. Фотографии в жанре ню отпадают, семена тоже, ведь и огорода ещё нет. Да и вообще продавать ему нечего. Зря вот марки свои отдал одному дружку, когда окончил школу и потерял к ним интерес. Сейчас бы пригодились, там были довольно редкие экземпляры – не «Чёрный пенни», конечно, но, например, Панама с надпечаткой «Canal Zone», остров Реюньон, африканские колонии до обретения ими независимости, а ещё Швейцария, Чехия, Босния и Герцеговина начала века… Нашлись бы покупатели. А изобрести что-нибудь вот так, на ходу, конечно, не получится. Разве что какое-нибудь рацпредложение придумать… Вот он видел дома у Гоги Чивадзе детские качели на верёвках, подвешенные в проёме двери на завинченных в косяки толстых шурупах. С одной стороны сиденье имело спинку, а с трёх других сторон ограждалось круглыми планочками, в которые эти верёвки были продеты. Упасть оттуда было невозможно. Гогина жена сажала в эти качели полугодовалого сына, а сама хлопотала по дому, изредка подталкивая их. Малыш, качаясь, что-нибудь сосредоточенно вертел в руках, бормотал на своём языке, поглядывал по сторонам, но был занят собой и матери не мешал. Виток, воодушевившись, даже начертил несколько эскизов качелей для рассылки заказчикам и хотел уже послать в газету объявление, указав божескую цену. Но передумал в последний момент: мелко, да и противно, не своё ведь, а подсмотренное.
Что ещё он может? В детстве выпиливал лобзиком рамочки к фотографиям, выжигал на фанере разные картинки и узоры (специальный такой прибор продавался), мастерил модели самолётов и кораблей. Но кому теперь это надо? Ничего он, выходит, не умеет, только с молотком по горам бегать. Ну, с топором да пилой немного обращаться, но это каждый мужчина должен уметь… А что, если плотником куда-нибудь в бригаду устроиться? Пётр правильно говорит: у кого денежки водятся, будут новые дома себе ставить. Раньше ведь как – две, ну, три комнаты, а то и вовсе только кухня да светёлка, больше и не нужно было. А сейчас насмотрелись по телевизору, назавидовались при поездках в город, стали и в два, и в три этажа строить… Надо бы с Петром поговорить, у него в посёлке много знакомых. Может, плотники и не больше зарабатывают, чем геологи, но они же частникам строят, наверняка не за авансы трудятся. Да и горсть гвоздей или пару кирпичей для своего дома всегда можно унести с собой незаметно. Не обеднеют богатеи местные.
Виток заглушил пилу, подошёл к тлеющему костерку и подбросил охапку веток, потом протянул к огню ладони. Хорошее здесь место. Тайга рядом, речка рукой подать. Участок двенадцать соток, хватит места и под картошку, и под разные постройки. Впрочем, выбирай, говорят, не дом, а соседа. Но и здесь повезло: рядом через забор будет жить Ярощук, каротажник[4], с которым они не одну зиму вместе на разведках провели. Сейчас он в отпуск уехал, а вернётся – тоже начнёт с достройкой хлопотать. Будет с кем посоветоваться, а может, и Виток ему что-нибудь подскажет.
Ладно, на сегодня хватит. Дома Даша с Маришкой ждут, обедать пора. Потом дров принести, воды натаскать с колодца. Даше сейчас ничего тяжёлого поднимать нельзя. А с Маришкой они хотели ещё на лыжах прогуляться. Виток взял на плечо бензопилу, прихватил топор и отправился домой. Нет, насчёт плотника надо подумать.
7
…потому что теперь кроме таких понятий, как гордость, честь, существует ещё множество других вещей, которые могут служить для самоутверждения…
«За миллиард лет до конца света»
«Течёт речка по песочечку, золотишко моет…»
Чёрт, привязалась песенка, так и крутится в голове! Виток никак не мог отогнать её или хотя бы на какую-нибудь другую переключиться. Но как отогнать, если речка – вот она, течёт прямо перед тобой, и по «песочечку», и по гальке с валунами. И золотишко моет, действительно. Моет-перемывает, откладывает на дне, на скальной постели русла, которая называется плоти́к, и лежит оно там и ждёт своего часа. И вот настал этот час, пришли за ним люди, и Виток один из них…
Приходили, впрочем, и раньше. Ещё в дремучие времена, лет восемьдесят назад, копали здесь шурфы с рассечками и пробивали штольни в крутых откосах берегов. То там, то здесь видны в долине кучи отвалов вынутых из них пород, полузаросшие лесом. Да бросили копать: то, что мелко лежало, всё выбрали, а глубже вода не давала, топила выработки. Позже провели буровую разведку и нашли ещё несколько золотоносных пластов. Но когда посчитали, оказалось, что брать их невыгодно: слишком глубоко лежат.
Проценко давно уже присматривался к Орколиканской россыпи, и когда раскопал в архиве все материалы и выложил их перед Мигулиным, тот быстро всё оценил. Это лопатами и тачками да самодельными бутарами добывать золото было бы себе в убыток, а теперь, когда есть мощные бульдозеры и большие промывочные установки – промприборы, дело может стать прибыльным. В этом он был молодец, конечно: взял кредиты, за осень и зиму закупил всё, что нужно, весной восстановил заброшенную дорогу от посёлка к Орколикану, завёз технику, солярку, жилые балки́ и много ещё чего необходимого, а Витка в числе прочих послал в командировку в соседнюю экспедицию, где россыпями занимались давно – обучиться новому делу. Виток и заикаться не стал, что хотел в плотники податься – во-первых, как резонно сказал Пётр, Мишка мог тогда переиграть квартирный вопрос, а во-вторых, Виток надеялся, что уж на золоте-то заработает побольше, чем где-то ещё. О бешеных заработках старателей знали все геологи.
Вернулся Виток вовремя – через день Даша, проснувшись рано утром, сказала ему: «Начинается…» Он бегом помчался в больницу, приехал обратно на «скорой», вместе с Дашей уехал и слонялся по коридору часа три, пока не вышла медсестра. «Что?» – вскочил Виток. – «У вас сын, поздравляю. Вес четыре триста, рост пятьдесят два». Виток чувствовал, что пока не понимает всю значимость этого известия, радоваться не было сил, он спросил только: «Как она?» – «Ничего. Устала. Крупный он…» Потом сказала: «Хотите, я вам лялечку покажу? Там у крыльца слева окошко, подождите». Он вышел на улицу и смотрел на занавешенное окно. Наконец штора отодвинулась, и появилась сестра с запелёнутым младенцем на руках. Виток с минуту смотрел на маленькое розовое личико с закрытыми глазами, пытаясь найти сходство с собой, нашёл его в форме носа и рисунке губ, а вот влажные волосики, выбившиеся наружу, были тёмными – не в него и не в Дашу. И он почему-то решил, что эта непохожесть предсказывает в мальчике будущую независимость характера.
«Эх, начальник ты, начальничек, отпусти до дому…»
Как они там сейчас?.. Всего месяц побыл Виток с сыном – месяц, заполненный радостными хлопотами. Он чувствовал спокойствие и удовлетворение от того, что выполнил своё мужское предназначение – дал начало новой жизни, и с этим гордым чувством вставал ночью на плач вместе с женой, помогал пеленать и укачивать, а днём, приходя на обед, смотрел с Дашей на спящего сына и слушал её счастливый шёпот: «Смотри, какой крепенький груздочек получился. А я себе сразу сказала – соберу все силы, но рожу тебе мальчика». Он бегал по посёлку, вдохновенно выполняя Дашины поручения: то соску купить, то присыпку тальковую, то грелку. Кто-то предложил ему детскую коляску, у кого-то взяли кроватку-качалку. В конторе пустили шапку по кругу и собрали немного денег. Виток отказывался, но Тамара Витальевна Клюева, вечная активистка, сказала: и не думай, мы всем так собираем, а ты что – обидеть нас хочешь? Пришлось взять, и они с Дашей и Маришкой устроили небольшое тихое застолье, пригласив человек пять самых близких. Кто-то спросил: «Как назвали?» Оказалось, пока никак, и все наперебой начали предлагать варианты. Немного захмелевший Пётр предложил вспомнить песни, где встречались имена, и первый начал: «Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный…» Над ним посмеялись: «Это же про крокодила», – но идея понравилась, и понеслось вполголоса: «Стоит под горою Алёша…», «Ах, зачем под яблонькой целовалась с Яшенькой…» и дальше в том же духе. Вспомнили про Мишку и его улыбку, про Лёньку Королёва, про Серёжку с Малой Бронной и Витьку с Моховой… Всё как-то не подходило. Когда Даша пропела: «Шаланды, полные кефали…», ребёнок заплакал. Даша подошла и укачала, а потом сказала: «Вот он и отозвался, значит, будет Константином». Виток ответил согласным кивком…
Как же так у них получилось? Будто заигрались они однажды в прятки, когда сначала один долго искал, да не мог найти, потом другой покинул своё укрытие и не нашёл того, кто ищет. И вот, наконец, оба – и кто искал, и кто прятался – забыли про игру и лишь тогда нашлись друг для друга. Странные и смутные слова сказала Даша, когда впервые осталась у него ночью: «Господи! Кажется, что я и женщиной никогда не была…»
Виток миновал плотину, насыпанную поперёк русла, перешёл по мостику руслоотводный канал и спустился по откосу на вскрышной полигон, где елозили несколько бульдозеров, выгребая пустые породы, перекрывающие золотоносный пласт, на борт речной долины. Один «Комацу» стоял неподалёку, и бульдозерист Валдис Эглитис, светловолосый парень в чёрном комбинезоне, присев на корточки, осматривал ходовую.
– Случилось чего? – спросил Виток, остановившись.
– Да вот ленивец заскрипел, – ответил Валдис. – Мазать придётся. Ох, ох, что ж я маленьким не сдох… Ну что, далеко ещё пласт?
– Я думаю, сегодня к вечеру до рубашки дойдёте. По отметкам уже где-то рядом. Сейчас ещё пробегу с лотком, проверю.
Он прошёл чуть дальше, нагрёб в лоток песка вперемешку с галькой и понёс его к руслоотводу. Заполнил лоток водой, несколько раз пробуторил содержимое скребком, слил муть, выкинул руками гальку, потом, покачивая плавающий лоток, стал промывать оставшийся песок. Светлые, более лёгкие зёрна породы постепенно смывались водой, пока на дне лотка не остался чёрный шлих – самые тяжёлые минералы. Виток вгляделся и заметил среди тёмных зёрен несколько жёлтых крапинок. Золото было мелким, в форме плоских чешуек. «Почти дошли», – понял Виток и отправился за следующей пробой…
К началу мая Виток свалил вокруг нового дома все деревья, оставил только один молоденький кедр посреди участка – для красоты. С помощью трёхметровой буровой штанги попробовал выдёргивать из земли пни, подкапывая их со всех сторон и перерубая топором корни, но поддавались только небольшие пеньки, а у остальных корни уходили глубоко в землю и держались крепко. Тогда он нашёл в посёлке тракториста, и за бутылку водки тот раскорчевал «Беларусью» с экскаваторным ковшом весь огород. Виток вечерами после работы вскапывал его лопатой, с трудом врезаясь в плотный дёрн и выдирая на каждом шагу тонкие длинные корешки. Земля была глинистая, по идее надо бы её хорошо песком разбавить, но уж какая есть. Даша приходила с коляской и, пока сын спал, рыхлила землю граблями, носила корешки к костру, в котором горели выкорчеванные пни, или просто сидела, напевая и качая ребёнка. Пётр поделился семенной картошкой, и в одну из суббот занялись посадкой – Виток копал, а Даша с Маришкой бросали в лунки сморщенные проросшие клубеньки.
После картошки Виток начал рыть подполье в кухне. Землю пробовал выносить на улицу вёдрами, но получалось медленно и трудно, и он решил выкидывать её тут же, под лаги. Фундамент строители, конечно, низкий залили, лаги лежат не выше чем на полметра над землёй, а вот у Сипягина, он видел, около метра. Виток пытался спрашивать, почему так получилось, и ему ответили, что не хватило цемента. А почему не хватило? А потому что на складе протекла крыша, и цемент в мешках окаменел. А где окаменевший, интересно бы посмотреть? Увезли да выбросили. Куда? Далеко, отсюда не видать… Врут и не моргают. Цемент, естественно, скоммуниздили, но что толку теперь права качать. Так что землю придётся разбрасывать потом по дальним углам, а то вентилироваться подпол будет плохо, грибок может по дереву пойти.
Он успел углубиться на четыре лопаты, и тут подошло время ехать на Орколикан. Вместе с ним уехал и Пётр, которого Мигулин назначил горным мастером. Не хотелось Витку терять летние месяцы, но денег на стройку всё равно не было, а здесь его грела мысль, что, если возьмут хорошее золото, он прилично заработает и тогда осенью сможет заказать оконные рамы и двери, купить стекло и дранку. Ему подсказали, что столярку делают в бывшем РСУ – ремонтно-строительном управлении, которое теперь тоже акционировалось и называется АООТ «Монолит». До снега многое можно успеть сделать…
Он взял ещё несколько проб, убедился, что пласт на большей части полигона всё-таки пока не вскрыт, сказал об этом Петру, который только что спустился с гребня вскрышного отвала, а сам направился к промприбору. Два бульдозера скребли днище долины и нагребали породу на железный стол гидровашгерда, где она размывалась сильной струёй из гидромонитора. Виток попросил мониторщика отдохнуть и сам взялся за рукоять. Он любил смотреть, как мощный напор воды, направляемый его рукой, вышибает крупные валуны со стола через «гусак» наружу, как уменьшается, смешиваясь с водой и проваливаясь через отверстия, галечно-песчаная груда, в которой, невидимые глазу, есть и золотые самородки, и мелкие крупинки золота. И пусть в тонне породы их всего грамм-полтора, а то и меньше, но все они, попав в шлюзовую колоду, неизбежно осядут в ячейках резиновых ковриков, а пустая уже мачмала стечёт в отвал.
Виток с начала сезона чувствовал какое-то раздвоение в душе. Его увлекал азарт старателя, желание заставить реку отдать всё, что она тысячи лет копила и прятала. Было приятно сознавать, что здесь, в глухой тайге, на диких берегах, где сокровища рассеяны в земле, как пылинки в космосе, они умеют вылавливать эти пылинки и знают, что для этого нужно делать. И в то же время было жаль, что после них останется «лунный пейзаж» – безобразные бугры да ямы, заполненные грязными лужами. Долго будет речка зализывать свои болячки, но всё равно та первоначальная красота нетронутой тайги уже не вернётся. После разработки положено делать рекультивацию – восстановление долины и русла, но кто сейчас этим будет заниматься. Главное – взять побыстрее и побольше…
А вообще, зачем люди так гоняются за золотом? Ведь это металл, в сущности, бесполезный, в настоящее дело идёт от силы десятая часть, а так лежит оно себе слитками в подвалах хранилищ или лепят из него побрякушки разные. Придумали тоже: «молчание – золото», «золотые руки», «золотые слова – и вовремя сказаны»… А вся ценность золота лишь в том, что оно очень трудно даётся. Вот если бы его можно было черпать из-под земли, словно нефть, как инженер Гарин, валялись бы везде эти самородки вместе с простыми железками, и никто внимания бы на них не обращал. Но обладание золотом возвели в показатель успешности, вот и носят вылезшие из грязи да в князи «новые русские» золотые цепи на шее – считается, чем толще цепь, тем круче её владелец, хотя она не прибавляет ни ума, ни души… Мишка, правда, хоть цепь и не навесил, всё-таки с верхним образованием, но машину поменял – старую бежевую «копейку» на модную нынче «девятку», самого престижного цвета – «мокрого асфальта». И в разговоре теперь любит, вроде как невзначай, обмолвиться: «Завтра еду в командировку в Хельсинки через Питер…» Какие у него в этих Хельсинках дела, какая командировка? Катается туристом за наш счёт…
Виток подумал, что теперешние хозяева жизни – точно как те золотины на ковриках. Перекатывались в речке вместе со всеми, но вытащило их наверх, и вот блестят они и похваляются своим весом, а ни на что путное не годны, и предстоит им или болтаться, как серьги в ушах, в услужении у более крутых, или скрываться, будто в сейфе, в несгораемых недрах особняков и всё время опасаться взлома.
Была и у него минута соблазна… Когда в конце смены отпираются замки на колоде и делается съёмка золота, на двух верхних ковриках обычно лежат самые крупные самородки. Однажды, ещё в один из первых дней промывки, Виток незаметно спрятал в кулаке небольшой продолговатый, в мелких ямках, бледно-жёлтый слиток, потом, будто поправляя голенище, опустил его в сапог. Ни о чём практическом он не думал, просто рука сама потянулась, попутала его страсть собирателя – как и все геологи, Виток имел небольшую коллекцию минералов, и не только кристаллов и самоцветов, но и разных руд. После работы, уйдя в лес, он полюбовался на самородок, но вдруг понял, что не знает, что с ним делать дальше. Положить его дома на полочку рядом с другими образцами нельзя, да и вообще лучше никому не показывать – то, что он стянул со шлюза самородок, как ни крути, тянет на уголовку… Блеснула мыслишка, что стоимость этого «таракана» – несколько его месячных зарплат, но Виток тут же погасил её. Если бы он даже захотел, обратить золото в деньги было слишком опасно, это тяжеловесный криминал. И Виток так же незаметно изловчился в одну из смен подкинуть его обратно. Нет, если не умеешь обогащаться, лучше и не пробовать.
8
Но здесь, знаете ли, дело не в годах. Здесь главное – характер.
«Пять ложек эликсира»
Слепыми чёрными окнами глядел дом на подёрнутую шугой Еловку. За рекой, легко припудренная снегом, о чём-то своём величественно молчала тайга, только изредка трещали где-то в чаще непоседливые кедровки. У воды грустили облысевшие ивы. «Вот и снова осень, – подумал Виток, – а стройка моя почти не продвинулась…» Впрочем, Ярощук, проведший лето на буровых поисках, продвинулся ещё меньше и только допиливал на своём участке лес. А вот бульдозерист Чижов, пересев на «дэтэшку» с бульдозерным отвалом, с весны батрачил на Сипягина: выковырял, как гнилые зубы, пни, заровнял на участке бугры и ямы, вспахал и проборонил огород, распланировал место под гараж, провёл за забором минерализованную полосу для защиты от лесного пожара и теперь, видимо, заимел в конторе режим наибольшего благоприятствования, потому что уже вставил себе остеклённые рамы и входную дверь. У самого же Сипягина во дворе урчала бетономешалка, и четверо рабочих таскали на носилках раствор и штукатурили стены и потолки.
Вернувшись с Орколикана, Виток докопал погреб, обшил его досками и сделал лесенку. Доски ему напилили на пилораме, не обманул Мигулин. И бумагу подписал всё-таки, ещё и года не прошло. Но денег так и не было. Пётр узнавал в бухгалтерии, и ему сказали, что аффинажный завод до сих пор не рассчитался за сданный ему металл, поэтому неизвестно, сколько вышло на трудодень. Опять раз-два в месяц получали небольшие авансы да всё так же брали хлеб под запись. Работы в конторе у «золотарей» не было, предстояло до следующего промывочного сезона жить на то, что заработали летом. А когда это заработанное выдадут, никто не знал.
Виток через день после приезда наведался в контору (ему сказали, что теперь это называется «офис», но по-старому было привычнее). Проценко в его кабинете он не нашёл – там сидел Гриша Волович и набирал текст на компьютере. Виток раньше только слышал про компьютеры и удивился, что на них можно, оказывается, печатать, как на машинке. Да, за лето кое-что изменилось…
– А где Геннадий Кириллыч? – запнувшись, спросил он у Гриши, никак не называя его. Отчества он не знал, а говорить хозяину руководящего кабинета просто «Гриша», как раньше, пусть даже он и моложе на полтора десятка лет, было для Витка невозможно.
Гриша посмотрел на него пустыми глазами, – ни приветствия, ни «как дела, как сезон», – и бросил:
– В геолотделе.
И снова уткнулся в клавиатуру.
Виток прикрыл дверь и двинул в геологический отдел. Проценко сидел в одиночестве и, как обычно, что-то писал. Перед ним громоздилась стопка переплетённых в картон и дерматин отчётов, на краю стола лежали раскрашенные «синьки» карт и несколько свёрнутых в рулоны листов ватмана.
– Ну, привет, – сказал он, подавая руку, когда Виток вошёл. – Давно приехал?
– Позавчера. А вы теперь здесь?
– Спасибо, что на пенсию не спровадили, – усмехнулся Проценко. – Решили: пусть старый конь ещё попашет… Геолотдел-то, в сущности, ликвидировали, кабинет только остался. Йося на родину уехал, в Воронеж. А вместо него никого не назначали. Остальные кто где… Да, собственно, и без отдела обойдёмся. Денег-то Москва на новые объекты не даёт. Я вот карты старые поднимаю, отчёты пролистываю, обоснования пишу, а толку пока ноль…
Проценко положил ручку.
– А ведь для поисков есть очень перспективные площади, до которых ещё руки не дошли. Вот смотри…
И он стал разворачивать рулоны и «синьки». Рассказав Витку, чего он ожидает от новых территорий, Проценко произнёс:
– Всё это утопия по нынешним временам. Эти кремлёвские мечтатели скоро совсем утопят геологию. – Он даже не заметил невольного каламбура.
Виток спросил:
– Всё так плохо?
– Ещё хуже, – сказал Проценко. – Не заметил, что в коридорах пусто?
– Заметил. Куда все подевались?
– Куда… Кого сократили, кто сам ушёл. С таким отношением как здесь работать? Случайно услышал, когда Нинель пришла к генералу спросить, по сколько рублей очередной аванс выписывать… Знаешь, что он сказал? «Что ты за это быдло переживаешь, обойдутся пока».
– Неужели так и сказал?
– А чего ещё от него ожидать? Плохо только, что мы сами позволяем ему считать нас быдлом. Боимся без работы остаться, лишний раз не вякаем… Ну ладно, нам-то, старикам, много не нужно, да и не умеем мы больше ничего. Только искать, чего не теряли… А молодёжи как на авансы прожить? За голый интерес, как мы, бывало, раньше, никто работать не будет. Может, оно и правильно… Кому было куда уехать – уехали, другие пристраиваются кто где может: продавцами, охранниками, учителями в школу. Даже в милицию – какие-то курсы там кончают…
– И что у нас осталось, кроме россыпи? – поинтересовался Виток.
– Мало что. Завершим разведку на Анамаките. Съёмку полсотку по северу Делюн-Урана закончим. А больше съёмки вообще не будет. На Асеникте ещё побурим… Олокит закрыли, Неручанду вот закрывают. Теперь, если нет положительных результатов в первый же сезон – всё, денег больше не дают. Ну не делается так, негосударственный это подход! – воскликнул Проценко. – Если вот на Орколикане золото нормально отойдёт, может быть, поиски поставим по притокам. Есть кое-какие мысли… Но вы ведь в этом году даже квоту не выбрали. Так что не знаю.
Виток заметил:
– Так это же первый сезон. Пока развернулись, пока приспособились, то да сё – один блок домыть не успели, вода стала замерзать. Опыта поднаберёмся, тогда пойдёт.
– Дай-то бог. Должно быть, хорошее золото в этой долине, должно! Не зря же столько лет здесь вручную копали.
– А знаете, что в колоде встречается? Царские гривенники, грошики, полтинники, а ещё гвозди кованые, ложки оловянные, подковы, пуговицы металлические… А в лесу дугу лошадиную нашли, почти не сгнила. Вся раскрашенная, в узорах.
– Так вы собирайте всё это, может, музейный уголок устроим. Это же интересно.
– Мелкого золота много, – сказал Виток. – Сносит его по колоде в эфеля[5]. Надо чем-то улавливать.
– Подшлюзок нужен для мелочи. Ну это Волович теперь будет решать… Видел, он компьютер осваивает? Но без наших мозгов это просто железяка. Да и карты на нём получаются какие-то дохлые, без души. То ли дело от руки нарисованные, пером да тушью. У каждого геолога свой почерк, к тому же любая кляксочка, любая нечаянная описка показывают индивидуальность карты, чувствуешь, что она живая. А эта машинерия… одно слово – дохлая.
Выйдя от Проценко, Виток прошёлся по коридору, поочерёдно заглядывая во все камералки: «Ну что, монстры, как успехи?» Обычно после выезда с полевых работ в кабинетах наперебой рассказывались истории о неожиданных находках, смешных случаях, рисковых ситуациях, встречах с сохатыми или медведями (куда же без них!), которые на десятый раз повторялись каждому входящему и в конце концов пополняли фонд экспедиционного фольклора. Кто-то показывал фотографии, где-то потихоньку от начальства отмечали окончание сезона, и везде кипели дискуссии о результатах летних работ, когда оппоненты сначала саркастически обвиняли друг друга в незнании элементарных вещей и отсутствии геологической грамотности, ссылаясь на великие авторитеты прошлого – Обручева, Вернадского, Ферсмана и прочих корифеев, – а потом приходили к выводу, что «природа имеет много гитик» и на данном этапе работ установить истину невозможно. Если какой-нибудь зануда упорно продолжал доказывать своё, кто-нибудь предлагал: «Давайте вынесем ему общественное порицание». И все хором гудели: «У-у-у, су-ка!»…
Виток любил это время – пока распаковывались вьючные ящики, извлекалась полевая документация, раскладывались по стеллажам образцы и сдавались в спецчасть оружие и топокарты, неделя-другая проходили в вольном живом общении, и никто из администрации не бегал по коридорам, заглядывая в каждую дверь, чтобы взять на карандаш неявившихся к восьми часам.
Теперь всё происходило как-то не так. Больших компаний не было, тусовались по три-четыре человека. Рассказывали о летних приключениях, но скучновато, без азарта. И споры вели, но без обычной увлечённости. Над смешными вроде бы историями мало кто смеялся. А в конце разговора следовала реплика, смысл которой был примерно такой: «Да, старик, такие вот дела…»
Виток напоследок зашёл в кабинет к геофизикам. На полулисте ватмана, прикнопленном к стене, красовался следующий текст:
«Геофизик – это субъект, способный с бодрой силой духа выворачивать бесконечные ряды непостижимых формул, выведенных с микроскопической точностью, исходя из неопределённых предположений, основанных на спорных данных, полученных из неубедительных экспериментов, выполненных с неконтролируемой аппаратурой лицами подозрительной надёжности и сомнительных умственных способностей. И всё это – с открыто признаваемой целью раздражать и путать химерическую группу фанатиков, известных под именем геологов, которые, в свою очередь, являются паразитическим наслоением, угнетающим честно и тяжело работающих буровиков».
Виток добросовестно дочитал до конца и хмыкнул. Женя Ярощук, чертивший какой-то график, поднял голову и спросил:
– Ну, как транспарантик? Доходит?
Виток пожал плечами:
– Смутно, смутно… А вы сами-то помните… какая разница между редукцией Буге и редукцией Фая?
– Помню, да не скажу… Слушай, Виток, а кто тебе участок раскорчевал?
Виток назвал. Ярощук записал на бумажке и откинулся на спинку стула:
– Вечером схожу, поговорю… Ну что, много золота намыли?
– Меньше, чем хотели. Дожди были, чуть полигон не затопило. Пришлось срочно плотину поднимать. Время потеряли.
– И сколько вышло на руки?
– Пока нисколько. Завод ещё деньги не перегнал. Трудак не посчитали.
Из-за стола в углу подал голос Вадим Житов:
– Вот где, по-вашему, справедливость, Пантелеич? Вы за сезон, как в артели, получите, а мы так и останемся на голом окладе. А работаем-то в одной фирме. Назначили вас, избранных, в старатели, а я тоже, может, хочу золото мыть и за трудодни получать.
– Это ты у шефа спрашивай. Может, и вам перепадёт.
– Да мы вроде как и не участвовали. И не можем участвовать, вы же на россыпях без геофизики обходитесь.
– Ну а я здесь при чём?
– Так вот я и говорю: нет справедливости… И квартиру вы у меня оттяпали и тоже как будто ни при чём.
Вадим упорно лез в бутылку, и Виток почувствовал, что сейчас начнёт оправдываться. Но тут же понял, что, как только он начнёт оправдываться, Житов пуще насядет. «Молодой, да ушлый», – удивился Виток.
– Ты своё через лесхоз получишь, – сухо сказал он. – Только не надо ля-ля про кордоны.
Ярощук обернулся к Житову:
– Ты, Вадик, не возникай на старших. Зелёный ешшо. Мы с Виктором Пантелеичем на Ульдурге мошку кормили, когда ты «мама» говорить учился. Квартиру себе он давно заработал. А завидовать вообще вредно для здоровья.
– А что, я неправильно говорю? Вам-то, Евгений Василич, тоже с этого золота ничего не светит, имейте в виду.
– Что имею, то и введу, – повысил голос Ярощук. – Ещё неизвестно, сколько они получат. Не думаю, что намного больше нас. А ты, если денег много захотел, переучивайся на кого-нибудь. В шофера иди, в сварщики… да хоть в ассенизаторы. Или коммерцией займись, только не ной тут.
Вадим продолжал что-то бубнить, но Виток больше в прения не вступал – ушёл. Проценко прав: эти мальчики за просто так, из чистого любопытства, работать не будут. Не то воспитание. Однако стареет Кириллыч, уже готов оправдать их. Хотя сам никогда за рублём не гонялся… Виток вдруг отчётливо понял, что мир, в котором он до сих пор жил, медленно, но неотвратимо меняется. Всё ближе, вырастая на глазах, накатывает волна другого поколения. Трудно сказать, хуже оно или лучше, на что оно способно – оно другое, и таким, как он, как Проценко, понимать его всё сложнее. Но придётся как-то существовать совместно.
9
И потом изобилие нам никак не грозит. Оно нам ещё долго не будет грозить.
«Хищные вещи века»
Зима была долгой и невесёлой. Из полевых участков работал только Анамакит, там копали канавы со взрывом и бурили скважины. В конторе стояла непривычная тишина. Половину тех, кого не сократили сразу, отправили в неоплачиваемые отпуска. Деньги за золото были наконец перечислены, но трудодень в бухгалтерии пересчитывали уже на третий раз, и всё в сторону уменьшения. Дескать, то одно забыли учесть, то другое. Поэтому расчёта не давали. Но Виток подозревал, что заодно проделывается старый фокус: деньги крутятся в банке. Да и как их не крутить, если в месяц выходит процентов пять навару.
Получаемый под запись хлеб Виток резал на ломтики и сушил над плиткой сухари, чтобы не было соблазна съесть полбуханки сразу. Иногда со склада так же под запись выдавались тушёнка и рыбные консервы – брали всё, не спрашивая о цене. Картошки на первый раз накопали чуть больше, чем посадили, – три куля, и Даша варила супчики с чем придётся. Виток набрал на Орколикане ведро брусники, и они могли пить «чай» без заварки и без сахара. Ведро черники продали кому-то из зажиточных. Привёз он и несколько банок сваренных и залитых подсолнечным маслом маслят. Даша жарила их с картошкой. Виток раза три съездил с Петром на рыбалку, но то ли окуней уже всех переловили, то ли настроения клевать у рыбы не было, только улов не окупал сожжённого бензина. После этого Виток рыбачить бросил, но Пётр не терял надежды. Лариса сердилась, а он ей обещал, что скоро, как Емеля, поймает во-от такую щуку и – «тогда, лапочка, проси у неё что хочешь, а я не волшебник».
Виток ходил по посёлку и искал, где можно подкалымить. Работа попадалась чаще мелкая, на один день. Виток ни от чего не отказывался: колол дрова пенсионерам да вдовам, ремонтировал палисадник возле поселковой администрации, а по весне даже белил сортир Дома культуры. Через Ларису он вышел на больницу и починил там крыльцо, да не просто починил, а сделал ещё удобные перильца, после чего главный врач стала привлекать его на более серьёзные работы. Однажды она подрядила его сделать дверной проём между кабинетами, и Виток занимался этим два дня. Сначала разметил стену и, задыхаясь от поднявшейся пыли, молотком и стамеской сбивал штукатурку. Оказалось, штукатурка положена не на дранку, а на сетку рабицу, и её пришлось долго и нудно перекусывать пассатижами. После этого дело пошло веселее, потому что стена была не капитальная, брусовая, а дощатая. Пропилить её ножовкой, вставить готовый дверной блок и покрасить всё в белый больничный цвет для Витка было просто. Он ещё подштукатурил стену вокруг косяков, а закрашивать её, сказала завхозша, они сами будут, когда высохнет.
Виток получил за работу раза в три больше, чем ежемесячный аванс в «офисе», и притащил домой два пакета разной еды, в том числе бутылочку итальянского ликёра «Амаретто», о котором ходило много разговоров. Напиток понравился, но зашедший в гости Пётр попробовал и скривился: «Лучше бы ударили по клавишам», – имея в виду спирт «Роял», который продавался во всех «комках», вытеснив куда-то пропавшую водку, и стоил не так уж дорого. Когда Виток выложил батончики «Сникерса», китайские жвачки с наклейками, на которых были изображены динозавры, и с десяток картонных кружков с покемонами, Маришка восторженно взвизгнула. Можно было показать кое-кому в школе, что у неё тоже всё такое есть. Виток достал из кармана денежку: «Сходи, доча, в видеозал». Для Кости была куплена резиновая белочка-пищалка.
Даша, поглядев на заставленный продуктами стол, сказала:
– Может, в посёлке работу найдёшь? Ты же у меня всё умеешь. Как я устала на подачки жить…
Виток обнял её за плечи:
– Всё, да не всё. Поглядим…
Под Новый год на складе устроили раздачу мороженой конины. Петру поручили разделать несколько больших кусков туши на весовые порции по полкило. Для этого дела ему выдали бензопилу и литр казённого бензина. Виток пошёл помогать. Кладовщица открыла им дверь, за которой на одном из голых – шаром покати – стеллажей лежали два тёмно-красных стегна и позвоночник с рёбрами.
– Дожились! – воскликнул Пётр. – Раньше на Руси, чтобы рассказать о крайней степени голода, говорили: «Конину ели». Или помнишь, у Толстого Кутузов страшную кару французам обещал: «Будут они у меня лошадиное мясо есть». А нынче мы его за деликатес считаем. Причём по цене хорошей… говнядины.
– Интересно, где они эту лошадь добыли? – спросил Виток.
– Интересно другое: от чего она пала, – сказал Пётр. – От непосильной работы или от бескормицы? Видишь, ни жиринки нет.
– Ты что, думаешь, она сдохла?
– Шутка. Хотя исключать ничего нельзя. Ладно, голод пережили, переживём и изобилие. Будешь потом внукам рассказывать, как лошадятиной питался.
В начале апреля Витку предложили заняться ремонтом больничной крыши. Там нужно было работать вдвоём, и Виток позвал Петра.
– Хочешь немного денег заработать? Настоящих, бумажных. А не в виде окуней твоих и банок разных.
– Завтра они и так у нас появятся. Расчёт за Орколикан выдавать будут. Половину в рублях, половину в долларах.
– Неужели в долларах? И что с ними делать?
– Что хочешь. За границу съезди, – хохотнул Пётр. – Но лучше в чулок положи поглубже. Доллар – валюта стабильная. Придёт чёрный день – обменяешь на деревянные.
– Да у нас и так все дни чёрные… Но мне от шабашки отказываться неудобно, пообещал же. Там вдвоём работы-то на полдня.
– Ну ладно, выручу. Но сначала в кассу сходим.
Дома Виток сказал, что завтра получит деньги за летнее золото. И они с Дашей весь вечер планировали, на что потратиться в первую очередь, а что может и подождать. Список вышел длинным. Когда подвели черту, Маришка попросила для себя новую гитару.
– Я песню разучиваю, в школе на концерте один дядя пел. И никак подобрать аккорды не могу – гитара старая, настрой не держит.
Виток переглянулся с Дашей: да, конечно. Кроме еды, давно ничего не покупали. А Маришка часто по вечерам играла и пела из самоучителя: «Степь да степь кругом», «Вот мчится тройка почтовая»… Виток и Даша потихоньку подпевали. Песни всё были грустные, но почему-то на душе становилось светлее. «Вот как это можно было так сочинить?» – спрашивал он Дашу. Она улыбалась: «В этом и загадка. Потому и поют до сих пор».
На следующий день, получив наконец свои кровные, орколиканцы глухо роптали в коридоре. На трудодень вышло много меньше, чем ожидали. Пётр и ещё двое инициативных долго шумели в бухгалтерии, но ничего не добились. Тогда Пётр отправился к Мигулину. Тот вышел к народу в вестибюль, где была касса, и попросил тишины.
– Да, мы думали, что будет больше, – начал он. – Но сказались разные негативные факторы…
– Что ещё за факторы! Полтора месяца назад, когда первый раз посчитали, не было никаких факторов, – галдели все.
Мигулин поднял руку, успокаивая, и стал перечислять. Один из блоков до конца не домыли? Не домыли. И золота взяли меньше, чем планировали. Конечно, дожди помешали, никто не виноват. Но возникли лишние затраты на укрепление плотины. К тому же из-за дождей раскисла дорога, пришлось несколько раз вместо машин вертолёт использовать. Это намного дороже. И ещё вот какое дело… И учтите, что… А кроме того, оказалось… И поэтому…
Он говорил долго, и к концу его речи еле слышные вначале оправдательные нотки сменились обличительными: «Сколько заработали, столько и получили, а рваческие настроения я буду пресекать». Кто-то попытался продолжить диспут, но Мигулин жёстко осадил: «Кому что непонятно, заходите ко мне по одному. Объясню ещё раз». И удалился. Все поняли, что лучше не заходить. Разошлись, бурча между собой.
– Наговорил про бузину и дядьку, но ясно же, что нахимичили они там, – говорил Пётр, по обыкновению широко раскидывая руки. – Единожды соврамши, кто тебе поверит… Ревизию бы провести, да что толку. Он всех ревизоров купит.
– Не ревизию, а аудит, – поправил Виток.
– Да как ни назови… Не судьба нам с тобой в парчовых портянках походить, как в прежние времена старатели ходили. Ладно, до лета дожить хватит, если не увлекаться. Но всё-таки придётся и мне подножный корм в посёлке поискать. Я, конечно, люблю жареную картошку, но хочется иногда и мяса.
После обеда они латали прохудившуюся крышу на больнице – на замену всей кровли у главврача денег не было. Морока заключалась в том, что новые листы шифера были больше по размеру, чем старые, и их волны не совпадали. Поэтому края листов не стыковались ровно. Крыша получилась некрасивой, но что делать, зато потолки в дождь не будут протекать. Деньги получили сразу же. За опасность работы на высоте Пётр выпросил добавку сверх уговора и убедил Витка пойти и отметить по-настоящему оба расчёта: за золото и за крышу.
Устроились дома у Петра. Разбавили «Роял» наполовину водой, Лариса сообразила закусочку и посидела с ними немного, потом ушла с деньгами в магазин – они жгли руки, не терпелось что-нибудь купить. Виток порывался сходить домой и отнести получку Даше, но Пётр остановил: «Успеется. Завтра вместе отоваритесь». Он снова налил по пятьдесят.
– А теперь, как положено, за тех, кто в поле. Сколько нашего брата сейчас не могут себе позволить даже выпить по-человечески! А мы сидим в тепле, кайфуем. Давай!
Чокнулись, опрокинули, закусили.
– Только сегодня и кайфуем, – сказал Виток. – Ещё вчера не знали, что на стол поставить… А вообще тем, кто сейчас в поле, даже легче. Может, они и без водки сидят, но, по крайней мере, какую-нибудь гречку с тушёнкой каждый день имеют. А если повезёт, то и оленину или хотя бы рябчиков. А мы тут рыскали всю зиму, как волки голодные.
– Да, Виток, дожили мы с тобой. Уже коммунизм должен быть больше десяти лет, а вместо этого лапу сосём… А ты верил в него?
– Что значит «верил»? Я знал. Нас же убедили: все программы прежние были выполнены – значит, и эта тоже будет выполнена. Это сейчас понятно, что дураками мы были. Видели же, что чем дальше, тем хуже в магазинах.
– Ну, я-то и тогда сомневался, – сказал Пётр. – Ишь, захотели: «каждому по потребностям». Лет через двести, может, да. Когда термояд освоят. Но не через двадцать же. Давай ещё по одной…
– А я, помню, всё удивлялся: вот осталось совсем чуть-чуть до коммунизма, везде ведь только о наших успехах твердят, значит, пора постепенно деньги отменять, у классиков же написано: денег при коммунизме не будет. Думал, что начать должны с малого, с копеек: проезд бесплатный сделать в автобусах, спички там, газировку без денег отпускать. Газеты раздавать всем желающим. А ничего такого почему-то нет… Сейчас даже стыдно вспомнить.
– А ты помнишь, что была ещё задача – воспитание «нового человека»? Который живёт по моральному кодексу, весь из себя такой непогрешимый. Тоже чушь поросячья. «Совесть пассажира – лучший контролёр»… Человек хоть и разумное, но всё-таки животное. А разумом трудно инстинкты перебороть. Он у нас недавно появился, а инстинкты миллионы лет передавались, от инфузорий через рыб к рептилиям и так далее.
– А при чём тут инстинкты?
– Ну как при чём? Они у каждой особи направлены на собственное выживание, достижение максимального личного благополучия. Как их можно за двадцать лет подавить? Это же закон естественного отбора. А теперь и подавлять бросили. Поэтому такие, как Мишка, наверх вылезли. А вот нам, наверное, здорово эти инстинкты приглушили, поэтому мы сейчас там, где мы есть.
– Они у нас и так были приглушённые, – не согласился Виток. – От предков такие достались. А мы сознательно сами их ещё укрощали.
– Не в предках дело. У достойных людей дети тоже бывают подонками. А почему, кстати? Вот мы все в школе проходили одно и то же: «человек выше сытости», «чтобы не было мучительно больно» и всё такое. Но одни прониклись, а на других не подействовало. Им как раз собственная сытость превыше всего.
– Да тут вообще такие дебри начинаются… Вот голуби, например, заклёвывают слабых и больных сородичей, потому что для процветания вида нужно, чтобы потомство давали только сильные и здоровые птицы. И если бы голуби боролись с этим инстинктом, они деградировали бы и вымерли. Может, поэтому они такие красивые.
– Так это голуби. Красивые, конечно, но глупые птицы. А человек придумал такие вещи, как мораль, совесть. Больных не заклёвывает. Значит, из-за этого должен деградировать?
– Но войны-то тоже человек придумал! А на войне, наоборот, самых сильных и здоровых уничтожают. У животных такого нет… И вообще где-то я читал, что для комфортного существования как биологическому виду человеку разум не нужен. Это излишняя способность, пробный шар эволюции. И есть вероятность того, что в будущем на земле будут господствовать те, у кого инстинкт выживания преобладает над разумом.
– Мы и сейчас это наблюдаем, – мрачно сказал Пётр. – Но это временно. Всё равно будущее за нами – укрощёнными и разумными. Хрен им… Давай за нас!
– Давай…
– Кстати, о птичках, – сказал Пётр, дожёвывая колбасу. – О тех же голубях. В детстве во дворе у нас голубятня была. И вот однажды сидели мы возле неё на лавочке, и кто-то из пацанов, кажется, Вадик Грязев, держал в руке голубя, гладил и всё приговаривал: гуля-гуля, сейчас вот пойду, сварю из тебя супчик, пообедаю перед школой. Ну, прикалывался, конечно, как сейчас бы сказали. А голубь терпел-терпел, а потом взял и какнул ему на штаны. Вадик с рёвом вскочил, выкинул голубя, тот улетел, счастливый, а мы вокруг все чуть со смеху не померли. Долго ему потом про этот супчик напоминали…
Виток представил, как это было, и захохотал. Славно было снова сидеть на кухне у Петьки, не спеша опустошать бутылку и разговаривать «за жизнь». С приездом Даши эти посиделки прекратились, хотя Пётр и звал иногда. Но Виток не хотел оставлять Дашу одну вечером. Это сегодня вот расслабился немного.
– А вообще, конечно, будущее за нами! – вернулся он к разговору. – Но вот такой новый человек, как в этом кодексе прописано. – Я не уверен, появится ли он когда-нибудь. Даже и через двести лет. Такой дистиллированный, без недостатков… Не как индивид – они-то, может, и будут попадаться, – а как вид в целом. Это всё равно что капитан Гагарин.
– Не понял, – крутанул шеей Пётр. – При ч-чём тут Гагарин?
– Ну как же. Гагарин полетел старлеем, а приземлился майором. Капитаном не был. Так и тут.
– Да ты прямо философ… М-мануил Кант, йё… понский бог. – Пётр всё труднее ворочал языком.
Виток посмотрел в окно и встал из-за стола. Петька хоть и здоровяк, а пьянеет быстро. Хорошо сидим, но надо идти.
– Ну, пошёл я. Темнеет уже, Даша меня потеряет.
– С-сдаваться идёшь? Тогда всем привет…
Вошла Лариса с сумками.
– Уй ты, мой маленький, уже набрался. Быстро что-то.
– Пст! – грозно сказал Пётр. – П-потеряйся!
– Ой, как я боюсь… Ну пойдём, пойдём. Сейчас ты у меня ляжешь, отдохнёшь…
Лариса привычно начала управляться с Петром. Он что-то неразборчиво бормотал и пытался погладить её ниже поясницы. Виток вышел на улицу. Дневная оттепель сменилась лёгким морозцем. Под ногами стеклянно хрустели ледышки. В синеющем небе мигали первые звёзды. Впереди, на другой стороне улицы, тепло и уютно светилось его окно. Он вспомнил про пустые глазницы своего нового дома, и по сердцу пробежал холодок. Засветятся ли они когда-нибудь? С такими доходами стройка лет десять будет тянуться. Что-то надо делать.
