Походы Стефана Батория на Русь. 1580-1582 гг. Осада Пскова
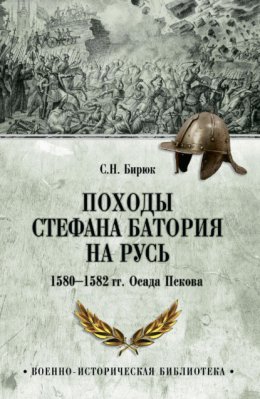
© Бирюк С.Н., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Вместо предисловия
В 1558–1583 годах развернулся вооруженный конфликт России с немецким Ливонским орденом, Великим княжеством Литовским и королевством Польским, Швецией при участии наемников из многих западных стран – Священной Римской империи, Венгрии, Пруссии, Италии, Франции и даже Шотландии. Этот конфликт в историографии получил название «Ливонская война».
Желая развить русскую торговлю, Иван Грозный хотел получить выход к Балтийскому морю, чему препятствовал Ливонский орден, устроивший торговую блокаду Русского государства. В январе 1558 года русская армия вторгается в Ливонию и быстро устраняет это досадное препятствие. Польско-Литовскому государству, претендовавшему на территории Ливонского ордена, русскими войсками был нанесен ряд поражений – наивысшей точкой успеха было взятие Полоцка в 1563 году. В 1577 году русская армия овладела почти всей Ливонией, но в 1579 году новый польский король Стефан Баторий отвоевал Полоцк, в 1580 году захватил Великие Луки и в 1581 году осадил Псков. Только под Псковом было остановлено победное шествие армии Батория.
1
Армия Речи Посполитой
Численность армии и расходы на ее содержание
В 1576–1600 годах вооруженные силы Речи Посполитой состояли из двух отдельных армий: коронной и литовской. По подчиненности различали государственные, частные и местные войска. Организационно они делились на национальные и иностранные, а также на постоянные, временные и ополченческие. Большая часть вооруженных сил состояла из национальных войск, составлявших 80 % кавалерии и 50 % пехоты. Иностранцы набирались в основном в пехоту и лишь частично в кавалерию. В Литве иностранные войска были очень малочисленны.
Постоянные войска Короны включали роты и хоругви кварцяных, размещенные в Червонной Руси, Подолии и на Украине. В первые годы правления Стефана Батория численность кварцяных составляла от 1400 до 2300 человек конницы и 200–550 человек пехоты. В период Русско-польской войны 1577–1582 годов в пограничных крепостях кварцяные войска составляли в среднем около 1000 всадников и 400–500 пехотинцев. В остальные периоды в среднем насчитывалось около 200 всадников и 500 пехотинцев. В угрожаемый период численность кварцяных увеличивались до 2000–4000 в кавалерии и более 500 в пехоте.
Литва держала на восточных границах постоянные гарнизоны общей численностью до 2000 человек. Польско-литовские гарнизоны в Ливонии обычно не превышали 3000 конницы и пехоты, но с 1583 года их численность была сокращена вдвое – до 1000 пехоты и 500 кавалерии[1].
Войска ополченского типа Короны представляли выбранецкие формирования, реестровые казаки и шляхетское посполитое рушение (дворянское ополчение).
Численность выбранецкой пехоты номинально составляла около 3000 воинов, но при Батории было мобилизовано около 2000, а при Сигизмунде III – 1200–2300 воинов. В Литве выбранецкие войска были введены только в 1595 году.
Прежний отряд низовых казаков численностью 300 человек был распущен, и Баторий в 1578 году набрал новый, насчитывающий 500 человек, под командованием черкасского старосты Михаила Вишневецкого. Эти казаки были освобождены от налогов, в также получали жалованье и сукно на пошив обмундирования. В 1581 году на войну были призваны все низовые казаки в количестве 1500 человек.
Общее дворянское ополчение являлось главной силой в случае прямой угрозы государству. Однако, несмотря на его теоретически большую численность (около 50 000) и обязательный периодический «смотр», боеспособность была низкой. Первоначальные попытки реформировать его в 1576–1577 годах, разрешив королю разделить его на части в зависимости от военной обстановки, не увенчались успехом. Баторий так и не созвал его ни разу. Только в русинских землях продолжалась практика созыва местного дворянского ополчения для борьбы с татарами. В Литве войска ополченского типа включали поселившихся там татар. Пожалованные земельными наделами, они служили за свой счет в качестве легкой конницы, численностью в 500–600 всадников. За счет земельных наделов несли службу и так называемые «городовые» казаки, размещенные в крепостях на восточном пограничье Беларуси. Литовское дворянское ополчение принимало активное участие в походах против Русского государства в 1576–1582 годах, а в 1579 году его численность достигла 11 370 человек (10 550 конницы, 820 пехоты)[2].
По мнению Дариуша Купиша, частый созыв ополчения Литвы во время войн с Русским царством позволил ему сохранить несколько более высокую боеспособность, чем у ополчения Короны. Однако его недостатками были недисциплинированность и не самое лучшее вооружение, особенно в рядах небогатого дворянства[3].
Белорусский исследователь А.Н. Янушкевич дополняет, что в ходе боевых действий 1558–1570 годов: «Шляхетское ополчения являлось малоподвижной структурой, неспособной оперативно реагировать на ситуацию на фронте. Вызывала вопросы боеспособность шляхтичей, которые за длительное время «простоя» попросту разучились воевать. Сборам постоянно сопутствовали уклонение со службы, сокрытие реальных размеров почтов, насилие по отношению к местному населению по пути к месту сбора»[4].
Обязанности, связанные со сбором дворянского ополчения в Великом княжестве Литовском, возлагались на всех землевладельцев (а также татар, казаков и др.) и были точно определены в литовских статутах 1529 и 1566 годов. Размер воинской повинности определялся на основе так называемой службы (поместий и усадьб), поэтому литовское дворянское ополчение часто называли земской службой. Начиная с 1566 года от каждых 10 поместий должен был выставляться один всадник с полным вооружением. Как и в Короне, участники военного похода объединялись в поветовые (уездные) хоругви под руководством местных хорунжих, а затем в более крупные соединения во главе с воеводами. В отличие от Короны, ополчение Великого княжества могло делиться на более мелкие части, подчинялась Великому гетману Литовскому и в особых случаях могла созываться без обращения к сейму. Предполагается, что в каждом из трех русских походов Батория участвовало около 10 тыс. литовских войск[5].
Крупные контингенты наемных войск набирались только в периоды больших войн за счет чрезвычайных налогов, утверждаемых сеймом. Во время русских походов Батория численность наемных войск достигала 20 000 солдат в коронной армии и 5000 солдат в армии Литвы. Контракт обычно заключался на полгода, после чего часть солдат увольнялась по окончании активных боевых действий, чтобы в следующем году, если война продолжится, вновь быть нанятой на службу.
Наемные войска, содержавшиеся за счет сейма и четверти доходов с королевских владений, составляли ядро вооруженных сил. Однако это были не единственные наемные войска в стране. В период междуцарствия их заменили местные и провинциальные войска. Это произошло уже в 1572–1573 годах. В январе 1576 года в Малопольше и Великопольше была набрана наемная армия под командованием Станислава Гурки и Станислава Циковского в составе 2870 солдат (1715 кавалеристов и 1155 пехотинцев). В крупных городах для их защиты имелось ополчение гильдий, дополняемое наемными войсками в случае угрозы. Последние были в значительном количестве, особенно в Гданьске.
Большую роль в вооруженных силах Речи Посполитой играли частные армии, в т. ч. придворные отряды короля. Эти отряды содержались королем за счет доходов королевской казны. В 1576 году Баторий завербовал 1000–2000 польских гусар и несколько сотен венгерских пехотинцев. Также в Литве у короля были свои хоругви, но они были включены в наемные войска. Очень многочисленные и боеспособные частные отряды выставляли магнаты. Во время русских походов Батория магнаты Короны привели до 5000, литовские – до 10 000 воинов. Богатые дворяне формировали личную дружину (почт) из собственных крестьян и слуг[6].
Ежеквартальные расходы на содержание наемного войска из 2200 человек кавалерии (гусары, казаки, конные стрелки) и 500 человек пехоты составляли при Стефане Батории около 30 000 злотых, т. е. 120 тыс. злотых ежегодно. Поступления за квартал составляли 90—100 тыс. злотых, что было недостаточно для полного содержания даже столь немногочисленного войска. Разница в расходах на содержание национальных и иностранных воинов была значительной и составляла около 30 % в кавалерии и 40 % в пехоте.
Неудивительно, что Баторий стремился максимально увеличить численность национальной пехоты. Ведя войну против Гданьска, в мае 1577 года король получил налоговые поступления от шляхты, собравшейся на генеральные сеймики в Коле, Нове Място, Корчине и Варшаве, и «subsidium charitativum» – добровольный сбор от духовенства, собравшегося в Петркуве. В результате в июле Баторию удалось набрать войско численностью около 4000 кавалерии, 2000 пехоты и 20 пушек.
Благодаря интенсивной военной пропаганде Баторий добился от варшавского сейма в 1578 году согласия на сбор чрезвычайных налогов в течение 2 лет в неслыханной ранее сумме в 30 грошей с владения, что должно было составлять около 1 млн злотых ежегодно. Фактически оно получало около 600 000 злотых из Короны и 100 000 злотых из Литвы.
В ходе трех походов, предпринятых последовательно в 1579, 1580 и 1581–1582 годах, удавалось собирать на главном театре военных действий более 40 000 воинов, половину из которых, однако, составляли частные отряды, ополчение и казаки. Процент этих формирований достигал 20 % в Короне и 80 % всех сил в Литве. На каждом из второстепенных направлений насчитывалось в среднем около 10 000 человек. Главные силы имели 70 пушек (из них 40 тяжелых), 30 000 ядер, 5000 центнеров пороха (400 тонн) и техническое оборудование. В огромных обозах было около 40 000 слуг, возниц, крестьян-«мостовиков» из Литвы и других людей, составлявших тыл армии.
Наиболее активные военные действия проходили в течение шести месяцев лета и осени. До 20 000 воинов (с декабря 1581 года у Пскова оставалось 20–24 000 воинов), то есть все государственные силы, были оставлены для локальных операций зимой и весной.
Примерная сумма военных расходов Речи Посполитой в период 1578–1582 годов составила до 4 миллионов злотых. Они были покрыты налоговыми постановлениями сеймов 1578 (двухгодичного), 1580, 1581 (двухгодичного) и 1582 (общего сеймика) годов.
Для войны с Турцией Баторий планировал довести численность армии в 1583–1584 годах в 85 000—95 000 солдат с большим количеством артиллерии, боеприпасов и технического оборудования. Ежегодные расходы на ее содержание должны были составить около 6 миллионов злотых, поэтому предполагались налоговые реформы, включавшие ревизию имущества всех сословий и введение постоянного налога[7].
Организация армии
В последней четверти XVI века при вербовке наемных войск продолжала действовать система «товарищества» – выдача королем ротмистрам жалованных грамот (листов пшиповедных) для набора хоругвей. По сравнению с периодом правления последнего Ягеллона грамоты стали более подробными, содержали информацию о вооружении, жалованье, наборе, походе, провианте, наградах за боевые заслуги и прочее. Как и раньше, ротмистр, принимаемый на службу, выбирал себе товарищей (десятников), которые уже прибывали с готовыми почтовыми (десятками). Иностранные войска обычно нанимали целыми полками, поручая эту задачу на основании письменного договора (капитуляции) полковникам (оберстам). Те, в свою очередь, выбирали капитанов (ротмистров), которые сами или с помощью своих заместителей набирали солдат целыми ротами. На место сбора полковник прибывал со всем полком[8].
Король по-прежнему был Верховным главнокомандующим и администратором всех вооруженных сил Речи Посполитой, а его заместителями были великие гетманы Короны и Литвы, занимавшие теоретически эквивалентную должность. На практике решающий голос доставался тому, кто в данный момент имел в своем распоряжении больше вооруженных сил на одном театре военных действий. Разница между ними заключалась в том, что власть коронного гетмана распространялась только на наемные войска, за исключением ополчения, в то время как литовский гетман командовал как ополчением, так и наемными войсками.
Пожизненное пребывание в должности великого гетмана, применявшееся на практике до этого времени, получило силу закона в Короне в 1581 году. Законы 1590 и 1593 годов привели к значительному росту значения этой должности. Всю власть гетмана можно разделить на три части: 1) военная власть, включающая в себя руководство подготовкой к войне, выдвижение кандидатов в ротмистры, командование во время военных действий, роспуск армий, развертывание их на местах, введение организационных изменений, забота о состоянии и снабжении крепостей и цейхгаузов, 2) административная и фискальная власть, ограничивающаяся контролем за выплатой жалованья и ценами на продовольствие, продаваемое армии; 3) судебная власть с правом издания военных артикулов и проведения судов, причем обжалованию подлежали только его решения, касающиеся споров между гражданским населением и армией.
С 1566 по 1578 год имелся третий гетман – Ливонии, подчинявшийся непосредственно королю. Он был назначен снова около 1583 года, но имел власть только над Ливонской земельной службой.
Полевые гетманы были тесно связаны с постоянным наемным войском. В Литве это были пограничные гарнизоны и постоянные полевые войска. В Короне полевой гетман постоянно командовал и управлял кварцяным войском практически самостоятельно, и только в моменты повышенной опасности на юго-восточной границе в дело вступал великий гетман с более крупными силами. Полевой гетман назначался королем, но по предложению великого гетмана. Последнему подчинялись, равноправные между собой: придворный гетман, командовавший придворным войском, казацкий гетман со своим заместителем (поручиком) и старший над пушками, которому подчинялась артиллерия, но только административно.
В Литве после упразднения Ливонского гетманства в 1579 году была создана должность «исполнителя» великого гетмана Литовского в Инфлянтах (Ливонии), командовавшего местными гарнизонами, но просуществовала она только до 1582 года. Иноземные полки имели своих командиров, которые, подчиняясь великому гетману, сохраняли значительную автономию.
Полевые писари ежеквартально проводили инвентаризацию лошадей и снаряжения кавалерийских хоругвей, ежемесячно – пеших рот и выплачивали им жалованье. Текущие списки личного состава подавались казначею и служили основанием для выплаты причитающихся сумм. Отдельные виды войск имели своих полевых писарей: кварцяные, реестровые казаки и придворные – по одному, наемные войска коронной армии, временно завербованные, во время русских походов Батория имели трех полевых писарей, причем немцев и венгров имели собственных. В Литве был только один полевой писарь, а в Ливонии – отдельный полевой писарь.
К должностям штабного и служебного характера относились окольничие и причетники в Короне и в Литве. В их обязанности, выполняемые только во время военных действий, входили разбивка военных лагерей, поддержание порядка в лагере и заведование обозами.
На время похода гетман также назначал несколько судей, по 1–2 от каждой нации. Роль жандармерии выполнял профос со своими помощниками и палачом.
Также следует упомянуть старшего над пушками кварцяного войска, чиновников, распределявших войска по квартирам, главного хирурга, проповедников и т. д.[9]
В рассматриваемом периоде посты занимали:
великий коронный гетман – Николай Мелецкий (1579) – Ян Замойский (1581–1605);
великий гетман литовский – Николай Радзивилл «Рыжий» (1576–1582) – Кшиштоф Радзивилл «Перун» (1589–1603);
полевой гетман короны – Николай Сенявский (1575–1584) – Станислав Жолкевский (1588–1618);
полевой гетман литовский – Кшиштоф Радзивилл «Перун» (1572–1589);
ливонский гетман – Ян Ходкевич (1566–1578), Георг Фаренсбах (1583–1602);
придворный гетман короны – Ян Зборовский (1576–1582);
казачий гетман – Михаил Вишневецкий (1578–1584)[10].
Как и в предыдущий период, на ротмистре лежала ответственность за своевременный сбор хоругви в соответствии с условиями, изложенными в листе пшиповедном, а также за дисциплину и обучение солдат. Из-за задержек со сбором утвержденных налогов возникли трудности с выплатой аванса за экипировку и своевременной выплатой жалованья. В такой ситуации ротмистр был вынужден выдавать солдатам из собственных средств пособия на оплату их службы, которые впоследствии вычитал из жалованья. По этой причине король обычно назначал ротмистром не просто опытного воина, но того, у кого было много денег.
Помимо ротмистра, командный состав хоругви состоял из его заместителей – лейтенанта («capitaneus») и прапорщика («vexillifer»). Лейтенант либо помогал командиру в выполнении его обязанностей, либо выполнял их полностью сам. Очень часто он фактически командовал ротой, выполняя различные боевые задачи. Однако звание ротмистра нельзя считать номинальным. В важных боевых действиях ротмистры обычно находились рядом со своими хоругвями и непосредственно командовали ими в бою. Лейтенанты замещали их, например, когда хоругвь стояла в охранении или когда находилась на отдыхе. В последних случаях ротмистры в основном разъезжались по домам. Прапорщик отвечал за штандарт хоругви[11].
Численность гусарских хоругвей устанавливалась королем чаще всего в 150 всадников, иногда (обычно в казачьей коннице) в 100, а в исключительных случаях в 200, 300 или 50. Что касается численности почтов товарищеских, то листы пшиповедные устанавливали верхний предел для почтов ротмистров в 24 всадника и вообще рекомендовали иметь как можно меньше почтовых («famulorum») и как можно больше товарищей («commilitonum»). Наиболее типичные хоругви во времена Батория насчитывали: 150 всадников, в т. ч. 30 товарищей и 120 почтовых, 100 всадников – с 20 и 80 соответственно, что давало в среднем 5 всадников в почте (включая товарища). Общее количество хоругвей – 50, в т. ч 30 по 150 всадников и 20 по 100 всадников. Наиболее часто встречались почты по 3–7 всадников в гусарии, 2–5 всадников у казаков, 3–5 в аркебузирах, набиравшихся системе «товарищества». В почт ротмистра всегда входили 2–3 трубача, 1 барабанщик и 1–4 заводных (дополнительных) лошади при слугах. Кроме того, каждый почт обычно имел 1 телегу со снаряжением и продовольствием, а также слуг для обслуживания. Таким образом, в среднем на одну хоругвь приходилось около 20–30 повозок и как минимум вдвое больше слуг[12].
Пехотные роты формировались – как и конные хоругви – на основе листов пшиповедных, содержащих аналогичные общие указания. Основное отличие заключалось в численности почтов, которые назывались десятками и состояли из девяти рядовых пехотинцев (почтовых) и одного десятника (товарища). Как правило, в ротах насчитывалось 200 пехотинцев, хотя на практике иногда наблюдался значительный разброс, особенно среди выбранецкой пехоты.
Командный состав пехотной роты состоял из ротмистра и его заместителя лейтенанта («superintendenta»). Они оба действовали на лошадях. Ротмистр обычно имел при себе 1–2 вооруженных слуг на лошадях. Кроме того, в роте имелись прапорщик («vexllifer»), барабанщик («thimpanista») и иногда пищальщик («szyposz»). В общей сложности в роте численностью 200 человек было 18 десятников («decuriones») и 178–179 пехотинцев. Численность венгерских полков на польской службе варьировалась от 500 до 3000 человек.
Отдельного, изолированного штаба не было. Только в роте, которой командовал полковник, было несколько больше хорунжих и военных музыкантов. В полку же имелась группа специалистов («artifices»), насчитывавшая от восьми до дюжины солдат, включая хирурга, жестянщиков, портных, цирюльника, хранителя и различных слуг.
Венгерские пехотные полки делились на роты по 100 гайдуков в каждой. Роту возглавлял ротмистр, у которого был заместитель – лейтенант («vicecapitaneus»), если он одновременно являлся командиром полка. Как правило, рота состояла из 1–3 прапорщиков, барабанщика, 9 десятников и около 90 рядовых. В десятках, из которых состояла рота, было, как и в польской пехоте, 9 рядовых и десятник.
Казачья пехота была организована в 1578 году по венгерскому образцу. Это был один полк в 530 пехотинцев (с 1583 года – 600). Формально им командовал гетман запорожских казаков с военным писарем при нем. Фактическим командиром был поручик с 30 телохранителями. Остальные 500 пехотинцев были разделены на 5 сотен, которыми командовали сотники, а те, в свою очередь, на десятки (куреня), возглавляемые атаманами (десятниками).
Полки немецкой пехоты насчитывали 1000 (Эрнест Вейхер в 1576 году) или 2000 пехотинцев (Кшиштоф Розражевский и Георг Фаренсбах в 1581 году). Организационно они делились на 5–6 рот по 400–500 солдат в каждой. Вышеупомянутые полки носили характер организационных единиц.
У них было два типа штабов. Высший полковой состоял из полковника, писаря, 8 гвардейцев, вахмистра, слуги вахмистра, провиантмейстера, писаря и помощника провиантмейстера, капеллана, квартирмейстера, профоса, слуга писаря и 2 пеших профосов, палача с помощником, хуренвайба (управляющего женщинами), оружейника, трубача и 2 барабанщиков – всего 29 человек. В штаб рот входили капитан со слугой, лейтенант со слугой, прапорщик со слугой, сержант со слугой, писарь, хирург, фурьер (руководил маршем роты), фурьер (снабжал роту продовольствием), 2 старших солдата, 2 жандарма, 2 писаря, 2 барабанщика и оружейник (21 человек)[13].
В артиллерии руководство канонирами, их помощниками и мастерами в различных арсеналах осуществляли цейхварты. Административная власть осуществлялась старшим над пушками. Во время войны один пушечный мастер обычно отвечал за 2 пушки, но у него был помощник, подававший порох, ядра и выполнявший вспомогательные работы. За военно-инженерное дело отвечали несколько иностранных инженеров в звании капитан. Кроме них, имелись еще 1–2 шанцмейстера с саперным подразделением, численностью 50 шанцкнехтов.
Постоянных тактических подразделений, кроме хоругвей и рот, в то время еще не существовало. Вместо них формировались специальные тактические объединения, которые впоследствии стали называться полками. Они состояли из различных видов кавалерии и пехоты с добавлением артиллерии, численностью от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Их командирами были высшие военные сановники, сенаторы или ротмистры, назначаемые королем или великими гетманами.
Вооружение и оснащение
В последней четверти XVI века кавалерия продолжала оставаться главным родом войск в армии Речи Посполитой в силу особенностей театра военных действий (большие, открытые пространства) и характера противника, с которым чаще всего приходилось воевать (татары, казаки, молдаване). Лишь при Батории в Гданьской и Русско-польской войнах 1577–1582 годов сведшихся к осадам, роль кавалерии снизилась. Соотношение кавалерии и пехоты в то время составляло 1: 1. Тяжелая кавалерия Короны во времена Батория состояла из польских и венгерских гусар (85 %), казаков (около 10 %), а также рейтаров и аркебузиров (5 %). Литовская армия состояла только из гусар – ок. 70 %, казаков с пехотой – ок. 27 % и конных стрелков – 3 %[14].
Правление Стефана Батория стало периодом значительных изменений в организации и вооружении польской кавалерии. Еще в правление Сигизмунда Августа все кавалерийские подразделения носили смешанный характер, т. е. состояли, например, из легковооруженных казаков и копейщиков, гусар и т. д. Характер той или иной хоругви определялся количественным преобладанием всадников одного из видов кавалерии, в соответствии, с чем она получала название казачьей, гусарской или копейщиков. Только в 1570–1580‐х годах большая часть подразделений кавалерии стали состоять из всадников одного вида. В это время тяжеловооруженные копейщики были полностью заменены гусарами. С этого времени в кавалерии служили гусарские, казачьи и легкие (пятигорские) хоругви[15].
Из хоругвей, участвовавших в Ливонской войне, только ⅓ включала всадников других видов конницы. Только в хоругвях кварцяной армии часто включались до 8 % всадников прочих видов[16].
В соответствии с королевским универсалом 1676 года гусары стали отдельным и самостоятельным видом кавалерии, хотя в течение нескольких лет гусарские хоругви все еще носили неоднородный характер и включали казаков или аркебузиров, но в очень небольшом количестве.
Польские гусары произошли от сербских гусар и попали в Польшу через Венгрию. Первоначально гусары были легкой кавалерией, но во второй половине XVI века они получили защитное вооружение, состоявшее из полудоспеха и шлема типа «ерихонка»[17].
Доминирующая роль гусар в кавалерии была обусловлена их тактическими задачами – разбивать компактные пехотные и кавалерийские соединения противника решительным натиском. Таким образом, ко времени Батория это был уже самый тяжелый вид польско-литовской кавалерии. Чтобы сочетать большую ударную мощь со значительной мобильностью, изменения в защитном вооружении, начатые еще в 1560‐х годах, были продолжены.
В связи с войной с Гданьском в 1576 году король сформировал придворных гусар, ротмистры которых должны были носить «венгерскую одежду (…), железные латы, шлемы, железные перчатки, копье, меч, называемый кончаром, карабины, подвешенные к седлу, и, наконец, для блеска и устрашения врага, перья и другие украшения по вкусу каждого капитана». Эти гусарские правила («regulamin») были повторены в Варшавской генеральной конфедерации 1587 года.
7 мая 1577 года Баторий выдал Стефану Белявскому лист пшиповедный о наборе придворной хоругви в 100 лошадей, в котором требовал, чтобы доспехи были точно выкованы из железа, украшены медью, чтобы у каждого всадника был шлем, наручи, копье, сабля, кончар, полугаковница или пистолет у седла, перья или другие украшения. Таким образом, благодаря придворной хоругви получил широкое распространение тип польских гусарских доспехов. Доспехи, чаще всего листовые и украшенные латунью, состояли из шлема, бувигера, устойчивого к пистолетному или аркебузному выстрелу, толстого (5–7 мм) нагрудника, наплечников, наручей, набедренники.
Венгерский гусарский полудоспех, на который ориентировались при создании польского, обычно представлял собой относительно легкую (15–18 кг) цельную или сегментную кирасу с подкладкой только в нижней части и без набедренников. Сегментов обычно было восемь, и они ковались таким образом, что образовывали четкое ребро посередине. Нагрудник и нагрудная пластина соединялись на плечах и талии при помощи ремешков. Иногда под кирасой гусары носили кольчугу или просто кольчужные нарукавники. Чаще руку защищали открытые наплечники и наручи, то есть полукруглые пластины от локтя до кисти. Голову защищал капалин – созданный по образцу турецко-венгерского полусферический шлем с козырьком, наушами, назатыльником и увеличенным наносником, в некоторых вариантах по величине напоминал маску или полумаску. Делался из двух сваренных пластин, к которым приваривали козырек, крепился сегментный назатыльник, науши держались на кожаных ремнях, а наносник проходил сквозь тулью и был подвижным. Щиты типа «калкан» или «пламя» носили только в качестве дополнительной защиты[18].
Наступательное вооружение гусара состояло, прежде всего, из легкого копья длиной 3–4 метра с длинным наконечником и вымпелом. Поскольку для уменьшения веса копье было полым посередине, оно рассыпалось уже при первом ударе, выполнив, однако, свое предназначение по разрушению строя противника. Обычное копье было дороже и тяжелее (более 10 кг), но обладало высокой прочностью. Чтобы защитить наконечники копий от ржавчины, их покрывали медью.
Разбив копье, гусар доставал кончар, предназначенный только для нанесения колющих ударов и возимый на левой стороне у седла под коленом. Старые типы кончаров были похожи на меч, короткие (1,20—1,30 м) и с более широким лезвием, а новые – длиннее (до 1,40 м) и уже. Последние невозможно было вытащить одним быстрым движением во время напряженного рукопашного боя. По этой причине они чаще становились оружием товарищей и ротмистров и заменяли им копья.
Сабли были венгерско-турецкого типа (производящиеся в стране назывались венгерско-польскими) с небольшой кривизной клинка, отчетливым клинком, прямой и длинной перекладиной, длиной 90—100 см, использовались и в рукопашном бою. Во времена правления Батория широкое распространение получил тип сабли, позже известный как «баторовка». Эти сабли отличались открытой рукоятью с немного наклоненным вперед деревянным череном, колпачкообразным или миндалевидным навершием, длинной прямой крестовиной с перекрестьем; массивным и широким клинком малой кривизны, с четко выраженной обоюдоострой елманью. Поверхность голоменей клинка – иногда плоская, иногда с идущими параллельно тупью доликами. Такая сабля больше всего подходила для сильного, разящего удара, в меньшей степени – для фехтования. Размашистый удар всей рукой использовался гусаром в основном при проезде мимо противника. В то время высокая скорость предотвращала риск быть настигнутым в начале замаха или риска ответного удара после того, как противник парировал удар. Иногда вместо сабель носили короткие мечи или прямые палаши, а также клевцы для пробивания доспехов противника.
Из огнестрельного оружия во времена правления Батория среди гусар были распространены пистолеты, называемые короткими ручницами, которые крепились к седлу с левой стороны. Они имели западные колесцовые или восточные испано-мавританские замки[19].
В конской сбруе было характерно использование более легких седел. Прочная опора для поясницы, необходимая при копейном ударе, была заимствована в них от широких седел с высокой лукой. Облик коня и всадника дополняли перекинутые через плечо шкуры леопарда и тигра (у спутников) и шкуры волка и медведя (у почты). Искусственные крылья с перьями, вставленные в высокие рамы, обычно крепились по одному к задней луке седла.
Лошади использовались турецкие, арабские, валашские, неаполитанские и местные, в том числе благородные мерины. Унифицированная конская сбруя была как у товарищей, так и у почтовых. Различия выражались лишь в дороговизне украшений.
Перевооружение гусар происходило постепенно, быстрее в ополчении и частном войске, медленнее в кварцяном. Доспехи и снаряжение литовских гусар были очень похожи на коронные, с той лишь разницей, что в Литве все же был относительно больший процент всадников, носивших панцири и щиты, а не пластинчатые полудоспехи[20].
Вторым видом конницы Речи Посполитой были казаки. Во времена последних Ягеллонов они считались легкой конницей, но при Батории некоторые из них носили защитные доспехи. Таким образом, можно говорить о двух типах казачьей кавалерии – легко- и средневооруженной. Средневооруженные казаки носили кольчугу или полудоспехи, а голову обычно защищала мисюрка – шлем с железной маковкой или теменем (навершие) и сеткой (кольчуга). Наступательное вооружение состояло из сабель, копий, рогатин, луков, а иногда и огнестрельного оружия (как пистолетов, так и ружей). Та часть казачьих хоругвей, которая не использовала защитных доспехов, по своему характеру была схожа с пятигорцами в литовском войске[21].
Сначала казаки составляли иногда самостоятельные хоругви, но чаще всего встречались в небольшом количестве в составе гусарских хоругвей. Только к концу XVI века казачьи хоругви, как и гусарские, стали единообразными. Во времена Батория казаки были немногочисленны – около 10 % от общей численности кавалерии.
Защитные доспехи казаков состояли из кольчуги, шлемов (иногда бацинеты или мисюрки) и часто легких щитов (баклеров, калканов). Калкан был около 50 см в диаметре и весил 2–2,5 кг. Он оснащался стальным умбом диаметром до 20 см. Если он был сделан из плетеных прутьев диаметром около 10 мм, оплетенных льняным шпагатом толщиной 1,2 мм, то стрела, выпущенная с небольшого расстояния (около 15–20 м), пробивала щит на глубину не более 3 см, и наконечник стрелы не достигал тела воина. Таким образом, калкан, перекинутый через спину, прекрасно защищал казака при отступлении или бегстве. Кроме того, им можно было легко парировать удар копья или рогатины. Для щита был опасен удар саблей по направлению нитей тесьмы. С другой стороны, калкан не защищал от попадания свинцовой пули, выпущенной с расстояния 250 м из мушкета или 160 м из аркебузы. Поэтому казакам приходилось избегать столкновений с пехотой или кавалерией, вооруженной огнестрельным оружием, если у них самих его не было.
Что касается наступательного оружия, то они использовали легкое древковое оружие (копье, рогатину, легкое копье), саблю, 1–2 пистолета у седла и очень часто длинное ружье с колесцовым замком (аркебузу), а при его отсутствии – восточный (составной) лук с колчаном.
Ружья с колесцовым замком в больших количествах завозились из Германии. Об этом свидетельствуют контракты, которые заключались с немецкими поставщиками. В 1579 году Ханс Лампа из Брауншвейга должен был поставить 200 таких ружей, а 324 были закуплены в Вильно и Торуни. Новая форма ложа теперь позволяла стрелять с упором на плечо, вырез в прикладе позволял свободно держать оружие, не загораживая цель, а крышка запального отверстия защищала порох от влаги.
Пистолеты, которыми пользовались казаки, также либо привозились из-за границы, либо изготавливались в Польше. Среди них можно выделить три типа: 1) с прямым прикладом, расширяющимся к концу; 2) «пуффер» (длина 40–50 см, вес 1–2 кг) с изогнутым вниз прикладом, заканчивающимся шариком, что способствовало быстрому извлечению оружия из ольстера; 3) «петриналь» с длинным прикладом (около 100 см), изогнутым вниз, что позволяло прислонять оружие к груди во время стрельбы. Колесцовый замок на этих пистолетах обеспечивал мгновенную готовность оружия к использованию и не задействовал другую руку при стрельбе.
Казачьи сабли обычно были легче гусарских, их конструкция позволяла использовать, помимо размашистых ударов, уколы и мельницы, наносимые запястьем. Лошади, использовавшиеся казаками, уступали гусарским – в основном жеребцы, реже мерины[22].
Третьим по численности видом всадников, составлявшим польскую кавалерию в 1581 году, были аркебузиры, которые в двух предыдущих кампаниях Батория появлялись довольно редко. Аркебузиры, считавшиеся западноевропейским типом кавалерии, получили свое название от используемого оружия – аркебузы. Кроме того, они использовали пистолеты, рапиры, иногда сабли, а также довольно развитые элементы защитного вооружения, состоявшие из шлемов и полудоспехов с набедренниками. Аркебузирные роты, в значительном количестве привлеченные к походу на Псков, состояли, как правило, из немцев и заменили рейтарские роты, использовавшиеся в двух предыдущих походах. Предполагалось, что во время осадных операций они будут полезны как дополнение к пехотным частям[23].
Легкая кавалерия была представлена конными стрелками. Они имелись только в кварцяном войске в небольшом количестве – 100 лошадей. Защитного вооружения у них не было, наступательное было аналогично казачьему. Они делились на «pixidarii», вооруженных длинными или короткими ружьями, и «sagittarii» с луками.
К легкой кавалерии относились пятигорцы, которые уже с 1660‐х годов присутствовали в Литве (рота Халимбека и Гаврилы) и в Короне (хоругвь Темрюка и литовские татары в придворной кавалерии). Они происходили из районов, прилегающих к кавказской горе Бештау, населенных племенем кабардинцев (черкесов). От конных стрелков («sagittarii») они отличались одеждой и частым использованием копий, предназначенных для метания.
Средневооруженная и легкая кавалерия выполняла разнообразные тактические задачи, заключавшиеся в обстреле противника и, благодаря своей мобильности, во фланговых маневрах и маневрах преследования. Кроме того, она выполняла разведывательные, охранные и диверсионные функции.
Вооружение аркебузиров («sclopetarii poloni», набранных по товарищеской системе, и «sclopetarii germanos» с внутренней немецкой организацией) было аналогично вооружению тяжеловооруженной гусарской кавалерии. Эти всадники имели шлемы, доспехи, прикрывавшие всю длину рук, и полудоспехи с набедренниками. Вместо копий у них были длинные ружья (аркебузы с колесцовыми замками) и 2 пистолета. Холодное оружие было представлено мечами (рапирами) или саблями. В состав польской кавалерии входили также легковооруженные рейтары в кирасах без набедренников, но с пистолетами и рапирами[24].
Следует отметить, что пехота во времена Батория претерпела гораздо большие изменения, чем кавалерия. Пехота польского типа состояла из польской наемной пехоты, выбранецкой пехоты и шляхетской пехоты.
Вскоре после вступления на престол Баторий осознал, что малочисленность пехоты – серьезный недостаток армии Речи Посполитой. В открытом поле русская армия уступала польско-литовской, но там решающим фактором успеха была кавалерия. В условиях осадной войны, как это прогнозировалось на предстоящий период, необходимо было значительно увеличить количество пеших воинов и артиллерии.
Многие европейские страны того времени боролись с проблемой создания эффективной пехоты. Баторий решил обратиться к способам, которые гарантировали получение дешевых и многочисленных рекрутов из крестьянства. На сейме 1578 года он представил проект введения выборной системы, известной в Венгрии, Швеции. Однако депутаты не согласились распространить ее на все владения. По конституции, принятой 3 марта 1578 года, крестьян в армию можно было набирать только в королевских владениях и только в короне. От каждых 20 ланов (дворов) королевских владений должен был выставляться один солдат, с ружьем, боеприпасами, саблей и топором. Взамен лан солдата освобождался от всех повинностей и налогов, которые за него платили крестьяне с остальных 19 ланов[25].
Для повышения своей боеспособности выбранецкий пехотинец был обязан в мирное время прибывать на смотры, организуемые ротмистром, а в военное время отправляться в походы, за что получал жалованье. На практике обладатель выбранецкого лана не всегда служил лично, отправляя в военный поход так называемого «пахолка», экипированного и вооруженного по вышеупомянутым правилам[26].
Выбранецкая пехота представляла собой пехотинцев-стрелков, очень похожих по вооружению на польскую и венгерскую пехоту, но принципиально отличавшихся от пехоты Западной Европы. Выбранецкая пехота была организована аналогично польской пехоте, за исключением того, что она набиралась по территориальному принципу. Как правило, рота формировалась из крестьян одного воеводства, хотя в воеводствах с меньшим количеством королевских владений они объединялись. Командирами роты были опытные офицеры наемной пехоты, как правило, из шляхты[27].
Поначалу реализация постановления сейма о наборе выбранецкой пехоты шла медленно, и для Полоцкого похода было собрано всего 614 солдат. Для похода на Великие Луки было набрано 1100 пехотинцев и около 200 всадников, сведенных в 11 рот. Наибольшее число выбранецких солдат было собрано в 1581 году. В походе на Псков участвовало 1878 выбранецких солдат в 12 ротах, к которым присоединили 414 наемных пехотинцев. Последние набирались ротмистрами тех воеводств, в которых еще не были определены ланы, выставляющие выбранецких солдат[28].
Традиционным типом пехоты, набираемым еще во времена Ягеллонов, были так называемые «драбы», которые во времена Батория назывались польской пехотой. В армию набирали в основном жителей городов и местечек, но были и крестьяне из королевских поместий или беглецы из дворянских деревень, где призыв в армию был запрещен. Высшие офицерские должности занимали дворяне, хотя иногда случалось, что даже рядовые пехотинцы были выходцами из дворянства (в основном бедного). В 1581 г. была сформирована рота шляхетской пехоты под командованием Николая Уровецкого, в которую солдаты набирались как в конницу, используя систему почтов товарищеских. Возможно, таким образом, предполагалось преодолеть традиционное нежелание шляхты служить в пехоте, считавшихся в то время плебейскими. Рота польской пехоты обычно состояла примерно из 200 солдат, разделенных на десятки. Ее командование состояло из ротмистра, поручика, хорунжего и 18–20 десятников. В состав роты входили также барабанщик или волынщик, а вооружение солдат состояло из ружья, сабли и топора (у десятников сохранилось короткое древковое оружие – дарда). Всего польская наемная пехота, участвовавшая в Псковском походе 1581–1582 годов, насчитывала 3366 человек, разделенных на 16 рот[29].
Начиная с Полоцкого похода 1579 года, венгерские пехотинцы, набранные по приказу Батория в Венгрии, Трансильвании и Словакии, значительно увеличили численность армии. Они были сведены в полки разной численности, разделенные на роты, насчитывающие примерно по 100–200 солдат каждая. Вооружение венгерских пехотинцев не отличалось от польского, схожими были и офицерские должности. В первом Полоцком походе участвовало 19 венгерских пехотных рот общей численностью 2 тыс. человек, а для похода на Великие Луки в 1580 году было набрано уже более 3,3 тыс. человек. Для Псковского похода следующего года было набрано 2886 венгерских пехотинцев, сведенных в 28 рот численностью от 80 до 230 человек[30].
Польская, венгерская и выбранецкая пехота состояла из стрелков, обладавших значительной огневой мощью, но при этом весьма полезных для инженерных и осадных работ. Используя любую возможность увеличить численность пехоты, Баторий также нанимал солдат и в Западной Европе, прежде всего в Германии.
Немецкие пехотные полки периода Батория, как правило, набирались из жителей Бранденбурга, Саксонии и Силезии. Для них был характерен обширный штат, состоящий из нескольких офицеров и унтер-офицеров – от полковников до сержантов. Вооружение пехотинцев состояло из рапиры и аркебузы (аркебузиры) или рапиры и пики длиной 5,5 м (пикинеры). Последние также носили защитное вооружение в виде полудоспеха и шлемов. Таким образом, огневая мощь немецкого пехотного подразделения снижалась на треть, так как в его состав обычно входили пикинеры. Однако в Западной Европе они были полезны как щит от атак вражеской кавалерии. В случае с армией Короны отличная и многочисленная кавалерия гарантировала достаточную защиту на поле боя, поэтому польская и венгерская пехота не использовала пикинеров. Учитывая эту ситуацию, Баторий приказал офицерам, отправленным в Западную Европу, набирать гораздо больше мушкетеров, чем пикинеров. Для похода на Псков набрали 1601 немецкого пехотинца, сведенного в один полк из пяти рот. Командование им принял полковник Георг Фаренсбах[31].
Во время войны с Гданьском Баторий призвал на службу несколько сотен шотландских пехотинцев, известных в то время во всей Европе своей храбростью и стойкостью. Они были вооружены мушкетами или вульжами – шотландскими аналогами русского бердыша, длинными обоюдоострыми мечами и кинжалами. Большинство из них после Гданьской войны осталось в Польше и использовалось в походах на Русское государство. Ранней осенью 1581 года около 100 шотландцев сражались в Ливонии под командованием Мацея Дембиньского, но затем были переведены под Псков. В итоге в осаде этой крепости участвовало 248 шотландцев, разделенных на 3 подразделения.
Отсутствие источников не позволяет определить состав литовской пехоты, численность которой обычно оценивается в 4 тыс. солдат. Несомненно, что часть из них служила в наемных отрядах, сформированных по образцу польской пехоты, а часть была казачьей пехотой из частных магнатских почтов и ополчения. Всей литовской пехотой командовал казначей литовского двора Теодор Скумин Тышкевич[32].
Усилия по увеличению численности национальной пехоты (как выбранецкой, так и дворянской) наталкивались на трудности, связанные с нехваткой опытных солдат и более качественного огнестрельного оружия отечественного производства. В принципе, каждый пехотинец должен был приобретать оружие самостоятельно, но Баторий, заботясь о высоком качестве и единообразии, инициировал централизованные закупки в стране и за рубежом. Стоимость оружия вычиталась из солдатского жалованья.
Польские пехотинцы всех типов носили одинаковую синюю («obłoczystą») форму, были одинаково вооружены, использовали единую тактику и имели схожую организационную систему. В Литве этот же тип был представлен литовской наемной пехотой и польской пехотой на литовском жалованье. Ротмистр, поручик и хорунжий имели при себе саблю и один пистолет. Десятники были вооружены дардами (короткое древковое оружие), топорами, саблями, кортиками, а иногда и одним пистолетом. Они часто носили белые жупаны и красные галуны.
Рядовые пехотинцы различались по типу длинного огнестрельного оружия, которым они владели. Чаще всего это были фитильные ружья с так называемым фитилем («brodate») или с втулкой («hubczaste»). Длина таких ружей обычно составляла около 130 см, а калибр – 16 мм. В 1579 году в Брунсвике было заказано 2000 фитильных ружей, а в следующем году 2879 таких ружей было закуплено в Познани, Вильно и Тыкоцине. Реже встречались фитильные «французские ручницы» или оснащенные восточными «испано-мавританскими» замками. В некоторых ротах значительную часть (до 50 %) составляли аркебузы – колесцовые ружья с повышенной скорострельностью. Такие ружья имели длину около 100–140 см, калибр от 11 до 16 мм, весили 3–4 кг и могли стрелять на расстояние около 160 м. Также можно было встретить тяжелые аркебузы с колесцовым замком длиной около 150 см и весом 5,5 кг. Редкими были мушкеты с дальностью стрельбы 250 м, калибром 19–21 мм, с плоским прикладом, позволявшим упирать его в плечо, что обеспечивало лучшее прицеливание. Стрельба из мушкета велась с опоры, называемой форкетом, и пуля этого оружия обладала большей пробивной силой, чем у ручницы. Неотъемлемой частью снаряжения стрелков были пороховницы, заряды с готовыми мерами пороха, запалы и ключи для завинчивания замков. Темп стрельбы пехоты был увеличен благодаря введению Баторием готовых патронов, которые позволяли делать один выстрел за 10 минут.
Пехотинцы также были вооружены саблями, кортиками, шпагами. Кроме того, они носили топоры, используемые для боевых и саперных работ (прорубание леса, засыпка окопов и т. д.), и очень часто кирки.
Насыщение венгерской пехоты огнестрельным оружием было выше, чем в Польше и других странах, использующих этот тип пехоты. Оружие гайдуков было несколько лучшего качества, и у них было больше боевого опыта. Существенных различий в их вооружении по сравнению с польской пехотой не было. Однако, помимо сабель и топоров, венгры иногда использовали боевые булавы, бердыши (короткие алебарды) и пики. Десятники обычно выступали с коротким древковым оружием (рогатинами).
Немецкая пехота состояла из пикинеров и аркебузиров, которых постепенно заменили мушкетеры. Численное соотношение между пикинерами, вооруженными длинным древковым оружием (пиками, реже алебардами), и стрелками с аркебузами и фитильными мушкетами со временем выровнялось, и Баторий даже пытался обеспечить численное превосходство стрелков. Защитное вооружение немецких пехотинцев было разным. У аркебузиров не было вообще никакой брони, либо только шлемы и круглые щиты, полезные при штурме крепостей. Пикинеры обычно имели полудоспех, состоящий из кирасы и секционных набедренников. Вооружение запорожской пехоты было двух типов, поскольку наряду с обычно носимыми саблями в этом строю использовались пики или длинноствольное огнестрельное оружие (пищали). Соотношение между этими двумя типами не установлено[33].
Вооружение и снаряжение польско-литовской армии, отправившейся на Псков в 1581 году, насчитывало:
48 тысяч единиц длинного древкового оружия,
43 тысячи единиц стрелкового оружия,
41 тысяча длинного белого оружия,
28 тысяч короткого белого оружия,
12 тысяч единиц ударного оружия,
1500 арбалетов и луков,
15 тысяч шлемов,
14 тысяч полудоспехов,
14 тысяч панцирей,
800 щитов.
При ежегодном производстве оружия в Речи Посполитой, равном около 21 тысячи сабель, 1 тысячи луков, 20 тысяч пластинчатых доспехов и около 4 тысяч панцирей, на перевооружение армии в последней четверти XVI века уходило 2–3 года. Стоимость вооружения гусара составляла от 34 до 65 флоринов (самая дорогая лошадь, панцирь и полудоспехи со шлемом), казака – от 21 до 74 флоринов, конного стрелка – от 14 до 40 флоринов, аркебузира – от 29 до 56 флоринов, а пешего пикинера – от 1 до 5 флоринов.
Как видно из приведенных выше расчетов, в период подготовки к войне кузнецы принимали самое активное участие в производстве оружия, выковывая наконечники копий, рогатин, копий и пик, а затем устанавливая их на древки. Последние изготавливались из ясеня или ели плотниками и резчиками по дереву. Поскольку древки гусарских копий были полыми внутри для уменьшения их веса, в их изготовлении также участвовали токари, скреплением деталей занимались шорники, а отделкой – художники. Известно также, что наконечники копий изготавливались мечниками и слесарями[34].
Во время правления Сигизмунда II Августа были проведены значительные реформы в области артиллерии. В дополнение к уже существовавшим арсеналам и оружейным складам в Кракове, Вильно и Львове в Тыкоцине был создан очень богатый арсенал. Во главе арсеналов стояли цейхварты, в подчинении которых находились пушкари и целый ряд ремесленников различных специальностей[35].
Во время походов Батория на Русское царство пушки, ядра и порох приходилось перевозить на гораздо большие расстояния, поэтому в 1579 году было подготовлено 97 пушек, часть из которых была доставлена в Полоцк, а в следующем году в походе использовалось не менее 70 пушек, в том числе 30 тяжелых осадных. Первоначально телеги и упряжки нанимались вместе с возницами, но при Батории были введены так называемые «казенные упряжки», которые содержались за счет государства для артиллерии. В 1581 году в артиллерийском обозе было 400 лошадей и 200 волов[36].
В последней четверти XVI века увеличилось количество пушек, которые имелись практически в каждом замке, крупном городе и в особых арсеналах, при которых находились канониры. Во время Ливонской войны 1579–1582 годов для каждого похода привлекались десятки пушек, в том числе 20–40 одних только тяжелых осадных орудий. В полевых условиях часто использовались легкие пушки, а в сражениях с татарами – гаковницы, установленные на телегах. К концу XVI века оборудование в арсеналах было уже в основном старым и очень разнообразным, что затрудняло создание запасов боеприпасов.
По-прежнему существовало множество типов и названий пушек. Согласно «Описи пушек» Тыкоцинского замка 1579 года, среди осадных орудий были шарфмецы (вес снаряда до 40 кг, вес ствола до 6500 кг), соловьи «Nachtigal» и певцы «Singerin» (50 фунтов и вес ствола до 2500 кг) для разрушения стен и картауны (25–48 фунтовые). Они могли делать до 30 выстрелов в день. Из полевых орудий были полукартауны, мортиры, фальконы, фальконеты, нотшланги, фельдшланги, кватершланги, кулеврины и гаковницы.
Вес снарядов составлял от 1 до 20 кг, а вес стволов – от 100 до 1600 кг. Запряжка полевых орудий составляла от 2 до 6 лошадей. Скорострельность полевых орудий составляла 20–40 выстрелов в день. Боеприпасы состояли из сплошных железных или полых железных ядер (гранат), а также свинцовых ядер (для орудий малого калибра).
Баторию, который проявлял личный интерес к технологическим процессам, связанным с производством пушек и боеприпасов, приписывают изобретение зажигательных ядер для разрушения деревянных укреплений. С другой стороны, каменные снаряды все еще были широко распространены. Порох производился на пороховых мельницах, расположенных в крупных городах.
Походы Батория продемонстрировали высокий уровень инженерной подготовки. Водные пути умело использовались для транспортировки артиллерии и военного снаряжения. Для переправы войск через реки имелись мобильные мосты на основе лодок, наводившиеся иногда в течение трех часов. Во время осад строились орудийные позиции, извилистые подкопы под вражеские укрепления и устанавливались мины. С инженерным делом была связана работа военных картографов. Походы Батория стали первыми в Польше, которые планировались по заранее подготовленным картам[37].
Личный состав. Происхождение и социальная структура
Вооруженные силы Речи Посполитой были разнородными по национальному составу. Иностранцы в Короне составляли 20 % всей кавалерии и 50–60 % пехоты, но в Литве их доля не превышала нескольких процентов.
Около 17 % коронной кавалерии во время правления Стефана Батория составляли венгры, служившие в гусарах. В пехоте их число превышало 3000 человек (26 %). Венгерские полки были наняты для короля его братом, Кристофом Баторием, князем Трансильвании. Они из Трансильвании прибывали в Польшу уже полностью сформированными (Стефан Кароли) или из самой Венгрии (Паннония – Михал Вадаш). Полковники были исключительно венграми. С ротами, набранными по приказу Замойского, дело обстояло иначе. А именно, ротмистры были отправлены в Словакию (в то время Верхняя Венгрия) для проведения набора.
Венгерские командиры имели большой боевой опыт. Пехотными полковниками были Михал Вадаш (1576–1579), Стефан Кароли (1579–1582) и Ян Гал (1580), а кавалерией командовали Каспер Бекеш (1577–1579), Габриэль Бекеш (1580) и единственный новичок, Бальтазар Баторий (1581–1582), племянник короля Стефана. Последний командовал всей трансильванской армией в битве при Бычине 24.01.1588 г., в которой венгры составляли почти 20 % всех сил Замойского. В то время трансильванской хоругвью (100 всадников) командовал Ян Борнемисса, а венгерским пехотным полком (1200 человек) – Альберт Кирали. В последующие годы доля венгров в польской армии значительно сократилась, хотя еще в 1596 году имелась королевская гвардия из 400 венгерских пехотинцев под командованием Лепшени. Процент выходцев из Венгрии в польском командном составе в конце XVI века не превышал 4 %[38].
Немцы, служившие в аркебузирах и рейтарах, составляли лишь 1 % кавалерии короны. В период правления Батория число немецких пехотинцев достигло 2000 человек, что составляло около 17 % от общей численности пехоты. Осенью 1576 года был подписан договор с Эрнестом Вейхером о наборе около 1000 пехотинцев, в начале 1579 года с Кшиштофом Розражевским – около 2000 и в начале 1581 года с Георгом Фаренсбахом – также около 2000 пехотинцев. В основном использовались приграничные районы Германии, то есть Бранденбург, Саксония и имперская Силезия. Времени на набор обычно не хватало, и многие земли в центральной и западной частях Германии (в том числе Любек) возражали против этого, поэтому в армию, как правило, набирали случайных людей с меньшей боевой ценностью, а не ветеранов сражений в Нидерландах. Тем не менее ландскнехты имели более высокую подготовку и лучшее вооружение, чем польские солдаты. В битве при Бычине в 1588 году сражалась рота немецких рейтаров Генриха Рамеля, насчитывавшая 100 всадников. В более поздние годы имелись роты Отто Денхоффа, Готтебера, Кройца, но доля ротмистров немецкого происхождения не превышала 4 %. В 1581 году удалось набрать 4 роты шотландцев (340 солдат), которые ценились как хорошие стрелки.
Западный солдат был дорогим, недисциплинированным и мало интересовался интересами страны, которой служил. Поэтому в 1590‐х годах в иностранных отрядах (особенно в аркебузирах) все чаще служили солдаты, набранные в границах Речи Посполитой.
Кроме того, в рекрутском списке Замойского 1581 года значится чешско-моравская пехота. Также в составе наемной польской пехоты можно было встретить единичных словаков, моравов, силезцев и литовцев.
Воины восточного происхождения коронной и литовской армий были представлены литовскими татарами, черкесами (пятигорцами) и молдаванами. Командирами двух черкеско-татарских хоругвей были Темрюк Шимкович и Солгиен Пятигорец. Кроме того, имелась татарская хоругвь королевской гвардии.
Русский элемент, еще не полонизированный в то время, на уровне ротмистров был представлен, например, Бокеем, Хоцимирским, Даниловичем, Дениско, Ружинским, Уровецким и Вишневецким. Процент коренного русского элемента был гораздо выше среди товарищей, особенно почтовых, служивших в кварцяном войске.
Наибольший удельный вес в польских вооруженных силах имели казаки. Запорожская пехота, насчитывавшая от 500 до 600 пехотинцев, в 1590‐х годах составляла треть или четверть всего войска. Солдаты полка Яна Орышовского, принятого на службу в марте 1581 года, были выходцами из Украины (193), Волыни (59), Литвы (23), Подолии (15), этнической Польши (10), Червонной Руси (9), а среди иностранцев в нем служили 20 русских, 4 молдаванина, 2 татарина, серб и немец. По социальному составу среди них были мещане, дворяне и беглые крестьяне. Кроме отряда Орышовского, на государственной и частной службе в эпоху Батория находилось более 2000 казаков, не включенных в реестр[39].
О происхождении польских ротмистров можно судить по имеющимся сведениям о 80 командирах наемных хоругвей, участвовавших в походах Батория (1576–1586). Согласно ему, отдельные провинции предоставляли:
1) Русские земли – 29 ротмистров (36 %) – 23 гусарских и 6 казачьих хоругвей,
2) Малая Польша – 19 (24 %) – хоругви гусарские,
3) Великая Польша – 17 (21 %) – 13 гусарских, 3 аркебузирских и 1 казачья хоругви,
4) Мазовия – 10 (13 %) – 9 гусарских и 1 казачья хоругви,
5) Подляшье – 2 (3 %) – казачьи хоругви[40].
Таким образом, количество ротмистров пропорционально размерам (и набору) отдельных частей Речи Посполитой. Исключением стала Королевская Пруссия, которая поставляла в основном пехоту иностранного типа и солдат военно-технических специальностей. Обращает на себя внимание, что наибольшее количество ротмистров происходило с русских территорий. Остальные 31 ротмистра служили в кварцяном и придворном войске. Безусловно, большинство из них (а также товарищи и почтовые) также были выходцами из русских земель. Как правило, ротмистры кварцяных войск владели хотя бы частью своих поместий на Руси и в Подолии. Места вербовки польской наемной пехоты находились в основном в Малопольше, затем в Мазовии, Подляшье, Червонной Руси, Великой Польше и изредка в Королевской Пруссии. Во времена Сигизмунда III ок. 40 % наемных ротмистров могли быть выходцами из Руси, Подолии и Украины, 25 % – из Малой Польши, 14 % – из Ливонии и только 7 % – из Великой Польши и Литвы[41].
Самой высокооплачиваемой частью национального войска были придворные хоругви, состоявшие из гусар. В период походов Батория так называемые weterani milites (военные ветераны) получали ежеквартальное жалованье в размере 18 злотых. Другие гусарские хоругви получали 15 злотых, а казачьи – 12 злотых. Кроме того, ротмистрам выдавались так называемые «кухонные деньги» («na kuchnią») – 1 злотый на всадника, что для 150 конной хоругви составляло 150 злотых, для 100 конной – 100 злотых и так далее. На практике ротмистрам, имеющим в хоругви 100 всадников, выдавали всего 75 злотых, а имеющим 200 всадников – 150 злотых. Только ротмистры, выделявшиеся своим боевым опытом или общественным положением, получали 200–400 злотых. В придворных хоругвях «кухонные деньги» составляли 225 злотых. Из этих денег выплачивалось жалованье поручикам.
Жалованье постоянных кварцяных войск было ниже, чем у наемных войск, краткосрочно набранных на одну кампанию, что объяснялось долгосрочностью службы и более низкими ценами на продовольствие в русских землях, чем в других частях страны. В результате междуцарствия, беспорядка и резких скачков цен в 1575–1576 годах были введены более высокие ставки жалованья, но уже в июле 1577 года Баторий перевел кварцяных на более низкое жалованье по сравнению с краткосрочным набором. Гусары отныне должны были получать квартальное жалованье в размере 12 злотых, но если кварцяный использовался на другом театре военных действий, его жалованье автоматически повышалось до 15 злотых. Лишь в 1587 году жалованье кварцяных гусар было повышено до 15 злотых, а временно набранных – до 18 злотых. В том же году жалованье кварцяного казака составляло 12 злотых, а временно набранного – 15 злотых. Жалование венгерских гусар в период правления Батория равнялось 20 злотым, ротмистры получали также «кухонные деньги» в размере 166 злотых. Немецкие аркебузиры получали самое высокое квартальное жалованье – 27 злотых, а их ротмистры – 150 злотых. В 1587 году жалованье аркебузира было приравнено к гусарскому[42]
