Поворот винта
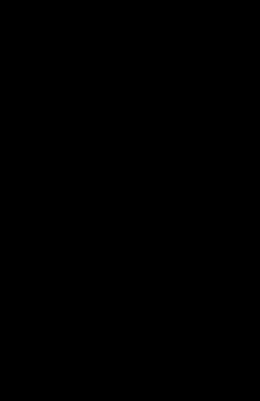
Henry James
THE TURN OF THE SCREW
© Н. С. Васильева (наследник), перевод, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®
Пролог
Мы, затаив дыхание, слушали страшный рассказ, и, когда он подошел к концу, кто-то воскликнул, что такими жуткими историями только и пугать гостей, собравшихся в сочельник у камина в старинном доме, и все дружно с этим согласились. И лишь немного спустя другой гость прервал воцарившееся молчание, заметив, что на его памяти это первый случай, когда столь зловещая тень явилась ребенку. Поясню, что в прозвучавшей истории речь шла о том, как в старинном доме, похожем на тот, где мы встречали Рождество, маленький мальчик увидел страшное привидение. В комнате вместе с ним спала мать, и малыш в ужасе разбудил ее, но едва она, прогнав его страхи и приласкав, уложила сына в постель, как и ее взору предстал призрак, напугавший бедное дитя. Именно последнее замечание об уникальности такого случая и побудило Дугласа – не тотчас, а несколько позже в тот же вечер – сделать признание, о любопытных последствиях которого я собираюсь поведать читателю. Тем временем кто-то вспомнил другую историю, правда, повествователь не блистал красноречием, и я заметил, что Дуглас его не слушает. Мне показалось, ему самому есть о чем рассказать, и я не ошибся в своих предположениях. Хотя ждать его рассказа пришлось два дня, но уже в тот первый вечер, прежде чем мы разошлись, Дуглас приподнял завесу над тем, что не давало ему покоя.
– Я совершенно согласен, что явление призрака – как бы вы ни объясняли этот феномен – совсем маленькому мальчику вносит в историю, рассказанную Гриффином, нечто особое. Насколько мне известно, это не первый случай, когда малое дитя оказывается вовлеченным в действие сверхъестественных сил. Если присутствие ребенка в подобных ситуациях само по себе нагнетает атмосферу страха, то что бы вы сказали, будь детей двое?
– Разумеется, мы сказали бы, что это вдвойне усиливает впечатление! – откликнулся кто-то из гостей. – И не преминули бы добавить, что жаждем услышать вашу историю.
Как сейчас вижу, Дуглас стоит перед камином спиной к огню, засунув руки в карманы, и смотрит сверху вниз на сидящего рядом собеседника.
– Я еще никому ее не рассказывал. Слишком она страшная.
Естественно, его тут же поспешили уверить, что чем страшнее, тем лучше. Наш друг обвел своих слушателей внимательным взглядом и с невозмутимостью искусного рассказчика, уверенного в успехе, продолжал:
– Мне не доводилось слышать ничего подобного. Эта история затмевает все известное мне в этом роде.
– Неужто настолько страшная? – спросил я.
Дуглас замялся, явно стараясь подобрать нужные слова и не находя их. Он провел рукой по глазам и поморщился чуть заметно.
– Жуткая, кровь стынет в жилах.
– О, как восхитительно! – воскликнула одна из дам.
Дуглас даже не взглянул на нее, его глаза были устремлены в мою сторону, но, казалось, он не видел меня, перед его внутренним взором вставали картины того, что сейчас вспомнилось ему.
– Это чудовищная история, омерзительная, полная ужаса и боли.
– Коли так, – сказал я, – усаживайтесь поудобнее и начинайте.
Дуглас поправил полено в камине и, погруженный в свои мысли, задумчиво глядел на пламя. Затем повернулся к нам.
– В данный момент это невозможно. Мне нужно послать в Лондон.
Раздались возгласы недовольства, посыпались упреки, но Дуглас все с тем же выражением сосредоточенности на лице объяснил:
– История, о которой идет речь, доверена бумаге, а рукопись заперта в ящике моего стола, откуда ее давным-давно не извлекали на свет. Я мог бы послать своему камердинеру ключ и записку с поручением. Он найдет пакет и пришлет его сюда.
Я почувствовал, что слова Дугласа обращены именно ко мне, – казалось, он ищет у меня поддержки, не в силах преодолеть сомнения. Он словно прорубался сквозь глыбу застарелого льда, копившегося не одну зиму, и, судя по всему, у него были причины хранить молчание. Услышав об отсрочке, гости приуныли, но меня-то как раз и подкупила эта его педантичность. Я предложил ему написать слуге без промедления, с первой же почтой, и как только доставят пакет, сразу же устроить чтение. Потом спросил, не с ним ли произошла эта история.
– Слава богу, нет! – На этот раз Дуглас не замедлил с ответом.
– Но это ваша рукопись? Вы ее написали?
– Нет, мне принадлежит лишь впечатление, оставленное в моей душе. Я храню его здесь. – Он приложил руку к сердцу. – И не забуду вовек.
– Значит, ваш манускрипт…
– Написан выцветшими от времени чернилами, изящным, тонким почерком. – Дуглас снова повернулся к камину. – Рукой женщины. Она скончалась двадцать лет назад, но перед смертью прислала мне свою исповедь.
К нашему разговору уже внимательно прислушивались гости, и, разумеется, не обошлось без шуток и игривых намеков. Но Дугласа не задели наши насмешки, он встретил их невозмутимо и даже не улыбнулся.
– Эта женщина, действительно редкого очарования, была старше меня на десять лет. Гувернантка у моей сестры, она жила в нашем доме, – спокойно объяснил он. – Я не встречал более прелестного создания, чем эта скромная учительница; она несомненно заслуживала лучшего жребия. Случай свел нас давно, а история эта произошла задолго до нашего знакомства. В ту пору я учился в колледже Святой Троицы. Окончив второй курс, я приехал домой на каникулы и увидел ее в нашем доме. Лето выдалось удивительно погожее, и почти все каникулы я провел в родных стенах. В часы досуга мы вместе бродили по парку и подолгу беседовали – признаюсь, я восхищался ее необычным умом и обаянием. Да, не усмехайтесь, что греха таить, эта женщина не оставила меня равнодушным, и по сей день мне отрадно думать, что и она отвечала мне искренней симпатией – иначе никогда бы не доверилась чужому человеку. Ведь до той поры ни одной живой душе не рассказывала она своей истории. И я утверждаю это не с ее слов, просто я знал – вот и все. Я был настолько в этом уверен, что мне не требовались никакие доказательства. Вы без труда поймете почему, когда услышите рассказ.
– Ее удерживал страх?
Дуглас пристально посмотрел на меня.
– Вы поймете, – повторил он. – Обязательно поймете.
Я ответил ему столь же пристальным взглядом.
– Пожалуй, догадываюсь. Она была влюблена.
Он рассмеялся впервые за весь вечер.
– Вы угадали. Да, влюблена. В сущности, с этого все и началось. Она почти сразу выдала себя – да это и невозможно было скрыть. Мне стало ясно все, и моя приятельница видела, что я проник в ее тайну. Но на словах мы ничего не сказали друг другу. Отчетливо помню тот долгий летний день: мы сидели на краю лужайки, в тени высоких буков, спасаясь от палящих солнечных лучей. Ничто в природе не располагало к тому, чтобы содрогнуться от ужаса, и все же!.. – Дуглас отошел от камина и опустился в кресло.
– Вы ожидаете пакет в четверг утром? – спросил я.
– Наверное, не раньше чем со второй почтой.
– Значит, после обеда…
– Все соберутся здесь? – Он вновь окинул нас взглядом и спросил едва ли не с надеждой: – Никто не уезжает?
– Я остаюсь! И я остаюсь! – воскликнули дамы, которые в ближайшие дни намеревались отбыть.
Между тем миссис Гриффин, сгорая от любопытства, спросила:
– В кого же она была влюблена?
– Мы узнаем это, выслушав рассказ, – вмешался я.
– Невозможно ждать так долго!
– В рассказе об этом ничего не говорится, – отозвался Дуглас, – во всяком случае впрямую.
– Очень жаль. Ведь иначе я ничего не пойму.
– В самом деле, почему бы сразу не внести ясность? – спросил кто-то из гостей.
Дуглас встал.
– Хорошо, завтра. А теперь я, пожалуй, пойду спать. Спокойной ночи.
Взяв свечу, он удалился, предоставив нам теряться в догадках. Сидя в большом сумрачном зале, мы слышали, как на лестнице стихали его шаги. Первой заговорила миссис Гриффин:
– Хотя мне не удосужились сказать, в кого была влюблена эта особа, я догадываюсь, в кого был влюблен Дуглас.
– Но гувернантка была десятью годами старше, – возразил ее муж.
– Raison de plus[1] – в таком возрасте! Но как трогательно с его стороны так долго хранить эту тайну.
– Сорок лет! – вставил Гриффин.
– И вдруг внезапное, как взрыв, признание.
– Ну, не совсем так. Это знаменательное событие произойдет только в четверг утром, – уточнил я, и все гости согласились, что пока нам остается лишь с нетерпением ждать. Поскольку прозвучала последняя история, хотя и незаконченная, скорее похожая на пролог к роману с продолжением, мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись, вооружившись свечами (по выражению кого-то из гостей).
Как мне стало известно на следующий день, письмо и ключ с первой же почтой были отправлены на лондонскую квартиру Дугласа. Но хотя об этом как-то само собой узнали все – а возможно, именно благодаря этому, – никто не допекал Дугласа расспросами, все притихли в ожидании вечерних сумерек, которые, как нам думалось, создадут настроение, располагающее к откровенности. И мы не обманулись в своих надеждах – Дуглас действительно не таился от нас, как накануне, он сам готов был рассказать все, что знал, и не замедлил объяснить причину перемены. Мы вновь собрались у камина, где в сочельник развлекали друг друга страшными историями. Оказалось, повесть, которую нам обещали прочитать, нуждалась в кратком предисловии. Позвольте, и без промедления, объяснить, дабы впредь к этому не возвращаться, что повествование, которое я представляю на суд читателя, – это точная копия, собственноручно сделанная мною, но спустя несколько лет, с рукописи, принадлежавшей Дугласу. Наш бедный друг, чувствуя приближение смерти, передал мне записи, которые в то памятное Рождество получил по почте на третий день и вечером начал читать своим притихшим слушателям. К тому времени дамы, заявившие, что останутся, по счастью, покинули нас, поскольку заранее назначили отъезд; однако они, как и все, были заинтригованы услышанным вступлением. Впрочем, после их отъезда круг слушателей, собравшихся у камина, стал только теснее и интимнее, и все мы, внимая рассказу, с каждым вечером все более содрогались от ужаса.
Итак, поскольку начало истории в рукописи было опущено, то, чтобы избежать недоуменных вопросов, Дуглас решил предварить чтение кратким вступлением. Началось же все с того, что будущая знакомая Дугласа, младшая дочь бедного сельского священника (в ту пору ей было двадцать лет), приехала в Лондон, чтобы получить первое в своей жизни место домашней учительницы. Ей предстояло встретиться с человеком, на объявление которого она откликнулась, получив в ответ приглашение явиться для знакомства. Девушка пришла в особняк на Харли-стрит, поразивший ее роскошью и внушительностью. Ее будущий хозяин оказался холостяком, блестящим молодым джентльменом, – такого денди смущенная и взволнованная дочь приходского священника из Хэмпшира могла разве что видеть в девичьих грезах или рисовать в воображении, читая старые романы. Нетрудно представить его наружность, – по счастью, люди такой породы еще не перевелись. Природа наделила его необычайной привлекательностью, держался он непринужденно и был изысканно вежлив, без намека на спесь или надменность, и располагал к себе веселостью и любезным обхождением. Немудрено, что учтивостью и светским блеском он сразу же покорил девушку, но более всего подкупило ее то, что при первом же свидании он представил дело так, будто, принимая его предложение, она оказывает ему большую услугу, а он почитает за счастье получить ее согласие; впоследствии именно это обстоятельство придавало ей мужество в выпавших на ее долю испытаниях. Бедная девушка видела перед собой богатого человека во всем блеске светского обаяния, роскоши, галантности – денди, который мог позволить себе любую причуду. В Лондоне он занимал большой дом, полный всевозможных диковин из заморских стран и охотничьих трофеев, но гувернантке предстояло, не теряя времени, отправиться в его загородную усадьбу, старинное родовое поместье в Эссексе.
Два года назад он стал опекуном своих осиротевших малолетних племянников, мальчика и девочки. Это были дети его младшего брата, офицера, скончавшегося в Индии. Свалившиеся ему на голову племянники оказались тяжким бременем для холостого мужчины, лишенного какого бы то ни было опыта в вопросах воспитания и к тому же не обладавшего должным терпением. Он добросовестно старался справиться с новыми незнакомыми обязанностями и, разумеется, совершил много ошибок, но, жалея всей душой бедных малюток, делал для них все, что позволяли его немалые возможности и средства. Поселил в своей загородной усадьбе, поскольку детям лучше жить на лоне природы, поручил их заботам верных людей и даже приставил к ним собственных слуг, дабы быть уверенным, что дети под надежным присмотром, а когда позволяли обстоятельства, навещал их сам и проверял, все ли в порядке. К великому сожалению, других родственников у детей не осталось, и обратиться за помощью ему было не к кому, а собственные дела поглощали почти все его время. Он предоставил в полное владение племянников усадьбу Блай – жизнь там спокойная, да и для здоровья полезнее свежий воздух. Управляла тамошним хозяйством замечательная женщина, миссис Гроуз, – правда, власть ее ограничивалась кухней и комнатой для прислуги. Милорд был уверен, что новой гувернантке она непременно понравится. Когда-то миссис Гроуз была горничной у его матери, а теперь служила экономкой в родовой усадьбе и временно занималась воспитанием девочки, в которой, будучи сама бездетной, души не чаяла. В усадьбе много разной прислуги, но, разумеется, особа, которая согласится взять на себя обязанности воспитательницы, будет старшей в доме. Ей придется заниматься и с мальчиком. Пока он в школе – конечно, рановато было его туда отправлять, да ничего другого не оставалось, – но скоро каникулы, и на днях ждут его возвращения. Одно время детей обучала другая гувернантка, молодая особа, но, к несчастью, они лишились ее. В высшей степени добропорядочная девица, она заботливо опекала сирот и умерла так некстати – из-за этого и пришлось отправить маленького Майлса в школу. После смерти гувернантки миссис Гроуз в меру своих способностей старалась наставлять Флору, прививать ей хорошие манеры и тому подобное. Кроме экономки, в усадьбе живут кухарка, горничная, молочница, старый конюх со старым пони, старый садовник – в общем, все как в хорошем доме. На этом месте кто-то прервал Дугласа вопросом:
– Отчего же умерла прежняя гувернантка? Не от избытка ли добропорядочности?
Однако Дуглас был непреклонен.
– Всему свое время. Я не хочу забегать вперед.
– Простите, но вы уже возбудили наше любопытство.
– На месте ее преемницы, – заметил я, – я бы поинтересовался, не чреваты ли будущие обязанности…
– Угрозой для жизни? – договорил за меня Дуглас. – Естественно, у девушки возник такой вопрос, и она получила на него ответ. Какой именно, вы услышите завтра. Между тем перспектива вырисовывалась довольно безрадостная. Девушка была молода, неопытна, впечатлительна – она поняла, что возлагает на себя серьезную ответственность и что подобное обязательство обрекает ее на довольно замкнутую жизнь, по сути дела, почти на одиночество. Сомнения охватили ее, она попросила дать ей дня два, чтобы поразмыслить обо всем и посоветоваться. Но обещанное жалованье представлялось бедняжке по-королевски щедрым, и, когда они встретились в следующий раз, она, решив попытать счастья, ответила согласием.
Дуглас замолчал, а я, к удовольствию собравшихся, не удержался от замечания:
– Разумеется, кончилось тем, что блестящий молодой джентльмен соблазнил девицу. Она не устояла перед его чарами.
Дуглас поднялся и снова, как в первый вечер, подошел к камину, поправил полено и несколько мгновений стоял спиной к нам.
– Они виделись всего лишь дважды.
– Тем более поразительна сила ее чувства.
При этих словах Дуглас быстро обернулся ко мне.
– Действительно, здесь есть какая-то загадка. Ведь к нему приходили и другие девушки, но на них его чары не подействовали, – продолжал Дуглас. – Милорд не скрыл от моей знакомой, что столкнулся с неожиданными затруднениями – несколько претенденток отказались от его предложения. Их отпугивали странные, необычные условия, но более всего смущало главное требование.
– Какое именно?
– Никогда, ни под каким предлогом не беспокоить хозяина – ни просьбами, ни жалобами, ни письмами. Гувернантке предстояло одной справляться со всем, что бы ни случилось. Стряпчий будет высылать ей деньги, а все заботы она должна взять на себя, избавив от них милорда. И она дала ему такое обещание. Когда он понял, что тягостное бремя свалилось с его плеч, то в порыве благодарности взял девушку за руку и горячо пожал ее. И она почувствовала, что вознаграждена за свою жертву.
– Этим и ограничилось ее вознаграждение? – спросила одна из дам.
– Они больше никогда не виделись.
– О! – произнесла дама, и так как наш друг покинул нас столь же внезапно, как и накануне, то на этом глубокомысленном замечании оборвалась наша увлекательная беседа.
Возобновилась она лишь на следующий вечер, когда, расположившись в самом удобном кресле у камина, Дуглас открыл старинный тоненький альбом с золотым обрезом, в выцветшем красном переплете. Чтение продолжалось не один вечер, но в первый раз все та же дама спросила:
– Как называется ваша повесть?
– У нее нет названия.
– Я знаю, как она называется! – воскликнул я.
Но Дуглас, оставив мои слова без внимания, начал читать, явно стараясь, чтобы манера чтения и интонации соответствовали изящному почерку автора.
I
Начало событий осталось в моей памяти как лихорадочная смена противоречивых чувств – я то парила на крыльях от счастья, то в отчаянии падала духом. После того как в Лондоне я благородно согласилась на предложенные условия, мне пришлось пережить два поистине ужасных дня – вновь нахлынули сомнения, я горько корила себя за опрометчивость. Охваченная душевным смятением, пустилась я в путь и долго тряслась в почтовом дилижансе до станции, где меня должен был встретить наемный экипаж. Действительно, прибыв на станцию к концу июньского дня, я увидела поджидавшую меня удобную коляску. Экипаж катился по дороге, и при взгляде на проплывавший мимо пейзаж мне все сильнее казалось, будто сама природа в этот чудесный предвечерний час ласково приветствует меня. Тревожное чувство, владевшее мною, понемногу рассеялось, а когда коляска свернула на главную аллею, я, вопреки самым мрачным предчувствиям, и вовсе приободрилась. Настроившись на худшее, я приготовилась к тягостному, гнетущему зрелищу, и потому открывшаяся взору картина тем более приятно поразила меня. Помню, с каким радостным изумлением смотрела я на ухоженный фасад большого дома, распахнутые окна с красивыми шторами, из-за которых выглядывали две горничные. Помню лужайку перед домом, яркие краски цветов, шуршание колес по гравию, купы деревьев, над которыми в золотистой лазури кружились с гомоном грачи. При виде этого великолепия мне невольно вспомнилось наше убогое жилище. Едва экипаж остановился, как в дверях показалась приветливая женщина, которая вела за руку маленькую девочку. Женщина склонилась передо мной в таком глубоком поклоне, словно встречала хозяйку или знатную гостью. После визита на Харли-стрит я совсем иной воображала себе усадьбу и теперь, вспомнив свои недавние опасения, не могла не признать, что тревожилась напрасно: мой хозяин несомненно благородный джентльмен, и будущность представилась мне в гораздо более радужных красках.
Вплоть до следующего дня я пребывала в приподнятом настроении, не замечая, как летело время, – настолько заворожила меня моя младшая воспитанница. Девочка, которая вышла из дома вместе с миссис Гроуз, с первого взгляда показалась мне прелестным созданием, и я от души порадовалась счастью иметь такую ученицу. В жизни не видела я более красивого ребенка и с удивлением подумала, почему ее дядя ничего не рассказал мне о ней. Ночью я почти не сомкнула глаз – слишком велико было возбуждение минувшего дня: помню, я сама не понимала, почему не могу справиться с волнением, – оно не покидало меня, как и чувство изумления от радушного приема. Просторная, с красивым убранством комната, одна из лучших в доме, внушительных размеров парадная кровать – по крайней мере, такой она мне показалась, – высокие зеркала, в которых я впервые увидела себя в полный рост, – все поразило меня несказанно, но более всего удивительная прелесть моей маленькой подопечной. Впрочем, были и другие неясные ощущения, оставившие смутный осадок в душе. К счастью, я сразу же поняла, что с миссис Гроуз мы поладим, хотя, признаться, в дороге с беспокойством ждала встречи с нею. В первые минуты знакомства одно лишь могло бы насторожить меня – моему приезду были необычайно рады. Уже через полчаса я заметила, как радовалась мне миссис Гроуз, эта полная, спокойная, опрятная, пышущая здоровьем женщина с простым лицом, и как она старалась не показать своих чувств. Я с легким недоумением подумала, для чего ей понадобилось это скрывать, и прежние подозрения, тревожные предчувствия вновь шевельнулись во мне.
Нет, успокаивала я себя, лучезарная красота малютки не может предвещать ничего дурного – ее ангельски прекрасный образ, отгоняя сон, стоял у меня перед глазами. Я не раз поднималась с постели и бродила по комнате, пытаясь осмыслить увиденное и представить, что меня ожидает. Стоя у распахнутого окна, за которым исподволь занимался ранний летний рассвет, я старалась разглядеть ту часть дома, какая была видна из моей комнаты, внимала первому робкому щебету птиц, разгонявших ночной сумрак, и прислушивалась, не повторятся ли странные звуки, раз или два долетевшие до меня. То не были голоса природы, и раздались они – так мне почудилось – не снаружи, а внутри дома. Сначала я как будто услышала далекий детский крик, а потом невольно вздрогнула, когда явственно различила чьи-то легкие шаги в коридоре за дверью моей комнаты. Пустое, решила я, скорей всего, обман воображения, и, поначалу не придав значения этим смутным ощущениям, вспомнила о них позднее в свете, а вернее сказать, во мраке последующих событий. Я не сомневалась, что отрадная обязанность опекать, учить, «лепить» такого ребенка, как маленькая Флора, могла наполнить жизнь высоким смыслом. Мы договорились с миссис Гроуз, что Флора будет спать у меня, – ее белую кроватку уже перенесли в мою комнату. Отныне на меня ложились все заботы о ней, и только в эту ночь она последний раз оставалась с миссис Гроуз. Мы рассудили, что так будет лучше, – ведь девочка меня еще совсем не знает и, естественно, немного дичится. Но скоро, как только пройдет ее робость, она полюбит меня. Самое удивительное, малышка откровенно признавалась, что стесняется своей новой воспитательницы, и, нисколько не конфузясь, с прелестной серьезностью, заставлявшей вспомнить божественных младенцев на полотнах Рафаэля, выслушивала наши ласковые укоры и просьбы быть умницей. А тем временем я сама проникалась горячей симпатией к миссис Гроуз, видя, какое удовольствие доставляло ей мое восхищение девочкой, ее красотой. Мы сидели за ужином, на столе горели четыре высокие свечи, и из-за них глядело личико моей ученицы, восседавшей в детском фартучке на высоком стуле за чашкой молока с хлебом. Само собой разумеется, на определенные темы мы могли говорить лишь намеками, весело переглядываясь.
– Мальчик похож на сестру? Такой же необыкновенный?
Мы уже условились не расхваливать ребенка в его присутствии.
– О мисс, еще какой необыкновенный! Если вам пришлась по душе наша крошка… – Миссис Гроуз стояла с тарелкой в руках, устремив ласковый взгляд на девочку, а та переводила с нее на меня свой ясный небесный взор, в котором светилось детское простодушие.
– Что тогда?
– Значит, от юного джентльмена вы будете просто без ума!
– Похоже, для того меня сюда и пригласили. Боюсь, – продолжала я, повинуясь безотчетному порыву, – уж слишком легко я теряю голову. Именно это и случилось в Лондоне!
Как сейчас вижу перед собой широкое лицо миссис Гроуз, когда до нее дошел смысл моих слов.
– На Харли-стрит?
– Ну да.
– Ох, мисс, вы не первая и, надо думать, не последняя.
– Не претендую на исключительность, – принужденно рассмеялась я. – Насколько мне известно, мой второй подопечный возвращается завтра.
– Нет, мы ждем его в пятницу. Как и вы, он приедет дилижансом вместе с провожатым, а встретит его та же коляска, что и вас.
Я тут же сказала, что, наверное, мне стоит самой отправиться на станцию вместе с Флорой. Мы вдвоем встретим ее брата – ему это будет приятно, предположила я, и мы скорее подружимся. Миссис Гроуз с неожиданной горячностью откликнулась на мое предложение, и мне показалось это добрым знаком – мы как бы заключали договор, что во всем будем заодно, – и слава богу, моя союзница до конца осталась мне верна. Да, сомнений быть не могло, теперь, когда нас двое, она явно вздохнула с облегчением.
Состояние, в котором я находилась на следующий день, вряд ли справедливо было бы приписать только усталости после пережитых накануне волнений. Пожалуй, меня несколько угнетала мысль о том, сколь огромную ответственность приняла я на себя. Мои новые обязанности оказались на поверку весьма обширны и серьезны, и я боялась, что не готова к ним, хотя, признаюсь, чувствовала не только холодок страха, но и, что скрывать, тайную гордость. Разумеется, в суете первого знакомства с занятиями пришлось повременить. Поразмыслив, я решила, что сначала должна, употребив все свои способности, ненавязчиво приучить к себе девочку, завоевать ее доверие. Мы почти целый день не разлучались. К полному восторгу Флоры, я попросила ее показать мне усадьбу. Девочка вела меня по дому из комнаты в комнату, не пропуская ни одного укромного уголка и ни на минуту не прерывая веселой детской болтовни. Через каких-нибудь полчаса мы уже стали друзьями. Меня поразило, как уверенно и смело эта крошка шла по пустынным комнатам и темным коридорам, покосившимся лестницам, перед которыми я медлила в нерешительности, и даже на старой, с бойницами башне, где у меня закружилась голова, Флора без умолку щебетала, и ее чистый голосок звенел колокольчиком и звал меня за собой. Я не видела усадьбу с того самого дня, как покинула Блай, и, вероятно, теперь, когда прошло столько лет и я многое повидала на своем веку, этот дом не показался бы мне столь огромным. Но когда мой маленький поводырь в голубом платьице и в сиянии золотых кудрей, пританцовывая, исчезал за очередным поворотом и только топот детских ножек разносился по коридорам, мне чудилось, будто я в сказочном замке, во владениях доброй феи, знакомых по сказкам и волшебным историям. Уж не грежу ли я над страницами книги, не вижу ли сон наяву? Нет, это был всего лишь большой, старый, невзрачный, но вполне удобный дом. В нем еще угадывались черты другого, более старинного здания – частью перестроенного и наполовину нежилого. Внезапно мне пришло в голову, что все мы здесь как горстка пассажиров одинокого корабля, затерянного в океане. И странное дело – за штурвалом стояла я!
II
Мне представился случай убедиться в этом два дня спустя, когда я вместе с Флорой отправилась встречать юного джентльмена, как величала его миссис Гроуз. Однако накануне вечером произошло событие, повергшее меня в глубокую растерянность. Как я уже говорила, первый день в усадьбе заставил позабыть о всех тревогах, но завершился он далеко не безоблачно, вновь пробудив дурные предчувствия. С вечерней почтой – привезли ее позже обычного – я получила конверт. В нем оказалась записка от моего хозяина и адресованное ему, но не распечатанное письмо. «Судя по всему, – говорилось в записке, – это письмо от директора школы, а он невыносимо скучный тип. Пожалуйста, прочтите, что ему понадобилось, и постарайтесь все уладить. Но помните, что бы ни случилось, обходитесь без меня. Я уезжаю!» Мне стоило невероятных усилий собраться с духом, чтобы вскрыть конверт. Весь вечер я носила его с собой, потом взяла к себе в комнату и только перед самым сном сломала сургуч и прочитала письмо. Лучше было бы отложить до утра, тогда мне не пришлось бы провести еще одну бессонную ночь. На следующий день я не находила себе места, совета ждать было не от кого, и в конце концов, измученная сомнениями, я решила поделиться хотя бы с миссис Гроуз.
– Как прикажете это понимать? Мальчика отсылают из школы.
Странная тень пробежала по лицу миссис Гроуз, но она тут же спохватилась и спросила как ни в чем не бывало:
– Разве не всех?..
– Распускают по домам? Конечно, но только на каникулы. Что касается Майлса, то обратно он может не возвращаться.
Под моим испытующим взглядом она заметно покраснела.
– Его не примут назад?
– Ни в коем случае.
Миссис Гроуз подняла на меня свои добрые глаза, и я увидела, что они полны слез.
– Что он натворил?
Я помолчала в нерешительности и, рассудив, что лучше всего, если она сама прочтет письмо, протянула ей сложенный листок. Но, к моему великому изумлению, миссис Гроуз спрятала руки за спину, грустно покачав головой.
– Нет, мисс, это не про мою честь.
Моя советчица не умела читать! Я смутилась и, стараясь загладить неловкость, развернула было письмо, чтобы прочитать его вслух. Но, передумав, сложила листок и спрятала его в карман.
– Он действительно скверный мальчик?
В ее глазах все еще стояли слезы.
– Там так написано?
– Они ничего не объясняют. Просто с сожалением извещают, что дальнейшее пребывание Майлса в школе невозможно. Это означает лишь одно.
Миссис Гроуз молчала, взволнованно ожидая моих объяснений, – спросить, что же означает подобное заявление, она не осмеливалась. Я попыталась растолковать ей это как можно проще.
– Он подает дурной пример остальным детям.
Услышав это, миссис Гроуз всплеснула руками и вдруг в простоте душевной возмутилась:
– Это наш-то Майлс?
В ее голосе прозвучала такая горячая вера в невинность мальчика, что я, хотя еще в глаза его не видела, чуть не подпрыгнула от нелепости столь несправедливого обвинения. И совершенно неожиданно для самой себя проговорила ироническим тоном:
– Да, бедным невинным малюткам, своим одноклассникам!
– Это же надо, – негодовала миссис Гроуз, – так наговаривать на ребенка! Ведь мальчику всего-то десять годков.
– Да-да, возмутительно.
Она благодарно отозвалась на мою поддержку.
– Сначала посмотрите на него, мисс, а уж потом думайте что хотите.
Мне действительно захотелось поскорее увидеть Майлса, и за несколько последующих часов мое любопытство перешло почти в лихорадочное нетерпение. По всей видимости, миссис Гроуз заметила, какое впечатление произвели на меня ее слова, и еще больше воодушевилась.
– Если бы вам про нашу малютку сказали такое, вы бы поверили? Да вот же она, храни ее Господь. Посмотрите-ка на эту проказницу!
Обернувшись, я увидела в дверях комнаты Флору, которую каких-нибудь десять минут назад оставила в классной, вручив чистый листок бумаги, карандаш и прописи с прелестными круглыми «о». Хотя малышка, бросив надоевшие занятия, и проявила непослушание, она, казалось, всем своим детским невинным видом говорила, что одна лишь привязанность к моей персоне виной тому, что она не смогла пробыть без меня и нескольких минут. Чтобы признать неотразимость аргументов миссис Гроуз, мне не требовалось никаких иных доказательств, и, заключив свою ученицу в объятия, я в порыве раскаяния покрыла ее лицо поцелуями.
Тем не менее весь оставшийся день я искала случая подробнее выспросить мою помощницу, однако к вечеру мне стало казаться, что она меня избегает. Помню, мне удалось задержать ее только на лестнице, где мы случайно встретились с глазу на глаз.
– Насколько можно понять из ваших слов, Майлс никогда не шалит.
Миссис Гроуз вскинула голову. Похоже, она уже обдумала, как ей вести себя, если снова зайдет об этом речь, и держалась соответствующим образом.
– Почему никогда? Я такого не говорила!
Ответ меня встревожил.
– Значит, бывало…
– Да, мисс, и слава богу!
Подумав, я поняла ее.
– Вы хотите сказать, мальчик, который ни разу…
– Какой же он тогда мальчик?
Я поймала ее на слове.
– Вам больше нравятся непослушные мальчики? – И, не дожидаясь ответа, я воскликнула: – И мне тоже! – Затем взволнованно продолжала: – Но не до такой же степени, когда они сеют вокруг себя заразу…
– Сеют заразу? – Мои мудреные слова привели ее в замешательство.
Я объяснила:
– Портят других.
Миссис Гроуз непонимающим взглядом уставилась на меня, а потом с каким-то странным смешком проговорила:
– Боитесь, как бы он вас не испортил?
В ее голосе звучала такая откровенная, но не злая ирония, что я невольно засмеялась, правда, собственный смех показался мне немного глуповатым, и, чтобы не вызвать новых насмешек, я предпочла прекратить беседу.
Однако на следующий день, перед тем как ехать на станцию, я попыталась подступиться с другого конца.
– Что представляла собой особа, которая жила здесь до меня?
– Прежняя гувернантка? Молоденькая, красивая вроде вас, мисс.
– Надеюсь, молодость и красота не повредили ей, – помнится, заметила я. – Похоже, ему нравятся молоденькие и хорошенькие гувернантки.
– Да уж, нравились, – подтвердила миссис Гроуз. – Только такие ему и были надобны! – Но она тут же осеклась, добавив: – Это я про хозяина.
Я удивилась:
– А про кого же еще?
Она смотрела мне прямо в глаза, но слегка покраснела.
– Да про него.
– Про хозяина?
– Про кого же еще?
Разумеется, ни о ком другом не могла идти речь, и потому я не придала значения ее странной оговорке и смущению, когда ей показалось, будто она сболтнула лишнее, а просто задала вопрос, который не давал мне покоя:
– Прежняя гувернантка не замечала за мальчиком ничего?..
– Дурного? Мне она не говорила.
Я усомнилась в правдивости ее слов, но промолчала.
– А она была заботливой, добросовестной?
Миссис Гроуз явно старалась не покривить душой.
– Ну, в общем да.
– Но не во всем?
Она снова замялась.
– Знаете, мисс, ее уже нет в живых, а мне не хотелось бы ворошить прошлое.
– Понимаю вас, – поспешно откликнулась я. Но, подумав, решила, что это не мешает мне продолжить расспросы. – Бедняжка умерла в этом доме?
– Нет, она уехала.
Не знаю почему, но краткий ответ миссис Гроуз показался мне двусмысленным.
– Как, уехала умирать?
Миссис Гроуз смотрела в окно, но я вправе была знать, что ждет молоденьких девушек, которых нанимают на работу в усадьбу Блай!
– Вы хотите сказать, она заболела и уехала домой?
– Нет, она не болела, когда жила здесь, по крайней мере, я ничего такого не замечала. В конце года уехала домой, говорила, что ей надо немного отдохнуть, и правда, давно пора было, столько времени здесь проработала. У нас тогда служила одна молодая женщина – сначала в няньках ходила, а потом так и осталась здесь, – славная, смышленая женщина, вот ее на время и приставили к детям. Но гувернантки мы обратно не дождались. Думали, вот-вот вернется, и вдруг хозяин объявил мне, что она умерла.
Выслушав миссис Гроуз, я задумалась.
– Но от чего?
– Этого он мне не сказал! Простите, мисс, – взмолилась миссис Гроуз, – у меня дел по горло.
III
К счастью, внезапный уход миссис Гроуз, вопреки моим вполне понятным опасениям, не был вызван обидой, которая могла бы повредить нашей все более крепнувшей приязни. После того как я привезла домой маленького Майлса, мы особенно сблизились, чему немало способствовало чувство изумленной растерянности, которое я испытывала по возвращении и которое не собиралась скрывать: отныне я без колебаний готова была признать, что только бессердечное чудовище могло выгнать такого ребенка из школы. Немного опоздав к прибытию дилижанса, я увидела Майлса перед входом в гостиницу – он задумчиво смотрел по сторонам. С первого же мгновения мальчик предстал мне в поразительной слитности своего внешнего облика и души, в том же лучистом ореоле свежести и благодатной чистоты, что и его сестра в первую минуту моего с ней знакомства. Майлс был на диво красив, и невозможно было не согласиться с миссис Гроуз: при виде его вас захлестывало одно-единственное чувство – горячая нежность. Он сразу покорил мое сердце какой-то неземной безмятежностью, разлитой во всех его чертах, – никогда больше не доводилось мне видеть такие просветленные детские лица. А как описать его взгляд, взгляд ребенка, которому одна лишь любовь ведома в этом мире? Немыслимо было даже представить клеймо зла на этом ясном, невинном челе. Когда мы подъехали к усадьбе, я совершенно терялась в догадках, а минутами просто кипела от негодования, вспоминая содержание возмутительного письма, запертого в ящике моего стола. Едва мне удалось остаться с миссис Гроуз наедине, я напрямик заявила ей, что все это полнейший вздор. Она с полуслова поняла меня:
– Значит, по-вашему, его зря винят…
– Совершенно зря! Дорогая моя, вы только посмотрите на этого ребенка.
Миссис Гроуз лишь улыбнулась в ответ – она и без меня знала, до чего он хорош.
– Ах, мисс, я сама никак им не налюбуюсь. А что вы думаете написать? – тут же спросила она.
– В ответ на письмо? – Решение пришло мгновенно. – Ничего не буду писать.
– А его дяде?
– Ничего, – не сдавалась я.
– А мальчику скажете?
– Нет, не скажу. – Я была в восторге от самой себя.
Миссис Гроуз вытерла фартуком губы.
– Тогда я с вами. И вместе мы справимся.
– Да, справимся! – горячо откликнулась я и в знак нашего договора протянула ей руку.
Она легко сжала ее, а другой рукой вновь вытерла губы передником.
– Вы не рассердитесь, мисс, если я позволю себе…
– Поцеловать меня? Нет, не рассержусь! – Я обняла добрую женщину и, когда мы расцеловались как сестры, окончательно убедилась, что приняла верное решение, и еще пуще вознегодовала в душе на обидчиков Майлса.
Между тем время шло: оно было столь насыщенным, что сегодня, когда я пытаюсь связно изложить на бумаге ход событий, мне требуется немалое искусство. Возвращаясь памятью к тем дням, не устаю удивляться, в каких необычайных обстоятельствах я оказалась по собственной воле. Хотя вместе с моей союзницей мы решили действовать на свой страх и риск, я в каком-то самоупоении не отдавала себе отчета, сколь непредсказуемы и тяжелы будут последствия такого шага. Подхваченная волной горячей нежности и жалости, я не задумывалась о том, куда она увлекала меня. По неопытности и легкомыслию – тут и гордыня сыграла свою роль – я возомнила, что смогу учить уму-разуму мальчика, которому совсем скоро предстояло узнать жизнь света.
Сейчас мне даже трудно припомнить, что именно я решила предпринять к тому времени, когда кончатся каникулы, и как предполагала устроить его дальнейшую учебу. Само собой подразумевалось, что этим изумительным летом он, конечно же, будет заниматься со мной, но, по правде говоря, в первое время скорее мне пришлось брать уроки у своих воспитанников. Я понемногу постигала науку, прежде недоступную мне в тесном душном мирке моей прошлой жизни: училась проводить время в веселых забавах и развлекать других, не думая о завтрашнем дне. По сути дела, душа моя впервые распахнулась для новой жизни, полной простора, воздуха и воли, и жадно вбирала в себя музыку лета с птичьим щебетом и шорохом листвы, с таинственной игрой природы. Это уже само по себе было мне наградой – и наградой сладостной. Но в ней таилась ловушка – неприметная, но опасная – для моего воображения, впечатлительности и, признаюсь откровенно, тщеславия, для самых чувствительных струн моей натуры. Пожалуй, точнее всего было бы сказать, что я забыла о всякой осторожности.
Дети не доставляли мне почти никаких хлопот – они были само послушание. Порой я пыталась угадать – но и в такие мгновения мои мысли блуждали точно в тумане, – что уготовило им жестокое будущее (ибо будущее всегда жестоко!), какие раны нанесет оно им. Пока они излучали здоровье и счастье, а я – словно моим заботам поручены два маленьких гранда, два принца крови, которые по праву рождения защищены от любых превратностей и каждый шаг которых предопределен, – я, пытаясь вообразить их грядущую жизнь, неизменно рисовала себе романтические картины поистине королевских, необозримых садов и рощ. Вполне возможно, вихрь, ворвавшийся вскоре в нашу жизнь, придает моим воспоминаниям о той первоначальной безмятежной поре неизъяснимое очарование покоя – точнее говоря, затишья, в котором таилось зло, накапливая силы и выжидая своего часа. Как хищный зверь, оно настигло нас внезапно.
Дни стояли по-летнему долгие, и был в них один неповторимый час, который принадлежал только мне. Перед вечером, когда для моих подопечных наступало время чая и отдыха, мне удавалось ненадолго уединиться. Как ни любила я своих новых друзей, этот час был мне особенно дорог чарующей прелестью угасавшего дня. Казалось, будто само время замедляло ход, чтобы продлить последние мгновения догоравшего света, и птицы, укрывшись в кронах старых деревьев, посылали прощальный привет меркнувшим небесам. Тогда я отправлялась бродить по окрестностям и, наслаждаясь красотой и величием этих мест, чувствовала себя едва ли не владелицей поместья, что забавляло и даже приятно волновало меня. Какая отрада безмятежного покоя нисходила на мою душу в эти минуты! Признаюсь, чаще всего я с тайным удовольствием предавалась мыслям о том, что мое смирение, рассудительность и здравый смысл – залог спокойствия человека, на мольбу которого я откликнулась, – о, если бы он вспоминал обо мне! Я оправдала его надежды, не испугалась трудностей, о которых он совершенно искренне поведал мне, и это радовало мое сердце сильнее, чем можно было бы ожидать. Одним словом, я казалась себе незаурядной молодой особой и льстила себя надеждой, что мои высокие достоинства непременно будут оценены. Что ж, вскоре мне действительно потребовалось проявить незаурядные способности перед лицом необычайных, сверхъестественных событий, уже надвигавшихся на нас.
Все началось внезапно в один прекрасный день, как раз в мой излюбленный час тишины и покоя. Детей увели, и я отправилась на прогулку. Теперь я могу откровенно сознаться, что во время своих блужданий нередко думала: вот было бы чудесно, просто как в романе, нежданно-негаданно встретить его. Он выйдет из-за поворота, остановится прямо передо мной на дорожке парка и ободряюще улыбнется. О многом я не мечтала – лишь бы он знал, только и всего. Мне просто хотелось удостовериться, что ему все известно, а для этого нужно было увидеть его прекрасное лицо, освещенное доброй улыбкой. И я увидела его, когда уже в сумерках вышла из рощи и остановилась как вкопанная, глядя в сторону дома. Внезапность, с которой мечты мои обрели плоть и кровь, ошеломила меня сильнее, чем любая неожиданная встреча, даже с призраком. Передо мной стоял он! За лужайкой, на площадке высокой башни, куда в то первое незабываемое утро привела меня Флора.
Это была одна из двух башен – громоздких сооружений с бойницами, – их почему-то называли старой и новой, хотя особой разницы, на мой взгляд, между ними не замечалось. Они с торцов примыкали к дому и являли собой образец архитектурной несообразности, но это впечатление смягчалось тем, что башни не слишком сильно выдавались и не отличались чрезмерной помпезностью и высотой. Судя по псевдоготическому стилю, их возвели, скорей всего, во времена романтического возрождения, которые уже довольно давно отошли в прошлое. Правду сказать, башни мне очень нравились и нередко вдохновляли на возвышенные фантазии, – в самом деле, у кого из нас строгие силуэты старинных замков, загадочно высовывающиеся в сгущающихся сумерках, не затронут в душе поэтических струн? Однако не на подобном сооружении уместно было появиться человеку, образ которого я столь часто вызывала в своем воображении.
Помню, потрясение, которое я испытала, увидев эту фигуру в ранних сумерках, почти мгновенно сменилось изумлением, когда я осознала свою ошибку: человек на башне был совсем не тот, за кого я его приняла. По сей день не понимаю, как можно было так обознаться. Неожиданное появление незнакомца в безлюдном месте – достаточно серьезный повод, чтобы испугать молодую женщину, почти не покидавшую прежде родительского крова. А я уже через несколько секунд не сомневалась, что передо мной совершенно незнакомый человек, и уж тем более не тот, о ком я грезила. Он не встречался мне ни на Харли-стрит, ни где бы то ни было еще. Но вот что странно: с его появлением все вокруг непостижимым образом опустело. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, пытаясь со всей достоверностью передать свои переживания, вызванные случившимся, мной вновь овладевает то же самое ощущение. На меня вдруг повеяло дыханием смерти. По сей день помню гробовую тишину, мгновенно поглотившую все звуки. В золотистом небе замолкли грачи, и природа, до той минуты ласково говорливая, замерла в онемении. Но вместе с тем все оставалось по-прежнему – не будь этой окаменелой неподвижности, которую я ощутила с такой пронзительной остротой. С небес все так же лился золотой свет, воздух оставался таким же прозрачным, а человек между зубцами башни был четко виден в каменном проеме, точно портрет в раме. Это сравнение пришло мне на ум безотносительно к тому, кем он мог оказаться. Разделенные довольно большим расстоянием, мы не отрываясь смотрели друг на друга, и я лихорадочно спрашивала себя, кто же он такой, и, цепенея от изумления, не находила ответа.
Как долго мы изучали друг друга? Понять это важно, чтобы яснее представить необычность происходящего. Если говорить обо мне, то самое удивительное, что за эти мгновения я успела перебрать в уме десятки возможных ситуаций, когда могла хотя бы мельком видеть незнакомца в доме, – успела подумать с досадой, что мое положение обязывает знать всех, кто бывает в усадьбе, и не допустить появления чужих. Между тем незваный гость на башне – помнится, он был без шляпы, и я расценила это как странную вольность – разглядывал меня в прозрачных сумерках столь же пристально и не менее озадаченно. Нас разделяла весьма широкая лужайка, так что задавать вопросы было бы бесполезно. И все же в нашем противостоянии наступил момент, когда молчание сделалось нестерпимым, – будь мы поближе, кто-то из нас двоих непременно нарушил бы его. Человек стоял у крайней бойницы, и меня удивило, до чего настороженно он замер, опираясь руками на каменный выступ. Я видела его столь же отчетливо, как буквы, которые мое перо выводит на бумаге. Немного погодя, точнее, через минуту незнакомец, словно желая продлить представление, медленно, не сводя с меня тяжелого взгляда, двинулся к противоположному краю площадки. Я и сейчас вижу его руку, вижу, как скользит она от одной амбразуры к другой. Дойдя до следующего угла, человек постоял еще немного, а потом медленно отвернулся, но и тогда я не переставала ощущать на себе его взгляд. Незнакомец повернулся спиной – и больше я ничего не видела.
IV
Дело не в том, что я кинулась прочь, не дожидаясь, что произойдет дальше, – напротив, потрясенная до глубины души, я не могла двинуться с места. Неужели в усадьбе кто-то скрывается, неужели в ней есть свои «удольфские тайны»? А может быть, выжившего из ума родственника держат под замком в потайной комнате? Не знаю, долго ли я терзалась вопросами, долго ли, снедаемая любопытством и вместе с тем мучимая страхом, стояла на том месте, где посетило меня видение. Помню лишь, что, когда вернулась домой, уже стемнело. Вероятно, в каком-то беспамятстве я металась по окрестностям, не отдавая себе отчета, куда иду, и кружила так, наверное, мили три. А между тем близились события, которым предстояло ввергнуть меня в такую бездну отчаяния, по сравнению с которым мое смятение, вызванное первым предвестием беды, покажется всего-навсего естественным человеческим волнением. Не менее странным, чем само происшествие, было то, что случилось со мной по возвращении, когда я встретилась в холле с миссис Гроуз. Эта картина и по сей день отчетливо стоит у меня перед глазами: просторный холл, отделанный большими белыми панелями, яркий свет лампы, портреты на стенах, красный ковер на полу и удивленный взгляд моего доброго друга – этот взгляд сразу же сказал мне, с какой тревогой она ждала меня, не понимая, куда я запропастилась. Я уже готова была рассказать ей о своем загадочном приключении, но по искренней радости, с какой она кинулась ко мне, вдруг поняла, что не услышу от нее никаких разъяснений, способных пролить свет на случившееся. Это кажется невероятным, но при взгляде на милое лицо миссис Гроуз слова замерли у меня на губах, и странное дело, зловещий смысл происшествия в полной мере дошел до меня в тот момент, когда я решила промолчать, пощадив своего друга. Это так и осталось загадкой, почему я по-настоящему испугалась только тогда, когда почувствовала, будто что-то сковало мне язык. Пока я стояла в уютном холле под недоуменно вопрошающим взглядом миссис Гроуз, во мне произошел полный переворот. Я принялась сбивчиво лепетать в свое оправдание, что хотела подольше побродить в такой чудный вечер, и, посетовав на обильную росу, из-за которой промочила ноги, поспешно поднялась к себе в комнату.
Итак, возникло новое осложнение. Дни летели за днями, а странное происшествие не шло у меня из головы. Бывали моменты – это случалось даже в разгар занятий, – когда мне необходимо было уединиться и подумать. Мое смятение еще не достигло той точки, когда не имеешь над собой власть, но я боялась, как бы нервы мои совсем не расстроились. Все дело было в том, что я, как ни билась, не могла объяснить себе, кто был тот странный человек, с которым меня соединила – так мне казалось – непостижимая, но, похоже, прочная связь. Довольно скоро я поняла, что необязательно расспрашивать домочадцев, проводить дознание и смущать их своими подозрениями. Должно быть, пережитое потрясение до крайности обострило все мои чувства. Через каких-нибудь три дня, внимательно понаблюдав за обитателями усадьбы, я убедилась, что никто из них и не думал шутить надо мной, устраивать глупый розыгрыш. Судя по всему, об этом загадочном происшествии знала только я. Оставалось единственно возможное объяснение: кто-то неизвестный позволил себе возмутительную дерзость. Заперевшись в своей комнате, я вновь и вновь ломала голову в поисках правдоподобной версии. Скорей всего, в усадьбу забрел какой-то бесцеремонный путешественник, любитель старины; он незаметно проник в дом и, выбрав наилучшую точку обзора, любовался с башни окрестностями, а затем, так же никем не замеченный, выбрался наружу. То, что он смотрел на меня нимало не смущаясь и даже с вызовом, объяснялось просто его невоспитанностью. Слава богу, он вряд ли вновь появится.
Но по правде говоря, мне возвращала покой не столько уверенность, что я его больше не увижу, сколько моя восхитительная работа. А заключалась она всего-навсего в том, что я жила, сосредоточив все свои помыслы и заботы на Майлсе и Флоре, и рядом с ними забывала о любой беде. В неотразимой прелести моих подопечных я находила вечный источник радости и не могла без улыбки вспомнить глупые страхи, с какими ехала сюда, свое уныние при мысли о серой, однообразной жизни, которая будто бы ждала меня в усадьбе. Ничего похожего не нашла я здесь, никаких серых будней, заполненных скучными, тягостными обязанностями. Мне открылась романтика детской и поэзия классной. Разумеется, это не означает, будто мы только и делали, что учили стихи и читали занимательные истории. Просто я не знаю, как иначе выразить, насколько увлекли меня мои питомцы. Шло время, а я никак не могла к ним привыкнуть, – для гувернантки это большая редкость, спросите любую, испытавшую силы на этом поприще! – каждый день приносил все новые и новые открытия. И только в том, что касалось пребывания Майлса в школе, не приходилось ждать никаких открытий, здесь по-прежнему царил мрак неизвестности. Я заметила, что эта тайна быстро перестала мучить меня. Быть может, Майлс, сам того не подозревая, подсказал мне объяснение. Своим поведением он просто-напросто доказывал нелепость любого обвинения в его адрес. Завороженная чистым, ясным светом его невинности, я пришла к единственно возможному выводу: мальчик слишком хорош и благороден для гадкого и нечистоплотного школьного мирка, за что и поплатился. Я с негодованием винила во всем толпу, к которой причисляла глупых и злобных школьных директоров, – она никогда не прощает тех, кто выделяется из общего ряда, тех, кому самой природой назначено затмевать других, и потому вечно обрекает их на гонения.
Обоих детей отличала какая-то особая кротость (пожалуй, в этом заключался их единственный недостаток, хотя Майлса никак нельзя было назвать растяпой), она придавала им нечто прямо-таки неземное и напрочь исключала даже самую мысль о возможности наказания. Они походили на тех херувимов из смешной сказки, у которых отсутствовала – естественно, в переносном смысле – та часть тела, по которой их можно было бы шлепать! Особенно это касалось Майлса. Помню, меня преследовало чувство, будто он живет, не помня о прошлом. Даже у самого маленького ребенка есть какое-никакое прошлое, пусть и по-детски нехитрое, но в этом красивом мальчике меня больше всего поражало, что при его впечатлительности он умудрялся всегда оставаться счастливым, словно каждый день начинал жить заново. Ни разу, ни на одно мгновение даже легкая тень не омрачила ясного чела. На мой взгляд, это доказывало, что Майлса не могли исключить из школы за какой-нибудь проступок. Если бы у него были дурные наклонности, он непременно так или иначе выдал бы себя, это не ускользнуло бы от моего внимания и в конце концов я докопалась бы до истины. Но мне не удавалось заметить ровным счетом ничего. Это был сущий ангел во плоти. Майлс никогда не вспоминал о школе, никогда не рассказывал о товарищах или учителях. Со своей стороны, считая всю эту историю отвратительной, я предпочитала не заводить о ней речь. Я жила словно зачарованная и, что самое удивительное, прекрасно понимала это, но сама, по своей воле уступала наваждению, искала в нем забвения от всех тревог, хотя поводов для волнений было предостаточно. Из дома до меня доходили печальные вести, не все там складывалось благополучно. Но разве было что-нибудь на свете важнее моих детей? Так я твердила себе, уединившись в своей комнате, когда меня одолевали мрачные мысли. Прелесть детей ослепляла меня.
Но продолжу рассказ. Однажды в воскресенье погода испортилась, долго лил дождь – нечего было и думать идти в церковь с детьми. Мы уговорились с миссис Гроуз: если после чая прояснится, то вдвоем отправимся к вечерней службе. Дождь действительно прекратился, и можно было собираться – дорога до деревенской церкви через парк и по хорошему проселку заняла бы не более двадцати минут. Я уже спускалась по лестнице в холл, где должна была встретиться с миссис Гроуз, как вспомнила, что забыла перчатки. Они нуждались в небольшой починке, и я занялась ими – возможно, с моей стороны это была излишняя вольность, – пока шло чаепитие. По воскресеньям чай подавали в холодной и торжественной зале для парадных случаев, как мы ее называли, «столовой для больших», обшитой красным деревом и украшенной бронзой. Там я и оставила перчатки и теперь поспешила за ними. Хотя день выдался пасмурный, еще не начало смеркаться, и, открыв дверь, я сразу же увидела перчатки на стуле подле широкого окна. Но в ту же самую секунду взгляд мой упал на человека – он стоял за окном и через стекло заглядывал в комнату. Едва перешагнув порог, я мгновенно узнала его. Сомнений быть не могло: за окном стоял тот самый незнакомец, которого я видела на башне. Он вновь явился мне с той же поразительной четкостью, но на сей раз возник почти что рядом, и от неожиданности у меня перехватило дыхание, а сердце обдало холодом. Как и в первый раз, я видела его только до пояса – хотя комната находилась на первом этаже, окно не доходило до окон террасы, где он стоял. Незнакомец приник лицом к стеклу, и то, что он предстал предо мной так близко, вызвало в памяти с ослепительной отчетливостью нашу первую встречу. Нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы понять, что и он успел заметить мое появление и узнать меня, – в этом не было сомнений. Казалось, за эти мгновения прошла целая вечность, и у меня возникло ощущение, будто я знаю этого человека всю жизнь. Однако дальше последовало нечто неожиданное. Незнакомец еще некоторое время стоял, не сводя с меня своих жутких глаз, но потом тяжелый взгляд его начал блуждать по комнате, переходя с предмета на предмет. Страшная догадка пронзила меня: не по мою душу он пришел сюда. Ему нужен кто-то другой.
