Русский Порт-Артур в 1904 году. История военной повседневности
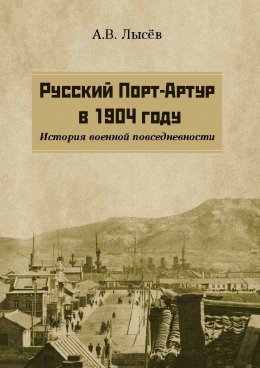
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2019 год
Научные рецензенты:
А.Ю. Емелин, канд. ист. наук, начальник отдела информационного обеспечения и выставочной деятельности Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГА ВМФ)
Н.А. Кузнецов, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник отдела военно-исторического наследия Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына
© Содружество «Посев», 2019
© А.В. Лысёв, 2019
Об источниках и историографии по истории военной повседневности русского Порт-Артура в 1904 г
В отечественной историографии вопросы истории повседневности русского Порт-Артура в 1904 г. освещены недостаточно. В работах, касающихся как действий русской армии и флота во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. в целом, так и при обороне Порт-Артура в частности, преобладают описание и разбор хода боевых действий, тактики, стратегии, технической и организационно-структурной сфер. Ввиду этого область повседневного быта долгое время оставалась за рамками специальных исследований. Вместе с тем, вопросы, связанные с отдельными аспектами повседневной жизни защитников Порт-Артура, рассматриваются в исследованиях, посвященных русской армии, флоту и истории Русско-японской войны.
Повышенный интерес к Дальнему Востоку стал проявляться еще задолго до Русско-японской войны. Это было связано с арендой Россией Порт-Артура. Уже в работах конца 1890-х – начала 1900-х гг. достаточно много внимания было уделено повседневной жизни города, гарнизона и эскадры. Для нашего исследования они представляют ценность постольку, поскольку позволяют собрать и проанализировать сведения о военном быте в отправной точке изучения. В работах этого периода они еще не заслонены событиями войны. Так, бытовые аспекты русской колонизации описаны в книге сотрудника газеты «Русские ведомости» Д.И. Шрейдера «Наш Дальний Восток» (СПб., 1897). Повседневной жизни Порт-Артура журналист Г. Козьмин в своей книге «Дальний Восток» (СПб., 1904) посвятил целый раздел. Задумывая эти исследования как краеведческие, авторы обращают внимание на многие бытовые мелочи, важные при изучении истории повседневности.
В общих работах конца XIX – начала XX вв., посвященных Русской императорской армии, содержатся отрывочные сведения об армейском быте. Среди них можно отметить труды военных публицистов Н.Д. Бутовского «Очерки современного офицерского быта» (СПб., 1899), А.Ф. Риттиха «Русский военный быт в действительности и мечтах» (СПб., 1893), Л.И. Третеского «Опыт 12-летнего командования ротой» (Киев, 1901). Ценность этих работ заключается в том, что авторы рассматривают быт армии изнутри, сами являясь сухопутными офицерами.
Сильный всплеск интереса к событиям в Порт-Артуре имел место во время и сразу после завершения войны. Русское общество испытало шок от провала операций в Маньчжурии и трагедии при Цусиме. На военные поражения наложились внутренние катаклизмы – революционные события 1905–1907 гг., активные изменения в общественно-политической жизни страны. В ходе недавно прошедшей войны армия постоянно отступала, флот практически прекратил свое существование. На этом фоне лишь Порт-Артур выглядел очагом героического сопротивления. Его сравнивали с Севастополем во время Крымской войны 1853–1856 гг. Новости о его обороне, безусловно, влияли на общественное мнение. Водоворот революционных событий захлестнул страну уже после падения крепости. Пока этого не случилось, еще в 1904 г. вышло несколько работ военно-аналитического и экономического характера, посвященных дальневосточным рубежам России. В книге лейтенанта Ф.М. Косинского «Состояние русского флота в 1904 году» (СПб., 1904), помимо всего прочего, затрагиваются вопросы, связанные с условиями жизни и проведения досуга нижними чинами флота на Тихом океане. В исследовании историка и географа П.М. Головачева «Россия на Дальнем Востоке» (СПб., 1904) приведены сведения о денежном содержании военнослужащих на Дальнем Востоке и о процессе ценообразования в регионе. В целом же литература, выходившая непосредственно в период войны, имела научно-популярный либо агитационно-патриотический характер. В качестве исключения можно назвать работу ученого-гигиениста П.Н. Лащенкова «Гигиенические отряды на театре военных действий. Русско-японская война» (Харьков, 1904), в которой приведены сведения о санитарно-гигиенических условиях жизни на передовых позициях.
Ситуация изменилась в 1905 г. В Россию вернулись многие морские и сухопутные офицеры, защищавшие Порт-Артур. Они были отпущены японцами под честное слово не принимать дальнейшего участия в текущей войне. Некоторые из них выступили в печати не только как мемуаристы, но и как исследователи причин военных неудач России. Обстановка в стране способствовала свободе высказывания своих суждений. После Цусимы и Портсмутского мира выходит ряд исследований, носивших критический характер. Используя примеры из Русско-японской войны, авторы пытались доказать обусловленность поражений атмосферой в тогдашней русской армии и на флоте. Так, в работах капитана 2-го ранга А.П. Капниста «О личном составе флота» (СПб., 1907) и мичмана А.М. Сипягина «Личный состав флота» (Владивосток, 1907) впервые делаются попытки проанализировать взаимоотношения на судах флота. Публицист Н.М. Португалов в работе «После Цусимы» (Воронеж, 1909) критикует способы проведения досуга моряками в Порт-Артуре. Он исследует также форменную одежду моряков-тихоокеанцев. Вопросы униформы рассматриваются и в вышедшем тогда же труде капитана 2-го ранга В.И. Лепко «Справочник старшего офицера по внутренней жизни корабля» (СПб., 1907). Все эти работы были выдержаны в духе идей «обновленцев», к которым, помимо вышеназванных морских офицеров, следует отнести флотских публицистов и теоретиков флота Н.Л. Кладо, Д.Н. Вердеревского, Л.Ф. Добротворского и др. Хотя авторы искали причины поражений русского флота в минувшую войну, специальному анализу морской повседневности должного внимания в их трудах все-таки не уделялось.
Схожие тенденции наблюдались и в армейских кругах. Выходят критические труды офицеров-участников Русско-японской войны. В исследованиях подполковников Генерального штаба А.В. Геруа «После войны о нашей армии» (СПб., 1907) и М.С. Галкина «Новый путь современного офицера» (М., 1906), а также штабс-капитана Л.З. Соловьева «Указание опыта текущей войны на боевые действия пехоты» (СПб., 1905) рассматриваются отдельные сюжеты, связанные с обмундированием, досугом солдат, взаимоотношениями в их среде. Однако, в лучшем случае, история повседневности фигурирует в этих трудах как одна из тем, отнюдь не первостепенная.
Некоторые аспекты, составляющие историю повседневности, нашли отражение в специальных работах. В частности, это касается форменного обмундирования. В этой связи необходимо назвать труды медиков И.И. Тржемесского «Исследование и оценка с гигиенической точки зрения одежды нижних чинов русского флота» (СПб., 1913) и Н.Н. Костямина «Способы исследования тканей одежды с точки зрения гигиены» (СПб., 1909). В этих работах дается всесторонняя оценка обмундирования, в котором воевали порт-артурский гарнизон и моряки 1-й Тихоокеанской эскадры, с точки зрения удобства его ношения.
В целом труды медиков дают богатый материал, связанный с повседневной историей русского Порт-Артура в 1904 г. В первую очередь необходимо назвать исследование хирурга В.Б. Гюббенета «В осажденном Порт-Артуре. Очерк военно-санитарного дела и заметки по полевой хирургии» (СПб., 1910). Исследуя болезни защитников крепости, Гюббенет подробно анализирует условия проживания, питания гарнизона, его психологическое состояние. Проблемам адаптации человека на войне посвящены работы психиатра ЕЕ. Шумкова «Рассказы и наблюдения из русско-японской войны (военно-психологические этюды)» (Киев, 1905) и «Первые шаги психиатрии во время русско-японской войны в 1904–1905 гг.» (Киев, 1907).
Значительный вклад в изучение истории повседневности внес морской врач К.С. Моркотун. Его работа «Морская гигиена» (СПб., 1907) затрагивает целый ряд интересующих нас вопросов. Автор подробно разбирает условия проживания на военных кораблях Российского императорского флота в начале XX в., тщательно анализирует разные стороны быта моряков. В частности, он рассмотрел помещения для офицеров и команды с точки зрения их пригодности к проживанию, вентиляции и отопления, места общего пользования на судах. К.С. Моркотун изучил продовольственные рационы моряков и сравнил с аналогичными данными по флотам ведущих мировых держав. Признавая бесспорную ценность этого исследования, необходимо, однако, заметить, что, во-первых, работа посвящена не только Тихоокеанской эскадре. Во-вторых, автором были изучены не все составляющие повседневной жизни чинов Морского ведомства.
В первые годы после окончания Русско-японской войны выходили в основном исследования, посвященные наиболее злободневным проблемам русской армии и флота. Накануне Первой мировой войны появляются более фундаментальные труды. Из таковых следует упомянуть работы Генерального штаба полковника, преподавателя военной истории и тактики Киевского военного училища В.А. Черемисова «Русско-японская война 1904–1905 гг.» (Киев, 1907), штабс-капитана А.А. Свечина «Предрассудки и боевая действительность» (СПб., 1907), полковника военного инженера А.В. Шварца и штабс-капитана Ю.Д. Романовского «Борьба за Порт-Артур» (СПб., 1907). В них дается систематическое описание осады. Вопросы продовольственного, вещевого снабжения, условия проживания, распорядка дня на позициях вписаны в общую картину обороны Порт-Артура. Однако названные сюжеты не составляют отдельных глав или параграфов. Они выступают лишь фоном, на котором исследуется история военных действий. Эта же особенность характерна и для более узкоспециализированного исследования военного инженера С.А. Цабеля «Типы полевых оборонительных построек, применявшихся во время русско-японской войны» (СПб., 1907). Во всех исследованиях, посвященных Порт-Артуру, превалировало изучение сугубо военной истории. История повседневности анализировалась в них поверхностно и не системно.
На этом фоне выделяются труд морского капитана 1-го ранга А.А. Ливена «Дух и дисциплина нашего флота» (СПб., 1914) и капитана 2-го ранга И.Г. Энгельмана «Воспитание современного солдата и матроса» (СПб.,1908). Ливен уделял внимание таким составляющим военного быта, как взаимоотношения внутри воинской части, традиции, досуг нижних чинов, при этом для анализа были выбраны подразделения, оборонявшие Порт-Артур.
В целом дореволюционная историография Русско-японской войны представляется куда более обширной, чем таковая же первых лет советского периода. Объяснение следует искать в актуальности темы. Впоследствии внимание историков, в том числе и военных, будет приковано к Первой мировой и Гражданской войнам. Исследовательский интерес к Русско-японской войне и Порт-Артуру вновь проявился в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Это было связано со все более частым обращением к истории военного искусства в высших военных учебных заведениях Советского Союза, поэтому работы этого периода принадлежали перу, как правило, военных. Среди них следует отметить труд известного военного инженера и фортификатора Д.М. Карбышева «Оборона Порт-Артура (1904)» (М., 1933). Он приводит данные по продовольственному рациону защитников крепости, однако динамику изменений продовольственных выдач автор не показывает.
Обширное исследование провел профессор Академии Генерального штаба РККА, комбриг Н.А. Левицкий. Работа «Русско-японская война 1904–1905 гг.» (М., 1938) посвящена тактике военных действий. История повседневности в ней практически не рассматривается. Однако несомненной заслугой Левицкого является обширный научно-справочный аппарат, указания на литературу и источники, которые он использовал при написании своей книги. В работе преподавателей Военной академии имени М.В. Фрунзе Б.К. Колчигина и Е.А. Разина «Оборона Порт-Артура в русско-японскую войну 1904–1905 гг.» (М., 1939), подобно дореволюционным обобщающим трудам о Порт-Артуре, вопросы истории повседневности затрагиваются эпизодически.
В 1930-е гг. обратились к рассматриваемой проблематике и в Русском Зарубежье. Вклад в изучение истории повседневности военных моряков внес старший лейтенант М.Ю. Горденев. Его работа «Морские обычаи, традиции и торжественные церемонии Русского Императорского флота» (Сан-Франциско, 1936) является уникальным исследованием в области истории военной повседневности как в Русском Зарубежье, так во всей отечественной историографии. Подробно анализируя духовную составляющую флотского быта, Горденев, тем не менее, почти не касается составляющей материальной. Непосредственно Тихоокеанской эскадре в его исследовании посвящена незначительная часть.
В 1939 г. в СССР увидел свет справочник военного историка В.В. Лучинина «Русско-японская война 1904–1905 гг. Библиографический указатель книжной литературы на русском и иностранных языках» (М., 1939). В него вошло описание литературы и источников по Русско-японской войне, и Порт-Артуру в частности, опубликованных в 1904–1939 гг. Однако некоторые работы дореволюционного периода не были включены в этот указатель.
Работы, посвященные Порт-Артуру, вновь стали появляться сразу после окончания Второй мировой войны. Это было связано прежде всего с тем, что СССР выиграл войну с Японией. В 1945–1955 гг. Порт-Артур был советской военно-морской базой на Дальнем Востоке. В 1952 г. появился капитальный труд генерал-майора А.И. Сорокина «Оборона Порт-Артура» (М., 1952). Сорокин касается вопросов продовольственного и денежного обеспечения чинов гарнизона крепости. Однако автор уделяет им гораздо меньше внимания, чем собственно военной истории осады. Выводы о продовольственных запасах защитников сделаны без систематического анализа ежедневных рационов. В то же время ряд выявленных бытовых характеристик придают работе Сорокина определенную ценность в разработке темы истории военной повседневности.
Идеологическая заданность и схематизм при изложении материала прослеживаются в труде советского историка Е.Д. Черменского «Русско-японская война 1904–1905 гг.» (М., 1954). Касаясь взаимоотношений в военной среде, Черменский характеризует их исключительно негативно. Так, взаимоотношения между офицерами и нижними чинами трактуются автором как взаимоотношения помещиков и крепостных. С точки зрения изучения истории военной повседневности, такой взгляд является субъективным и поверхностным.
Для трудов 1960—1970-х гг. характерно привлечение обширного круга исторических источников. Среди работ этого периода выделяются исследования К.Ф. Шацилло «Русский империализм и развитие флота накануне Первой мировой войны (1906–1914)» (М., 1968) и «Россия перед первой мировой войной» (М., 1974). Обращаясь в них к обороне Порт-Артура, Шацилло дает оценку ряду экономических аспектов истории крепости. Характерно привлечение многочисленных архивных документов. Этим же достоинством обладает и труд военного историка И.И. Ростунова «История Русско-японской войны 1904–1905 гг.» (М., 1977). Работа Ростунова содержит богатый научно-справочный аппарат. В исследованиях этого периода дань идеологическим установкам отдается уже без видимого ущерба изображению исторической действительности. Авторы делают выводы после глубокого анализа проблем, пользуясь обширной Источниковой базой. В то же время и в этих трудах история военной повседневности представлена эпизодически, оказываясь, как и в работах прошлых лет, в подчиненном положении.
Среди исследований 1990-х гг. следует отметить работу С.В. Волкова «Русский офицерский корпус» (М., 1993). Автор дает основную канву истории военной повседневности, подробно исследуя бытовую сторону жизни русского офицерства в начале XX в. Попытку систематизировать основные параметры для характеристики военного быта предприняли В. Ластовкин и Б. Никольский[1]. Авторы выявили основные пункты материального обеспечения матроса Российского императорского флота во второй половине XIX в.
В конце 1990-х гг. выходят первые труды по военной антропологии Е.С. Сенявской «Человек на войне. Историко-психологические очерки» (М., 1997) и «Психология войны в XX веке. Исторический опыт России» (М., 1999). Сенявская, исследуя психологию русских и советских участников вооруженных конфликтов XX в., выходит на сюжеты, составляющие непосредственно историю военной повседневности. В ее работах дается блестящая классификация параметров, по которым можно проводить анализ истории повседневности любой военной кампании. Пожалуй, это первый комплексный труд на бытовую тематику, в котором четко проработана методология подобных исследований, отмечена специфика их источников. Однако, в силу обширных хронологических рамок исследования, описанию локальных военных кампаний недостает наполнения конкретным историческим материалом, в частности, истории повседневности Русско-японской войны уделен незначительный объем. «Человеческому измерению» войны, теоретическим вопросам изучения войн как своеобразного культурного феномена посвящены исследования В.В. Лапина по военной антропологии Кавказской войны[2].
В 2000—2010-х гг. интерес к изучению истории повседневности, или, как ее называет исследователь Н.Л. Пушкарева, темы «человеческой обыденности», значительно возрос. Были опубликованы прежде всего работы по актуальным проблемам истории советской повседневности. Можно отметить теоретические работы Л.П. Репиной и С.В. Журавлева[3]. Как справедливо отмечал академик Ю.А. Поляков, «чтобы понять исторические события и явления, надо решить двуединую задачу – показать и человека, и обстановку»[4]. Работы современных исследователей истории повседневности А.Г. Григорьевой, ГВ. Андреевского, С.Е. Панина, В.Б. Аксенова, О.В. Ольневой, Е.И. Косяковой, М.С. Жулевой, Н.Б. Лебина, А.Б. Каменского, В.Б. Безгина и целого ряда других охватывают широкие хронологические и географические рамки, затрагивают различные слои российского общества[5]. Хотя они и не посвящены непосредственно Русско-японской войне, ценность их для нашего исследования заключается в разработке методологии, исследовательского инструментария и понятийного аппарата для изучения истории повседневности как таковой.
Отдельно нужно отметить работу Н.В. Манвелова «На вахте и на гауптвахте. Русский матрос от Петра Великого до Николая Второго». (М., 2014), в которой автор комплексно рассматривает сюжеты, связанные с бытом нижних чинов флота на протяжении 200 лет, уделяяя особое внимание специфическому военно-морскому жаргону.
Выделяется на фоне современных исследований работа И.В. Зимина, вышедшая в 2015 г., «Александровский дворец в Царском Селе. Люди и стены. 1796–1917. Повседневная жизнь Российского императорского двора». В ней подробно рассматриваются и теоретические вопросы истории повседневности, продумана структура и разработана классификация, которую можно использовать, пожалуй, для анализа повседневной истории людей любого круга и любого периода.
Непосредственно тему военной повседневности Русско-японской войны и повседневной истории Дальневосточного региона в рассматриваемый период в последние годы развивали А.В. Гущин, М.А. Сорокина, А.В. Новичков, Л.А. Чернов, И.В. Лукоянов и Д.Б. Павлов[6].
Можно уверенно констатировать, что история повседневности (или следуя классическому определению из немецкой историографии – Alltagsgeschichte) прочно заняла свою нишу в современной российской истрической науке.
Подчеркнем еще раз, что все перечисленные статьи и монографии не являются специальными исследованиями по истории военной повседневности русского Порт-Артура в 1904 г. В большинстве из этих работ интересующая нас тема затрагивается попутно и не является основным предметом исследования. Признавая ценность немногочисленных работ по истории повседневности русской армии и флота конца XIX— начале XX вв., выходивших в разное время, отметим, однако, что ни в одной из них не дается анализа всего комплекса аспектов, входивших в понятие военной повседневности Русско-японской войны в целом и русского Порт-Артура в частности.
Источниковую базу исследования составили пять видов источников: нормативные акты, делопроизводственные документы, материалы периодической печати, публицистика, а также источники личного происхождения. В рамках исследования были выявлены и использованы материалы 83 дел из 12 фондов двух архивов: Российского государственного архива Военно-Морского флота (РГА ВМФ) и Российского государственного исторического архива (РГИА).
Материалы, хранящиеся в РГА ВМФ, можно условно разделить на две группы. К первой группе относится делопроизводственная документация Военного, Морского и гражданских ведомств Порт-Артура (приказы, циркуляры, продовольственные, вещевые, денежные ведомости, списки, отчеты). Так, материалы о личном составе эскадры содержатся в Ф. 315 (Материалы по истории русского флота. Коллекция). Вопросы гигиены на судах и на берегу освещает Ф. 408 (Управление санитарной частью флота при Морском министерстве). Сведения о денежном довольствии моряков встречаются в документах Ф. 427 (Главное управление кораблестроения и снабжения Морского министерства). Так, например, Д. 1340. Оп. 4 этого фонда («Дело по применению правил приема в судовые кассы сбережений чинов заграничного плавания») содержит документы денежной отчетности моряков-тихоокеанцев.
Ф. 448 (Комиссия для рассмотрения претензий торгового дома «М. Гинсбург и Кº» по поставкам для Порт-Артура и 2-й Тихоокеанской эскадры под председательсвом генерал-лейтенанта Н.Н. Ивекова) содержит информацию о недвижимости и имуществе, использовавшихся для военных целей и, в частности, при расквартировании и налаживании быта чинов Морского и Военного ведомств.
Комплекс мероприятий по улучшению быта нижних чинов гарнизона и эскадры можно проследить по материалам Ф. 467 (Временный морской штаб наместника на Дальнем Востоке). В этом фонде содержатся машинописные и рукописные тексты копий приказов, распоряжений, а также подлинники документов нижних чинов (Д. 451. Оп. 1 «Дело об улучшении быта и отдыха личного состава в Порт-Артуре»).
В Ф. 650 (Эскадра Тихого океана (1888–1904)) собраны все распоряжения флагманов и штабов 1-й Тихоокеанской эскадры. Это как подлинники (например, Д. 615 «Циркуляры штаба врид. командующего эскадрой Тихого океана; штаба командующего Отдельным отрядом броненосцев и крейсеров в Порт-Артуре»), так и копии документов, связанных непосредственно с военным бытом (например, Д. 606 «Приказы врид. старшего флагмана и командующего эскадрой Тихого океана; циркуляры штаба»).
Фонды РГА ВМФ содержат также обширную информацию по бытовой жизни сухопутного гарнизона Порт-Артура. Наиболее полно эта информация представлена в Д. 517 («Приказания начальника гарнизона Порт-Артура») Ф. 650. Сведения о продовольственных запасах крепости и порта можно найти в документах личного фонда адмирала И.К. Григоровича (Ф. 701). Содержащиеся в делах этого фонда ведомости и переписка заставляют по-новому взглянуть на уровень и источники питания чинов Военного и Морского ведомств в блокированном Порт-Артуре (например, Д. 20 «Приказы и отношения нач-ка Квантунского Укрепленного района генерал-адъютанта Стесселя и коменданта Порт-Артура генерал-лейтенанта Смирнова, ведомости боевых запасов минных и артиллерийских складов, переписка главноуполномоченного Красного Креста и другие документы, связанные с обороной Порт-Артура»).
Информацию о расквартировании войск, бытовых удобствах и строительстве в городе Порт-Артур дают материалы фонда Управления строителя Порт-Артура (Ф. 907). Например, содержащиеся в On. 1 этого фонда Д. 117 («О строительстве гарнизонной бани и хлебопекарни»), Д. 118 («О разработке проекта и технической сметы на строительство водопровода и канализации»), Д. 160 (приказы строителя порта) позволяют проанализировать качество городской жизни на момент начала Русско-японской войны.
Ко второй группе материалов, хранящихся в РГА ВМФ, можно отнести документы личного происхождения (частные письма, записные книжки, воспоминания, оставленные участниками событий). Все они сосредоточены в Ф. 763 (Дневники, заметки, записки, вырезки из газет о Русско-японской войне. Коллекция). Здесь находятся как подлинники, так и заверенные авторами копии неопубликованных текстов мемуарного характера (например, дневник капитана 2-го ранга М.М. Римского-Корсакова). В этом же фонде хранятся подлинники записных книжек морских офицеров, служивших в Порт-Артуре (Б.П. Дудорова, А.В. Колчака). Записная книжка карманного формата с карандашными записями будущего Верховного Правителя России изучена автором с особенным интересом. Здесь же в фонде хранятся машинописные копии воспоминаний участников обороны (например, мичмана К.Д. Ордовского-Танаевского), личные письма (например, мичмана Д.И. Дарагана), автографы воспоминаний нижних чинов (например, воспоминания матросов М. Филиппова и В. Дубровина). Большая часть документов фонда относится непосредственно к дням обороны Порт-Артура.
Оставшимся в живых участникам обороны Порт-Артура после завершения Русско-японской войны было предложено написать воспоминания. Причем предложение это касалось как командного состава, так и нижних чинов. Многие порт-артурцы на это предложение откликнулись. Некоторые мемуары были опубликованы практически сразу после их написания. Значительная же часть материалов была передана в архив. В них содержится масса подробностей из истории военной повседневности русского Порт-Артура, которые на фоне увлечения историей боевых действий не были востребованы должным образом. Для изучения истории повседневности этот комплекс документов представляет несомненный интерес. Только лишь в 2000—2010-х гг. некоторые из этих интереснейших источников мемуарного характера были опубликованы частично в периодической печати или вышли в свет отдельными изданиями[7].
Таким образом, фонды РТА ВМФ представляют особую ценность при исследовании военного быта русского Порт-Артура.
В работе используется ряд материалов, хранящихся в РГИА. В фонде 398 (Департамент земледелия) содержатся, в частности, рекомендации и разработки по обеспечению войск продовольствием собственными силами, что в условиях осажденного Порт-Артура имело особую актуальность (например, дело «Об устройстве огородов для нужд армии, действующей на Дальнем Востоке»).
Несомненный интерес вызывают дела Ф. 560 (Общая канцелярия министра финансов). Они касаются разных видов снабжения блокированной крепости: «О военной контрабанде во время русско-японской войны», «О доставке продовольствия и боеприпасов в осажденный Порт-Артур», «О снабжении русской армии контрабандными припасами Порт-Артура».
Материалы Ф. 1101 (Документы личного происхождения, не составляющие отдельных фондов) представляют собой письма, воспоминания, записки (в том числе статью лейтенанта В.И. Лепко об обороне Порт-Артура, записку командира миноносца с критическими замечаниями об обороне Порт-Артура).
Источники личного происхождения (как из коллекции РГА ВМФ, так и РГИА) ценны прежде всего тем, что дают представление о том, как применялись и изменялись общие для всей русской армии и флота постановления в условиях военного Порт-Артура. В дневниках и письмах зафиксированы нововведения и изменения военного быта зачастую с точностью до одного дня. Записные книжки и письма дают личные, иногда вовсе не предназначенные для чужих глаз, суждения о военной повседневности русского Порт-Артура. Нередко эти суждения и свидетельства расходятся с общепринятыми в исторической литературе мнениями. Правомерно утверждать, что источники личного происхождения наиболее адекватны предмету и задачам любого исследования по истории повседневности.
Из числа опубликованных источников по теме нашего исследования следует назвать нормативные документы, прежде всего, Свод военных постановлений 1869 г., затрагивающий все стороны армейской жизни в России в конце XIX – начале XX вв. Непосредственный интерес представляют книги XVIII, XIX и XX «Свода…»: «Заготовление и постройки по военному ведомству» (СПб., 1907), «Довольствие войск» (СПб., 1911) и «Внутреннее хозяйство частей войск» (СПб., 1907). В них отражена общая регламентация основных аспектов армейской повседневности.
Для морской повседневности аналогичным кодексом законодательных актов является Свод морских постановлений, а именно книги XIII и XIV «О довольствии чинов Морского ведомства» (СПб., 1898) и «Хозяйство экипажей и команд на берегу и хозяйство на судах флота» (СПб., 1886). Эти книги регламентируют все материальные стороны военно-морского быта. В них определена также специфика прохождения службы на Дальнем Востоке.
Другим общим для армии и флота нормативным актом служит «Учреждение орденов и других знаков отличия» (СПб., 1882). «Собрание узаконений постановлений и других распоряжений по Морскому Ведомству за 1904 год» (СПб., 1905) отражает юридические изменения в военно-морском законодательстве на текущий момент (в нашем случае – на 1904 г.).
«Памятка для молодого матроса на военном судне» (СПб., 1901) содержит в числе прочих и бытовые советы и рекомендации нижним чинам на кораблях.
Все эти документы содержат информацию о военной повседневности русского Порт-Артура как одной из военно-морских баз России.
Ценным источником служат документы, собранные и изданные Военно-исторической комиссией по описанию Русско-японской войны. Свою задачу комиссия видела лишь в сборе материалов о войне. Сюжеты из истории повседневности Порт-Артура содержатся в работе «Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия флота» (вып. 1, 2,4 и 7). В выпуски, выходившие в 1911–1914 г., был включен обширный фактический материал, документация, выдержки из мемуаров участников обороны Порт-Артура. Однако авторы труда не квалифицировали источники по принадлежности к истории военной повседневности.
Описанию действий флота посвящена также работа Исторической комиссии при Морском главном штабе. Из опубликованного этой комиссией 7-томного «Описания действий флота в войну 1904–1905 гг.» интерес для темы истории повседневности представляют том «Действия флота на южном театре и действия морских команд при обороне Порт-Артура» (Пг., 1916). Документы по материальному снабжению и питанию гарнизона содержатся также в издании «К порт-артурскому судебному процессу. Обвинительный акт» (СПб., 1908).
Из опубликованных в советский период материалов нужно отметить сборник документов «Русско-японская война. Сборник материалов» под редакцией П.Ф. Ярового (Л.,1938). Из новейших специальных работ такого рода следует прежде всего упомянуть межархивный сборник документов и воспоминаний «Из истории Русско-японской войны 1904–1905 гг. Порт-Артур» (М., 2008–2018) и сборник документов, подготовленный И.В. Лукояновым и Д.Б. Павловым «Порт-Артур и Дальний. 1894–1904 гг.: последний колониальный проект Российской империи» (М.; СПб., 2018).
Говоря о материалах периодической печати, следует выделить прежде всего официальные издания Военного и Морского ведомств – «Военный сборник» и «Морской сборник». На страницах этих журналов в 1905—1910-е гг. велись оживленные дискуссии по самым разнообразным вопросам, связанным с Русско-японской войной. Большая часть морских и сухопутных офицеров, выпустивших впоследствии свои исследования о войне отдельными изданиями (уже упоминавшиеся Н.Л. Кладо, А.П. Капнист, Д.Н. Вердеревский и др.), публиковали статьи в «Военном» и «Морском» сборниках. Кроме них стоит упомянуть также работы капитана 1-го ранга М.В. Бубнова (Морской сборник, 1906. № 10–12 и 1907. № 1–6) и полковника Г.И. Тимченко-Рубана (Военный сборник, 1905. № 3–6), в которых приводятся интересные сведения по истории военной повседневности.
Особый интерес представляют публикации «Военно-медицинского журнала». Среди них следует отметить работы военных врачей М.Д. Иссерсона (1906. № 3), И.И. Кияницына (1906. № 1), А.В. Сибирского (1906. № 4). Рассматривая различные заболевания в осажденном Порт-Артуре, эти исследователи проанализировали условия питания и проживания защитников крепости, состояние их обмундирования.
Из материалов периодической печати следует отметить также «Летопись войны с Японией» (вып. 1—84, СПб., 1904–1905) под редакцией полковника Д.Н. Дубенского. Исключительно ценными являются материалы, публиковавшиеся в газете «Новый край» за январь – декабрь 1904 г. Она выходила непосредственно в Порт-Артуре на протяжении всей его осады. Газета позволяет день за днем отслеживать настроения и отчасти ход жизни в осажденном городе.
Мемуарная литература – один из основных источников по истории повседневности любой военной кампании. Большая часть мемуаров о Порт-Артуре была опубликована в Российской империи в первые годы после окончания Русско-японской войны. В них, как и в специальной литературе, прослеживается общая тенденция – информация о военном быте по большей части носит характер эпизодических зарисовок. Однако в мемуарах повседневная история Порт-Артура отражена гораздо полнее, чем в исследованиях об обороне крепости. Поскольку самих участников обороны в равной мере волновали как ход военных действий, так и условия собственной повседневной жизни.
Опубликованные воспоминания можно разделить по авторской принадлежности на несколько категорий: флотские, армейские и гражданских лиц. В первых двух категориях можно выделить мемуары высшего командного состава, штаб и обер-офицерства, нижних чинов. Отметим, что обывателю вопросы повседневного быта и достатка были гораздо ближе, чем тактика и стратегия военных действий. В этой связи исключительную ценность представляют мемуары жителей Порт-Артура, журналистов Н.Н. Веревкина (Странички из дневника. Очерки из жизни осажденного Порт-Артура. СПб., 1905), П.Н. Ларенко (Страдные дни Порт-Артура. СПб., 1906), Ф.И. Булгакова (Порт-Артур. Японская осада и русская оборона его с моря и суши. СПб., 1905). Повседневную жизнь описывает в своих воспоминаниях и полковой священник А. Холмогоров (В осаде. Воспоминания порт-артурца. СПб., 1905).
Анализируя воспоминания военных и моряков, важно учитывать следующее: чем выше занимаемое положение автора мемуаров, тем меньше в тексте бытовых подробностей. Поэтому наибольший интерес для нас представляют мемуары среднего командного состава. При работе с мемуарами необходимо учитывать и социальное происхождение автора, его индивидуальное отношение к действительности (это, как правило, видно из стиля и манеры, в которой ведется повествование). Наконец, во внимание нужно принимать общие представления людей той эпохи, их взгляды, воспитание. Для изучения истории военной повседневности значение мемуарных и эпистолярных источников весьма велико. Часто некоторые сюжеты реконструируются исключительно на материалах источников личного происхождения. В таких случаях обязателен тщательный анализ и сопоставление разных документов. Тот или иной факт должен быть проверен путем перекрестной сверки таких источников (вне зависимости от отношения авторов самих источников к этому событию).
История повседневности нашла отражение в мемуарах сухопутных офицеров порт-артурского гарнизона Н.М. Побилевского (Дневник артурца. СПб., 1912), А.Н. Голицынского (На позициях Порт-Артура. Из дневника ротного и батальонного командира. СПб., 1906), Л.М. Карамышева (Последний день Порт-Артура. Воспоминания участника. СПб., 1907), А.И. Костюшко (Ноябрьские бои на Высокой горе под Порт-Артуром. СПб., 1909), Н.А. Третьякова (5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк на Кинджоу и в Порт-Артуре. СПб., 1911), Я.У. Шишко (Рассказы участника обороны Порт-Артура. М., 1905) и ряда других. Из флотских мемуаров можно отметить воспоминания И.И. Ренгартена (Воспоминания порт-артурца. СПб., 1910), А.П. Штера (На крейсере «Новик». СПб., 1907).
В виде отдельных брошюр выходили в свет воспоминания некоторых нижних чинов. В качестве примера можно привести «Воспоминания порт-артурского солдата 13 ноября 1904 г.» (СПб., 1906).
Практически не содержат бытовых подробностей генеральские воспоминания А.В. Фока «Сдача порт-артурского форта № 2» (СПб., 1907) и «Письма из Порт-Артура генерала Стесселя и его супруги» (СПб., 1904). Скорее в качестве исключения, ценным источником по истории военной повседневности оказались мемуары отставного генерала М.И. Костенко «Осада и сдача крепости Порт-Артур» (Киев, 1907).
В советский период мемуарная литература по Русско-японской войне выходила в несравнимо меньшем, чем до революции, объеме. Ценность при изучении истории повседневности среди публикаций того времени представляют воспоминания военного врача В. П. Баженова «Японская кампания (дневник полкового врача)» (Тула, 1926). В 1954 г. были опубликованы дневниковые записи одного из руководителей сухопутной обороны крепости – полковника С. А. Рашевского[8].
К 50-летию окончания Русско-японской войны русскими эмигрантскими кругами в США был выпущен сборник «Порт-Артур. Воспоминания участников» (Нью-Йорк, 1955). В сборник вошли воспоминания моряков, военных и гражданских лиц, находившихся в Порт-Артуре в 1904 г. Большинство статей сборника содержит массу интересных бытовых подробностей из жизни русского Порт-Артура. О быте моряков Тихоокеанской эскадры поведал также генерал-лейтенант флота, эмигрант В.Н. Давидович-Нащинский. Его книга «Воспоминания старого моряка» вышла в Болгарии в 1933 г.
Интересные сведения по истории быта русской армии на Дальнем Востоке содержатся в опубликованных в 1995 г. воспоминаниях сухопутного офицера В.В. Перова[9].
Оставили мемуары об обороне Порт-Артура и иностранные наблюдатели, находившиеся при японской осадной армии. В кратчайшие сроки их воспоминания были переведены на русский язык и изданы в России. Тема военной повседневности затрагивается в мемуарах Э.А. Бартлетта «Осада и сдача Порт-Артура» (СПб., 1907, пер. англ.), Г. Кеннана «Из заметок об осаде Порт-Артура» (Варшава, 1909, пер. с англ.), Б.В. Норригаарда «Великая осада Порт-Артура и его падение» (СПб., 1906, пер. с англ.), К. де Грандпре «Падение Порт-Артура» (1908, пер. с франц.) иряде других. При анализе мемуаров иностранных участников событий необходимо учитывать прежде всего их личное отношение к воевавшим сторонам. Позиция, совпадающая с внешнеполитической доктриной родной страны по вопросу русско-японского конфликта, прослеживается только у англичан, мемуары которых, как правило, содержат гневные выпады в адрес России. В них же прослеживается необоснованное восхваление Японии. Представители остальных стран Европы и Америки руководствовались в изложении событий собственными симпатиями и антипатиями. Причем нередки случаи, когда симпатии соотечественников разделялись. Наиболее типично это для французов. Степень достоверности изложенных в мемурах иностранцев событий повышается в тех случаях, когда описание или трактовка этих событий по существу не расходятся с содержащейся в русских мемуарах информацией.
В качестве дополнительных материалов интерес представляют картографические издания: В. Котвича и Л. Бородовского «Ляодун и его порты: Порт-Артур и Далянвань» (СПб., 1898), В.Д. Червякова «По китайскому побережью» (СПб., 1899), систематический справочник Н.А. Корфа «О географических картах, изданных военно-исторической комиссией по описанию русско-японской войны» (СПб., 1911).
Для выявления наиболее характерных типажей и формирования представлений о быте является ценным фото- и другой иллюстрированный материал, опубликованный в издании «Русская эскадра на Дальнем Востоке. Альбом художественных снимков» (Киев, 1904).
В общей сложности для освещения избранной темы автором были изучены порядка двухсот опубликованных и неопубликованных источников и исследований разного рода (из них семь на немецком языке, австрийские и германские). Проведенное исследование дало возможность восстановить достаточно объективную картину истории повседневности русского Порт-Артура в 1904 г.
Автор и издательство выражают признательность всем, кто предоставил материалы и оказывал помощь и поддержку на разных этапах подготовки книги: кандидату исторических наук, доценту кафедры истории, философии и культурологии Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Денису Юрьевичу Алексееву; доктору исторических наук, профессору кафедры русской истории Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Ирине Валерьевне Алексеевой (1955–2018); доктору исторических наук, профессору кафедры истории и теории искусств Института дизайна и искусств Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексею Владимировичу Арановичу; кандидату исторических наук, начальнику Отдела информационного обеспечения и выставочной деятельности Российского государственного архива Военно-Морского флота Алексею Юрьевичу Емелину; военному историку Александру Юрьевичу Зубкину; военному историку Вячеславу Михайловичу Лурье (1934–2009); доктору исторических наук, заведующему кафедрой русской истории Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Андрею Борисовичу Николаеву; кандидату исторических наук Федору Александровичу Гущину; кандидату исторических наук, ведущему научному сотруднику Отдела военно-исторического наследия Дома Русского Зарубежья имени Александра Солженицына Никите Анатольевичу Кузнецову; кандидату исторических наук Дарье Аркадьевне Тимохиной (г. Москва).
Автор сердечно благодарит всех коллег, друзей и особенно свою семью, благодаря которым книга, наконец, увидела свет.
Глава 1
Русский Дальний Восток на рубеже XIX–XX вв. Обзор событий
Русско-японская война 1904–1905 гг., на первый взгляд, могла показаться локальным конфликтом в отдаленном от центров мировой политики Дальневосточном регионе. Однако свои интересы в этом регионе имели все ведущие мировые державы. Открытое вооруженное столкновение произошло между Россией и Японией. Его ход привлек пристальное внимание политиков и военных Европы и Америки. Они, как и различные представители непосредственно воевавших сторон, сделали для себя выводы из уроков Русско-японской войны. Борьба России и Японии была первым в XX в. конфликтом держав, обладавших мощными и новейшими на тот момент средствами ведения войны. В боевых действиях с обеих сторон приняли участие крупные соединения армии и флота. В морских и сухопутных сражениях были опробованы последние достижения техники, военной организации, стратегии и тактики. Многие из устоявшихся в военном деле стереотипов показали свою нежизнеспособность. При этом война продиктовала новые формы и приемы ведения боевых действий. Они задали направление, по которому развивалась мировая военная мысль в период с 1905 по 1914 гг. Поэтому Русско-японскую войну справедливо можно считать своеобразной репетицией Первой мировой войны.
Военные неудачи России оказали влияние на ситуацию внутри страны. Война стала катализатором революционных событий 1905–1907 гг. Поражение в войне с Японией заставило пересмотреть основные ориентиры внешней политики России, ее военную доктрину. Опыт, полученный во время Русско-японской войны, оказал влияние на дальнейшее развитие российских вооруженных сил и военно-морского флота.
Узел противоречий, приведший к столкновению между Россией и Японией, начал затягиваться задолго до начала боевых действий. Торпедной атаке русской эскадры на внешнем рейде Порт-Артура японскими миноносцами 27 января 1904 г. предшествовала накалившаяся добела внешнеполитическая обстановка на Дальнем Востоке. О том, что война разразится со дня на день, в январе 1904 г. были прекрасно осведомлены не только в Токио, но и в Санкт-Петербурге. Со второй половины 1890-х гг. Россия и Япония целенаправленно и планомерно вели военные приготовления друг против друга. К исходу 1903 г. возможности мирного урегулирования противоречий между двумя державами были практически исчерпаны. На русские владения на Дальнем Востоке неотвратимо надвигалась война…
Однако времени, когда поля Маньчжурии станут театрами боевых действий, предшествовали годы и десятилетия вполне мирного освоения русскими Дальневосточного края. Это освоение явилось естественным продолжением русской колонизации Сибири.
Еще в середине XVII в. русские землепроходцы, направляясь через Сибирь на Восток, вышли к реке Амур. В 1645 г. Василий Поярков спустился по Амуру в Охотское море. В 1648 г. экспедиция Семена Дежнева открыла пролив, отделяющий Азию от Северной Америки. Одновременно с ними ряд поселений основывают по Амуру экспедиции Ерофея Хабарова. В 1697–1699 гг. Владимир Атласов с отрядом казаков совершил экспедицию на Камчатку. В 1711–1713 гг. русские казаки предприняли два похода на Северные Курилы и обязали их местное туземное население – айнов – платить России дань. В 1739 г. русская экспедиция доходила до острова Хоккайдо. К 1779 г. русскими были покорены айны, населявшие Южные Курилы. Это вызвало ответную реакцию со стороны Японии, также претендовавшей на острова. Несмотря на политику изоляции, которую японское правительство проводило с 1639 г., опасаясь проникновения в страну европейцев, на острова Курильской гряды была отправлена японская военная экспедиция. В течение 1786–1788 гг. японцы вытеснили русских с Итурупа и Кунашира, южных островов гряды. Эти события можно считать первым в истории русско-японским столкновением.
Долгое время русские границы на Дальнем Востоке не были зафиксированы в межгосударственных договорах. Русская колонизация края в силу его удаленности шла крайне медленно. Во время Крымской войны англо-французская эскадра подвергла бомбардировке Петропавловск-Камчатский и русский поселок на острове Урупе. Одновременно под давлением европейцев и американцев Япония вынуждена была открыть для иностранной торговли некоторые свои порты. Период самоизоляции Страны восходящего Солнца подходил к концу.
В 1855 г. был подписан первый русско-японский договор – Симодский трактат. По нему Россия признавала права Японии на Итуруп и Кунашир. Между двумя странами были установлены дипломатические отношения, русские корабли наряду с судами других держав стали заходить в крупные японские порты. Открытым остался вопрос о принадлежности острова Сахалин. В ходе миссии вице-адмирала Е.В. Путятина была достигнута договоренность о стоянке русских военных кораблей на острове Цусима.
В этот же период был заключен ряд соглашений между Россией и Китаем. С 1689 г. действовал Нерчинский договор. Он был заключен русским правительством с правившей тогда в Китае маньчжурской династией Цин после череды локальных конфликтов. Тогда к Китаю отошло Приморье, часть Приамурья и некоторые другие территории, ранее занятые русскими. В 1853–1855 гг. Россия организовала Амурскую экспедицию во главе с Г.И. Невельским. Были заняты низовья Амура и Приморье. Ослабленный в войнах с европейцами Китай не протестовал. В 1858 г. по Айгунскому договору Китай признал владением России Приамурье (по левому берегу Амура до Тихого океана и по реке Уссури). В том же году по Тяньцзинскому договору Россия формально получила в Китае те же права и привилегии, что и западные державы. Отдельно было оговорено право беспошлинной торговли вдоль русско-китайской границы.
В ходе успешной дипломатической деятельности графа Н.Н. Муравьева-Амурского было определено общее направление границ России с западными владениями Китая. По Пекинскому договору 1860 г. за Россией был признан Южно-Уссурийский край. В 1864 г. Чигучагским протоколом границы России на Дальнем Востоке были уточнены и в 1869 г. на них были поставлены пограничные знаки.
После продажи Аляски в 1867 г. Североамериканским Соединенным штатам окончательно оформились геополитические пределы русской колонизации в восточном направлении. Государственные границы очертили области, тяготевшие к России естественным образом. К тому же, они имели более или менее однородные климатические условия с уже осваивавшейся длительный период Сибирью.
В 1870—1880-е гг. был заключен еще ряд соглашений с дальневосточными соседями. В 1875 г. по русско-японскому договору Япония отказалась от притязаний на южную часть Сахалина. Остров целиком отходил России. Взамен Япония получала всю Курильскую гряду.
В конце 1870-х – начале 1880-х гг. произошло несколько кризисов в русско-китайских отношениях. В 1879 г. из-за набегов маньчжур на приграничную территорию русские войска были придвинуты к границе и готовились оккупировать часть западного Китая. На Дальний Восток была послана в демонстрационных целях эскадра адмирала С.С. Лесовского. Кризис сорвал ратификацию взаимовыгодного Ливадийского договора между Китаем и Россией.
В 1881 г. между странами был подписан Петербургский договор. Он устанавливал право беспошлинной торговли по обе стороны русско-китайской границы на глубину в 50 верст. Соглашение 1886 г. в Хунчуне подтвердило прежние границы между Россией и Китаем.
Между тем, в конце 1880-х – начале 1890-х гг. русский Генеральный штаб в дежурном порядке разрабатывает планы обороны на случай нападения Англии и Китая на Тихоокеанское побережье России. Япония в этих планах не рассматривается даже как потенциальный противник…
Освоение громадных территорий на Дальнем Востоке шло достаточно медленными темпами. В последней трети XIX в. государство неоднократно пыталось стимулировать этот процесс. Площадь Амурской и Приморской областей (без Охотско-Камчатской окраины) составляла около 100 тыс. кв. км. Земли эти в целом не были благоприятны для земледелия. Большинство почв были песчаными или супесчаными. Лишь в Амурской области между реками Зеей и Буреей слой плодородного перегноя составлял 120–180 см, а в низинах доходил до 7 м. Это был так называемый «местный чернозем». От Бурей до Хабаровска шли песчаные, илистые, глинистые почвы. В Уссурийском крае преобладал серый суглинок. Его слой составлял от 60 до 180 см. В Приамурье уровень пригодной для земледелия почвы не превышал 240 см. Все это вынуждало крестьян после 6–8 лет использования менять земельные участки.
Климат в большинстве регионов русского Дальнего Востока преобладал континентальный. Ему свойственны долгая холодная зима и жаркое лето. Средняя температура воздуха января в Благовещенске составляла —25,5 °C, июля – +21,4 °C. В Хабаровске —25,2 °C и +20,8 °C соответственно. С июля на Дальнем Востоке начинался период сильнейших дождей. Это могло продолжаться до пяти месяцев. В августе случалось по двадцать три дождливых дня. Хлеб в таких условиях рос плохо. Озимые не удавались, пшеница мельчала и вырождалась. Кормовые культуры становились водянистыми и малопитательными. Ставку приходилось делать на местные культуры: кукурузу, бобы, чумизу, гаолян. В приморских районах нередко случались наводнения. Кажущееся многоземелье на Дальнем Востоке для крестьян во многом оказывалось фикцией.
Не лучше обстояло дело и с животноводством. Домашний скот страдал от чумы, сибирской язвы, эпизоотий. Обычные оводы на Дальнем Востоке достигали тридцати с лишним сантиметров в длину. В край постоянно приходилось ввозить мясо и молочные продукты. К 1900 г. пара рабочих быков стоила здесь 350 руб. С 1901 г. быков стали возить из Австралии. Это обходилось дешевле, чем из России – по 250 руб. за пару. Лошадь к началу XX в. обходилась от 50 до 200 руб. в зависимости от породы. Корова – от 40 до 80 руб. К тому же, постоянно наблюдалось вырождение скота.
Тем не менее, в 1854–1855 гг. в низовьях Амура расширяются русские поселения казаков и крестьян из Иркутской и Забайкальской областей. С 1856 г. шло русское заселение левого берега Амура. В 1857 г. туда определили на жительство 62 женщины из ссыльно-каторжных. В 1858 г. на Дальний Восток по настоянию графа Н.Н. Муравьева-Амурского была отправлено за казенный счет 1000 крестьянских семей. Из них добрались до определенных им мест поселения около 500 семей. Остальные осели в Сибири. В 1860 г. по Амуру расселили 586 человек из числа штрафных солдат. В 1861 г. туда же принудительно отправили часть забайкальских казаков.
С 1858 г. заселялась и Приморская область. За год туда были также принудительно переселены 150 семей казаков и штрафных солдат. В 1860 г. был основан Владивосток. Первоначально в нем было всего чуть более 100 жителей. Через 10 лет население города выросло до 2500 жителей, а к 1903 г. составляло более 50 тыс. человек.
В бухте Находка в 1862 г. поселили 100 человек финнов. Однако колония не прижилась и в 1871 г. ее дела были ликвидированы.
К этому числу переселенцев следует добавить около 7 тыс. крестьян, приехавших на Дальний Восток из центральной России до 1869 г. В 1870-х гг. число прибывающих на восточную окраину России увеличивалось незначительно.
Следующий виток в переселенческой политике приходится на середину 1880-х гг. С 1883 г. в Амурскую область ежегодно прибывает несколько сот крестьянских семейств. По инициативе генерал-губернатора Д.Г. Анучина в течение 1882–1885 гг. сюда морем было перевезено за казенный счет 754 семьи крестьян и рабочих. На одну душу в Дальневосточном крае отводилось 15 десятин земли. Переселенцам выдавались орудия труда, слагались все недоимки. Их на 5 лет освобождали от налогов. Семьям переселенцев, в качестве условия, требовалось быть достаточно состоятельными. Капитал каждой из них должен был составлять не менее 600 руб. У государства можно было получить ссуду на несколько лет. Выплаты за кредиты составляли от 10 до 60 %. Однако многие крестьяне, пожив на Дальнем Востоке, переселялись обратно в Сибирь. Там на эти средства можно было стать зажиточным хозяином, а в Приамурье лишь с трудом поддерживать существование из-за дороговизны и скудости почв. С 1883 по 1897 гг. в Южно-Уссурийский край переселилось 24 405 человек, главным образом из Полтавской и Черниговской губерний. В Приморский край до 1890 г. переселилось всего 4500 крестьян.
По данным переписи 1897 г., в Амурской области проживало 103 909 человек, в Приморской – 112 944 человека. Плотность населения составляла примерно 1 человек на 4 кв. км. С 1898 по 1903 гг. в Уссурийский край было переселено еще 46 тыс. человек. Население Амурской области с 1892 по 1901 гг. возросло на 25 тыс. человек.
Следует отметить, что речь идет исключительно о русском населении Дальневосточного края. Большая его часть в деревнях и селах занималась сельским хозяйством. В Хабаровске, Владивостоке, других менее крупных городах практически все русские жители состояли на государственной службе. Реально выходило, что весь край содержала казна.
В 1894 г. было принято решение усилить военные элементы на Дальнем Востоке. Переселиться предложили семьям донских и оренбургских казаков. На время пути им выдавалось кормовое довольствие. Дополнительно к этому – годовой провиант. Каждый глава семейства мог располагать ссудой в 600 руб. под 6—10 % годовых, из которых 50 руб. составляло безвозвратное пособие на лошадь. Казне переселение каждой семьи обходилось в 700 руб. К 1895 г. было переселено всего лишь чуть более 200 семей. Дальше этого дело не пошло. Русское население оседало на восточных рубежах империи крайне неохотно.
С 1860 по 1904 гг. освоение только Дальневосточного края обошлось русской казне более чем в 300 млн руб. Из этих денег можно было бы выложить ленту ассигнациями пятирублевого достоинства от Тихого океана до Санкт-Петербурга. 90 % составляли расходы на армию, флот и администрацию. Средства брались с прибыли центральных губерний России.
Предполагалось, что эти вложения в ближайшее время окупятся. Основная ставка делалась на развитие международной торговли. В связи с этим в 1891 г. началось строительство Великого Сибирского пути. Его протяженность составила более 7 тыс. верст. Переезд по этой железной дороге из Европы в Шанхай через Владивосток занимал от 18 до 20 дней. Морской путь через Суэц отнимал около 45 дней. Путешествие по Канадской железной дороге вместе с океанскими переходами требовало более 35 дней. На этом фоне Транссибирская железнодорожная магистраль, проходившая по территории Российской империи, становилось одной из важнейших мировых транспортных артерий. Резко возросло значение Владивостока как города-порта.
Вместе с тем стремительно менялась внешнеполитическая ситуация на Дальнем Востоке. В связи с ослаблением Китая в 1870-х – 1881-х гг. наметилось экономическое и политическое отпадение от него Кореи. Россия и Япония проявили живейший интерес к корейским делам. Бывшие гвардейские офицеры В.М. Вонлярлярский и А.М. Безобразов разработают в этой связи проект извлечения экономической выгоды из принадлежавших Кореи районов по реке Ялу. Этот проект найдет поддержку в самых высоких российских деловых и властных кругах. В перспективе это объективно приведет к столкновению интересов России и Японии уже непосредственно на материке.
С другой стороны, обострение японо-китайских противоречий по корейскому вопросу послужило одной из причин возникшей в 1894 г. войны между Японией и Китаем.
К 1895 г. Китай потерпел поражение в этом конфликте. По условиям Симоносекского мирного договора от 17 апреля 1895 г. предполагался переход в сферу интересов Японии южной Маньчжурии, Ляодунского полуострова, Тайваня и Кореи. Однако, по требованию европейских держав, условия договора были пересмотрены в сторону значительных для Японии ограничений. Весомым аргументом оказалась собравшаяся в апреле 1895 г. на рейде китайского порта Чифу мощная русская эскадра. Она включала в себя 11 вымпелов, в их числе броненосец «Император Николай I» и 5 крейсеров. Русские были готовы немедленно начать боевые действия. Открыто противостоять России на тот момент Япония не решилась. Токио пошел на уступки во внешней политике.
Отстаивая собственные интересы на Дальнем Востоке, европейские державы обосновались в китайских тихоокеанских портах: Германия в Цзяо-Чжоу (Циндао), Франция – в Куанг-Чу-Ванге, Англия – в Вей-Хай-Вее. Русские войска заняли значительную часть Маньчжурии. У России появилась возможность более удобного и короткого железнодорожного сообщения через территорию Китая. 27 августа 1896 г. был заключен договор о строительстве дороги в Маньчжурии. Началось создание КВЖД (Китайско-восточной железной дороги). К 1903 г. ее протяженность составила 2377 верст. Стоимость одной версты с учетом всех прямых и косвенных вложений составила 252 тыс. руб.
В 1898 г. был заключен договор о русской аренде у Китая Ляодунского полуострова вместе с военно-морской базой Порт-Артуром. В отличие от Владивостока, на четыре месяца в году покрывавшегося льдом, это был круглый год незамерзающий порт. Русская Тихоокеанская эскадра стала базироваться в Порт-Артуре.
Одновременно и значительно быстрее Порт-Артура стал развиваться торговый порт на Ляодунском полуострове – город Дальний (Даляньван). В кратчайшие сроки к Дальнему и Порт-Артуру была проведена железная дорога, связавшая их с КВЖД. К 1903 г. в Дальнем насчитывалось более 20 тыс. жителей. Дальний и Владивосток оказались удобнейшими воротами русской международной торговли.
Центром деловой активности в Маньчжурии на рубеже XIX–XX вв. стал город Харбин. К 1903 г. в Харбине проживало более 15 тыс. русских и большое число европейцев. Журнал «Русское богатство» в 1902 г. давал следующую зарисовку Харбинской жизни:
«В Харбине больше иностранцев, чем русских [имеются в виду европейцы. – А.Л.] <…> Натолкнешься на чисто русскую физиономию, но и та преобразилась в тип “маньчжурца” – тип, находящийся в ближайшем родстве с описанным Щедриным в свое время “ташкентцем”.
Глаза приобретают более хищный блеск, рот расширяется ввиду увеличения аппетита, на голове появилась огромная мохнатая папаха, чтобы наводить подобающий страх на “неверных”. Типу этому свойственно носить сапоги бутылками, рубаху-косоворотку, толстую цепь нового золота на жилете, выступать храбро и с гордостью посреди улицы и давать в ухо нахалу-манзе [местному жителю. – Л.Л.], если он осмелился не посторониться перед носителем культуры».
В описываемый период на Дальнем Востоке можно было сделать баснословные состояния – весь регион в начале 1900-х гг. очень динамично развивался экономически.
Однако Япония, униженная европейскими державами после ее победы над Китаем в 1895 г., стремилась взять реванш на внешнеполитической арене. Это привело к обострению ее противоречий с Россией, проявлявшей наибольшую активность в Дальневосточном регионе. В японских правящих кругах уже в 1895 г. сделали ставку на силовое решение русско-японских противоречий. Дело оставалось за тщательной и планомерной подготовкой к войне. Эта подготовка заняла девять лет и была закончена японцами к 1904 г.
Уже к моменту начала войны с Китаем японская военная организация добилась внушительных успехов. После реставрации Мейдзи в 1868 г. Япония, как известно, вступила в эпоху бурных перемен. В 1872 г. в стране была введена всеобщая воинская повинность. Все острова были поделены на шесть территориальных округов. К 1894 г. японская армия насчитывала шесть армейских и одну гвардейскую дивизию. Всего 64 тыс. человек по штатам мирного времени и 171 тыс. человек – по штатам военного. Сухопутная армия была устроена по образцу армий ведущих европейских держав – Пруссии (с 1871 г. – Германской империи) и Франции. Из этих стран в Японию приезжали многочисленные военные консультанты. В свою очередь, многие японские офицеры проходили подготовку в военно-учебных заведениях Европы. Управление сухопутными войсками Японии осуществлял военный министр. За боевую подготовку отвечал начальник Главного штаба. В его ведении находились Главный и Генеральный штабы. В 1900 г. возник военный совет по вопросам военных и морских дел. Совет подчинялся непосредственно Микадо.
К 1903 г. японская армия насчитывала 150 тыс. человек по штатам мирного времени и 350 тыс. – по штатам военного.
К 1904 г. территориальная система комплектования включала уже двенадцать дивизионных округов. Один дивизионный округ делился на два бригадных. В один бригадный округ входили два полковых участка.
К началу Русско-японской войны сухопутные войска Японии подразделялись на три категории. В первую входила постоянная армия. Она имела запас и рекрутский резерв. Вторую категорию составляла территориальная армия. Она предназначалась для защиты страны. В третью категорию были включены народное ополчение и островная милиция.
Призыв в армию осуществлялся с 20 лет. Срок действительной службы составлял три года. Еще четыре года и четыре месяца отслужившие действительную службу числились в запасе и пять лет – в резерве. В народное ополчение могли призываться мужчины от 17 до 40 лет. По первому классу ополчения числились отслужившие в постоянной или территориальной армиях и отбывшие свой срок в резерве. По второму классу – все остальные.
Подготовка призывников продолжалась четыре месяца. К началу войны с Россией Япония выставила по штатам военного времени 375 тыс. человек. Они были объединены в 13 дивизий и 13 резервных бригад при 1140 орудиях. Из них 65 % составляла постоянная армия для действий вне японских островов.
Всего людской ресурс Японии на тот момент составлял около 2 млн человек. За время Русско-японской войны он был исчерпан почти целиком.
Высшей тактической единицей японской армии была дивизия. Она состояла из двух пехотных бригад. Каждая бригада включала два полка пехоты трехбатальонного состава, один кавалерийский и один артиллерийский полки. Артполк насчитывал 36 орудий. Половина орудий в шести дивизиях из тринадцати были горные. Дополнительно к этому каждая японская дивизия имела 6 тыс. носильщиков и обозный батальон.
Для сравнения заметим, что в русской армии тактической единицей был корпус. Обычно русский полк был четырехбатальонного состава. В сибирских корпусах, как и в японской армии, полки насчитывали по три батальона.
Японская пехота была вооружена пятизарядными магазинными винтовками Арисака образца 1897 г. с примыкающимся штыком-кинжалом. На вооружении также сохранялись устаревшие винтовки системы Мурата.
Полевую и горную артиллерию составляли 75-мм орудия Арисака образца 1898 г. с предельной дальностью трубки 4,5 км. Калибр крепостной и осадной артиллерии доходил до 280 мм. Она импортировалась с немецких заводов Круппа и Шнейдера.
Японский пехотинец на марше носил на себе в общей сложности более 20 кг снаряжения. За спиной у него были ранец с манерками, скатанная шинель, полотнище палатки. Через грудь подвешивался холщовый патронташ и на поясе два патронных подсумка на 90 патронов. Общий носимый японским солдатом запас патронов был от 200 до 300 штук. На поясном ремне висела саперная лопатка или другой шанцевый инструмент. В ранце – сухой паек на два дня. К этому следует добавить винтовку, телескопические шесты для общей палатки и ряд более мелких вещей. В частности, каждому шестому нижнему чину японской армии полагался маленький компас в виде брелка казенного изготовления.
Военные приготовления позволили японской армии к 1904 г. занять место в одном ряду с армиями ведущих мировых держав. В японо-китайской войне 1894–1895 г. был получен боевой опыт. Вторично японские войска были введены в Китай во время волнений на рубеже XIX–XX вв. Они входили в число контингентов, посланных мировыми державами для наведения порядка в Поднебесной. Тогда предполагалось, что 13-тысячный японский корпус временно оккупирует территорию южной Маньчжурии. Однако южная Маньчжурия была занята русскими войсками, охранявшими порядок на КВЖД. Дорога подвергалась набегам хунхузов – разного рода мятежников и бандитов. После наступившего в Китае успокоения большая часть иностранных войск была выведена из страны.
Готовясь воевать с Россией, Япония прекрасно понимала, что успеха можно добиться только при условии безоговорочного господства на море. Это диктовалось географическими особенностями будущего театра боевых действий.
К 1895 г. японский императорский флот не шел ни в какое сравнение с российским. Он был малочисленным и состоял из безнадежно устаревших уже на тот момент кораблей. В Японии принимается грандиозная судостроительная программа. Она была рассчитана на 10 лет. Программа носила явно выраженный антироссийский характер. По ее завершении японский флот должен был стать сильнейшим в Дальневосточном регионе. Большинство заказов японцы разместили на лучших судостроительных заводах за границей, главным образом, в Англии. 30 января 1902 г. был заключен англо-японский союз. В надвигающемся конфликте на Дальнем Востоке Англия заняла прояпонскую позицию.
