Зов Айнумосири
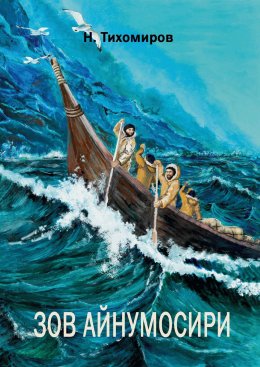
© Издательство «РуДа», 2023
© Тихомиров Никита, 2023
© Бариева К. С., иллюстрации, 2023
Глоссарий
Айны – народ, обитавший на южном побережье Камчатки, Курильской гряде и на о. Хоккайдо Японского архипелага.
Айнумосири – от «айну» – человек и «мосири» – земля, страна.
Аттуси – айнская верхняя одежда.
Инау – имеющие относительно человекоподобный облик палочки с завивающейся древесной стружкой, использующиеся айнами и некоторыми другими народами Дальнего Востока в ритуальных целях.
Керкер – женский меховой комбинезон у чукчей.
Кухлянка – верхняя меховая одежда народов Севера.
Луораветланы – 1. Одно из самоназваний чукчей: «настоящие люди». 2. Этническая группа, входящая в более многочисленную группу коренных народов Севера «эскимосы».
Ительмены – коренное население Камчатского полуострова. По русским источникам известны как «комчадалы».
Ояси – злой дух, демон в религии айнов.
Парка – зимняя меховая одежда.
Полог – внутренняя тёплая часть яранги.
Тиуичгын – выбивалка, сделанная обычно из оленьего рога, с помощью которой очищали от снега одежду и меховые сапоги.
Чоттагин – внешняя, холодная часть яранги.
Яранга – жилище чукчей, делавшееся из жердей и шкур.
Часть первая
1
Высокое разнотравье плавно колыхалось под лёгким движением прохладного воздуха, наплывающего со стороны сокрытого от глаз залива. Стебли с лёгким шуршанием расступались и кланялись, едва ощутимо дотрагиваясь до лица. Подёрнутые сизой дымкой тумана, трепетали погружённые в тень пышно разросшиеся ивы. Деревья, обступившие прогалину со всех сторон, тихо перешёптывались, степенно покачивая лохматыми ветвями; сквозь раскидистые кроны струились лучи повисшего в безбрежной синеве солнца: рассеянное свечение, проникая через подрагивающую листву, отбрасывало мягкие желтоватые блики на влажную, дышащую густыми испарениями землю. Обильная роса, то тут, то там вспыхивающая искристым жемчугом, гроздьями мелких капелек усеяла всё вокруг, словно здесь прошёл неведомый дух и неосторожно рассыпал по лесу прозрачные бусины своего ожерелья. Тёмно-зелёный мох, рваными лепёшками приставший к холодной шероховатой поверхности каменных глыб и затянувший дряхлые стволы давным-давно упавших лесных великанов, жадно вбирал в себя разлитую в воздухе влагу: казалось, если поднапрячь слух, можно даже услышать его глубокие томные вздохи.
Над головой звучало переливчатое многоголосье птичьих трелей, которое, проникая в самое сердце, будило в душе сладкое торжество от сопричастности к тому бурному восторгу, что испытывало каждое существо в этом лесу пред животворящей всепоглощающей силой нового прекрасного утра. Горящий огненный диск небесного светила медленно подымался вверх, согревая остывшие за ночь долины и сопки. Сонная чаща пробуждалась.
От прикосновений влажной травы на грубой ткани подвязанного широким кожаным поясом запашного аттуси[1] оставались тёмные расплывчатые пятна. Из— за того, что, продвигаясь вперёд, траву приходилось раздвигать руками, пальцы стали мокрыми и начали зябнуть. Жёсткие стебли хлестали по голым коленям, а сырая земля холодила ноги, обутые в мягкую обувь из рыбьей кожи. Перед глазами резвилась растревоженная мошкара, назойливая и кусачая; приходилось то и дело отирать ладонью лицо и шею, чтобы смахнуть с них рассвирепевших кровопийц. Впрочем, все эти неудобства были привычны и не слишком беспокоили, так как к их преодолению учили каждого мальчишку с самого раннего детства. Секрет был прост: нужно было всего-навсего не обращать внимания на неприятные ощущения своего тела. К тому же солнце, пробиваясь сквозь просветы под сень деревьев, уже припекало плечи; скоро станет и вовсе жарко, и эта жара загонит насекомых в самые глухие и тёмные закутки дебрей. Высокая, выше человеческого роста, трава закрывала обзор, и потому, в очередной раз раздвинув завесу из стеблей, он неожиданно натолкнулся на замшелую корягу, перегородившую путь. На одной из её ветвей, причудливо изогнувшейся вдоль земли, сидела, раздувая зоб, ярко-зелёная лягушка. Заметив человека, она повернула голову в его сторону и насторожённо приподнялась на передних, похожих на человеческие руки, лапках. Несколько мгновений она пристально всматривалась в сторону замершего человека, а потом вновь прильнула к покрытой тонким налётом зелени толстой ветви, на которую падал скупой луч света. Рука отпустила отодвинутые стебли, и они вновь сомкнулись, спрятав отдыхающую лягушку. И тогда он подумал, что это вовсе не лягушка, а маленький «хозяин», принявший её облик. Придя к такому убеждению, он отступил на два шага и, стараясь не слишком шуметь, пошёл в обход того места, где лежала коряга.
Снова зашуршала трава. Ноги вновь скользят по липкой земле. Лёгкий бриз освежает лоб и колышет длинные волосы, перехваченные широкой полосой из истёртой облупившейся кожи.
Он миновал прогалину, отделявшую его от леса, и, продравшись сквозь переплетения дикой виноградной лозы, углубился в зелёный сумрак, царящий у подножия величественных деревьев. Из отдаления доносился глухой рокот стремительного водного потока. Слегка отклонившись вправо, он пошёл сквозь густой папоротник прямо на этот звук. Обходя гигантские заскорузлые стволы ильмов и тополей, перескакивая через узловатые корни, которые обвивали покрытые красным налётом камни, он, ускоряя шаг, быстро продвигался вперёд. Зазубренный наконечник остроги, притороченной к поясу, цеплялся за гибкие ростки вьющегося сумаха, отрывая мелкие листочки и пучки бородатого лишайника. Шум бьющейся в камнях воды нарастал, становился всё ближе и ближе, но непроницаемая стена густого подлеска закрывала обзор, не позволяя глазу заглянуть слишком далеко, словно стремилась сохранить таинственность.
Сверху, снизу, справа и слева, впереди и сзади – одна только переливающаяся разными оттенками зелень: от сине-зелёной до изумрудной. И густой, удушающе-терпкий запах испарений да мошкара, забивающаяся в ноздри, глаза и уши.
Впереди показался залитый солнцем просвет: здесь когда-то стояло большое дерево, но его корни подгнили от старости, и налетевший с моря ураган опрокинул массивный ствол на землю. Погибшее дерево давно превратилось в вереницу трухлявых остатков, съеденное грибами и мхом. Теперь эту крохотную залитую солнцем полянку посреди девственного леса покрывали, поблёскивая мясистыми стеблями и большими листьями, заросли пучки[2] и чемерицы.
Перепрыгнув через пару опутанных зелёным моховым покрывалом стволов, он обошёл поляну стороной и упёрся в непролазное переплетение ветвей черёмухи. Повертев головой туда-сюда, он заприметил разрыв в чащобе и, торопливо ступая, направился к нему. Земля совсем разбухла, кое-где были камни и кочки, похожие на странные, покрытые зелёными волосами головы. Попадались мелкие лужицы стоячей, затянутой тиной воды. А шум беснующейся речушки перерос уже в настоящий грохот, заглушивший все остальные звуки: не слышно было теперь ни шорохов листьев, ни птичьих заливистых песен, всё потонуло в гвалте бурлящей на перекатах воды. Оставалось проникнуть за черёмушник, чтобы очутиться на каменистом берегу спускающегося с гор потока. Он отцепил острогу от пояса, чтобы она не цеплялась за ветки и не затрудняла тем самым движения, подхватил её одной рукой и, пригнувшись, стал передвигаться меж сходящихся над головой тонких и гибких стволов. Шаг за шагом, отклоняя протянувшиеся к нему ветки, он преодолевал черёмушник. Вот под ногами уже показались обточенные весенними водами оголённые спилы больших валунов. Едва не задевая коленями до земли, он пролез под низко наклонённым стволом и оказался на открытом месте, прямо пред широкой россыпью округлых камней, меж которых пенилась, дробясь на мелкие рукава, кипела пузырящимися водоворотами маленькая речушка. По склонившимся над потоком стволам, цепляясь за сучья, перекинулись, точно зелёная паутина, бесчисленные щупальца змееподобных лиан. Высоко над землёй сверкали просвечивающие на солнце листья. Причудливые сполохи бликов и отражений, смешанных с прозрачными брызгами, крутились на неспокойной поверхности воды, прыгая то вверх, то вниз, перескакивая друг через друга. Он совсем недолго смотрел на этот загадочный танец переливающихся цветов и бликов, но всё равно почувствовал, как голова закружилась. Поймал себя на том, что какая-то неведомая сила увлекает его принять участие в этой игре. Он отвернулся, встряхнул головой и прошептал слова охранительного заклинания: кто знает, не проделки ли это какого-нибудь ояси[3], который хочет затуманить его разум и погубить? Ведь духи – и добрые, и злые – вездесущи, они находятся повсюду, куда ни кинь взгляд: в деревьях, под камнями, в реке и в воздухе.
Осмотрев свою острогу, он улыбнулся, предвкушая радость от предстоящей рыбалки, ради которой он сегодня встал вместе с восходом солнца и прошёл немалый путь через дремучий лес. Повернул вверх по речке, чтобы подыскать более удобное для лова место. Следуя левым берегом, прыгая с камня на камень, перескакивая через отдельные рукава мелководной речушки, он миновал крутой поворот и остановился у тихой заводи, образовавшейся у большого камня, который вдавался в русло едва ли не до середины. С противоположной стороны в заводь тоненьким водопадом ниспадал крохотный ручеёк, протекающий меж замшелых глыб. Вот это подходящее место: пристроившись на камне с острогой в руках, можно поджидать рыбу, выскакивающую из перекатов и останавливающуюся в заводи, чтобы перевести дух. Да, действительно, место было отменное; он уже не в первый раз приходил сюда. Ещё в детстве вместе со своим отцом начал ходить на эту речку. Не всегда рыбачил у этой заводи, но случалось. Он сбросил на землю сплетённую из жёстких стеблей травы сумку, которую собрала ему мать, отложил острогу.
Сначала нужно было задобрить «хозяев» этого места, ведь место это, ко всему прочему, камуи, священно, а значит, здесь обитали те, кому нужно обязательно принести жертву: не только ранке куру и ранке мат – воду роняющие муж и жена (они вон там живут, в том самом маленьком водопаде, где ручей сливается с речкой), но также дух – смотритель реки.
Найдя сухую ивовую ветку среди камней, он достал из-за пояса длинный нож с обёрнутой кожаным ремнём рукоятью, отсёк сильным ударом изрядный кусок, слегка подравнял его, снял кору, после чего, выбрав один конец, стал стругать его, но так, чтобы стружки не отлетали, а образовывали бахрому. Занимался он этим делом старательно и долго. Наконец, придирчиво осмотрев изделие со всех сторон, он удовлетворённо хмыкнул и, зажав палочку в руках, резво перескочил по камням через поток и воткнул её в покрытую мхом кочку рядом с маленьким водопадом. Сделав это, он почтительно поклонился и вернулся к тому камню, на котором оставил острогу. Теперь, полагаясь на покровительство и доброе отношение «хозяев», можно без опаски и за дело приниматься.
Подобрав острогу, он пристроился на камне и склонился над тёмной водой, приготовившись ждать удобного для удара момента. Вокруг бойко шумели каскады воды, в которых, как он знал, водилось великое множество всевозможной рыбы, большой и малой. Ему хорошо было видно дно заводи, покрытое мелким щебнем и илом, откуда выглядывали пузатые окатыши да гнилые бурые палки. С низовьев речки, где она вливалась в широкий морской залив, тянуло запахом водорослей, выброшенных прибоем на берег. Он с удовольствием втягивал носом свежий прохладный воздух, смешивавшийся с тяжёлым прелым дыханием безбрежного древнего леса, и улыбался оттого, что находится в чудесном потаённом месте, где всё вокруг – и лес, и вода, и воздух – камуи.
Но рыба почему-то не шла. Он долго вглядывался в подрагивающую, будто пульсирующую воду под камнем, но в заводи по-прежнему было пусто, только неутомимый ручейник, борющийся с сильным течением, без устали волочил свой склеенный из частичек дресвы домик по шершавому неровному дну. В траве над берегом шебуршали, перебегая от кочки к кочке, от одной валежины до другой, полосатые весёлые бурундуки, собирая с земли семена и травки. По веткам кустов скакали мелкие пёстрые птички; от их непрестанных прыжков тонкие, усеянные длинными листочками ветви покачивались, но из-за шума гремящей реки ни шорохов, ни даже птичьей трескотни слышно не было. Оторвав взгляд от речного дна, он невольно залюбовался окружающим: порханием птиц у кустов черёмухи; плавным, невесомым полётом бабочки в невидимых воздушных струях под сенью леса; беззаботной толкотнёй неугомонных бурундуков; с неистощимой силой клокочущим потоком, который словно стремился обогнать время и выброситься на ровный простор бухты, навстречу горячему утреннему солнцу. Привыкший к одинаково серым дням, иногда с дождями, иногда без, повторяющимся с завидным постоянством, его глаз радовался ярким переливам красок на убранстве леса, безоблачному голубому небу, всё более разогревающемуся воздуху, возне и копошению живности; радовал его и тихий ветерок, пробегающий по верхушкам трав и покачивающий дружелюбно распростёртые лапы папоротников. Редко выпадают дни, подобные этому. Всё чаще с моря приходят густые туманы, цепляющиеся за вершины гор, сыплющие мелким дождём тучи или воющие в ночи ураганы, срывающие с домов крыши, опрокидывающие сушила, крушащие исполинские вековые дубы и пихты. В такой день, как этот, всё улыбается, а неспокойная человеческая душа, как говорят его соплеменники, вытягивается.
Потом под водой появилась тень. Сильным взмахом он поразил рыбу острогой и извлёк её из воды. Подняв свой первый улов на вытянутых руках над головой, он поблагодарил «хозяев» и отнёс трепещущую рыбину на берег, подальше от воды. Когда он вернулся и снова занял прежнее место на камне, нагнувшись над рябью воды, ему показалось, что маленький водопад на противоположном берегу как-то по-особому булькнул: это роняющие воду муж и жена порадовались его добыче. И в этом он усмотрел добрый знак: значит, они приняли его жертву (а ведь всем известно, как духи и боги охочи до инау[4] – «кудрявых» шестов, вырезанных из ивовых прутьев) и теперь обязательно одарят его неплохим уловом и ему не придётся возвращаться в деревню с пустыми руками.
Солнце всё выше поднималось над лесом. Его жгучие лучи, проникая в просветы, уже не просто грели спину, но обжигали. Пришлось даже аттуси скинуть, чтобы взопревшая спина пообсохла. На берегу между камней, возле сумки, уже блестело крупной чешуёй несколько рыбин, радуя сердце. Прохладный бриз, дувший с устья речушки, сменился жарким дыханием разогревшегося на песчаных пляжах воздуха. Уже не было той прохлады, что витала над землёй ранним утром и приятно освежала и бодрила тело. Под пологом зелёного леса повисла гнетущая духота. Вскоре стало понятно, что рыбы больше не будет. Тогда он, глубоко вздохнув, распрямил затёкшую спину, почувствовал, как застоявшаяся кровь растекается по усталым мускулам. Вытянул ноги и, упёршись руками в горячий камень, с наслаждением запрокинул голову, подставив лицо под замысловатую игру светлых и тёмных пятен. Зажмурил глаза: вот свет заиграл на его веках, а вот снова стало темно, опять свет и снова тень. Потом встал, прошёлся по камню, встряхнул головой и, нагнувшись низко над водой, опустил в неё руки, ощутив, как бодрящий холодок поднимается от кончиков пальцев к локтям и выше. Затем зачерпнул пригоршнями воды и омыл вспотевшее лицо и шею, лёг на живот и стал жадно пить. Вместе со студёной водой в него вливались новые силы, прогоняя нахлынувшую было сонливость. Утолив жажду и дождавшись, пока уляжется поднятая им рябь, он всмотрелся в своё подрагивающее отражение. Чудно как-то видеть самого себя. Он провёл ладонью по слегка опушённой верхней губе, потеребил жиденький пух на подбородке, заглянул в свои карие глаза. Чудно! Губы его растянулись в широкой улыбке, исказив нанесённый на них узор татуировки. Он приподнялся, а затем ударил по воде, взметнув фонтан ослепительных брызг, засмеялся, глядя, как в поднятых волнах исчезло его отражение; высоко подпрыгнул и соскочил с камня на берег, разбросав мелкий щебень.
Из сумки он достал небольшую округлую лепёшку, одну из тех, что мать испекла ещё с вечера, перед тем как лечь спать, и, отщипнув от неё кусочек, отправил в рот. Быстро работая челюстями, он вдруг понял, как сильно проголодался. Ел торопливо. Даже поперхнулся. Извлёк из сумки украшенную письменами и рисунками чашку, зачерпнул воды и попил, чтобы прочистить горло. Такие чашки везут люди с Южных островов Яван, выменивая их на лахтачьи шкуры и тюлений жир у загадочного народа сисам[5].
После еды он нанизал пойманных рыб на верёвку, ополоснул руки и присел на камень, на котором рыбачил, прислушиваясь к шуму гремящей реки и вглядываясь в зелёный полумрак зарослей, наслаждаясь величественным умиротворением этого затерянного среди лесов места, где всё вокруг было камуи. Перед уходом он хотел ещё раз соприкоснуться с таинственной силой, хотел, чтобы она вошла в его плоть, напитала собой его помыслы, чтобы можно было хоть небольшую частицу её унести с собой в родной котан[6]. Он смотрел на пенистые, перехлёстывающие через камни воды реки, на замшелые глыбы, между которых выбивался маленький водопад, на гордо вздымавший кудлатую головку инау, на папоротники, подступившие к самому берегу, на деревья и ощущал, что за всем этим стоит недоступный человеческому глазу другой мир – мир камуи, мир богов и духов, населяющих всё и вся. Он вдыхал этот воздух, наполненный множеством самых разных запахов и их оттенками, чувствуя, как вместе с ним в него пробирается и нечто иное, что приобщает его к этому месту, к этим деревьям, камням и к этой говорливой речке, то, что роднит его с «хозяевами».
А потом вдруг всё поплыло: лес вокруг него завертелся, куда-то отодвинулся, вода захлестнула его и исчезла, ушёл куда-то, провалился и камень, на котором он восседал; всё смешалось: краски, предметы и ощущения, и он словно повис в пустоте…
Но вот он снова услышал завывание ветра на дальнем мысу и грозный рык прибоя в прибрежных скалах. Влажный, пахнущий морем воздух холодил лицо. Он приоткрыл веки. Взгляд упёрся в низкий потолок из оглаженных палок, крытых дерновиной. Ниже сквозь полумрак проступала каменная кладка стен полуземлянки с торчащими из щелей пучками сухой травы и мха. За спиной его из темноты раздавалось тяжёлое сиплое дыхание. В очаге пищал недогоревший уголёк, тонко-тонко, словно комар. На земле перед входным проёмом, завешанным драной оленьей шкурой, расплылось пятно тусклого света. Сбоку от входа лежали кожаные доспехи с нашитыми деревянными дощечками, которые, спустя столько времени, так никто и не очистил от грязи; рядом, подпирая стену, стояло копьё. При взгляде на оружие, он вспомнил о своём луке: где же он? Пошарил рукой возле лежака: ага, здесь. Успокоенно вздохнул и потянулся. Заныла нога: пару дней назад, когда ходил на равнину в поисках какой-нибудь дичи, споткнулся и подвернул ногу. Поморщившись от жжения в связках, повернулся на бок и сел – заскрипели жерди лежанки.
Потёр лицо ладонью, шмыгнул, широко зевнул. Опять этот сон. Сколько раз уже видел его, даже и не вспомнишь. Снится одно и то же: лес, река, камни, да ещё тот водопад, возле которого всегда стоял хотя бы один инау. Он и сам как-то ставил такой же, но только не летом, как во сне, а поздней осенью. И отец всегда ставил. Перед глазами вновь замелькали красочные видения, ему даже почудилось, что стали слышны шорохи листвы и отдалённый шум перекатов. Как здорово было бы сейчас оказаться там, во сне, подальше от этого проклятого места, куда их забросила злая судьба. Грустная мечтательная улыбка пробежала по его губам. Он затряс головой и пышные волосы разметались по его плечам. Затем провёл пальцами по жиденькой бороде. Вот она и выросла, эта борода, а когда он покидал дом, подбородок покрывал лишь лёгкий пушок, над которым часто смеялась маленькая сестрёнка, пытаясь уязвить его мужскую гордость. Сейчас, при воспоминании об этом, он ещё раз улыбнулся. Круглое личико сестрёнки, сморщившееся от приступа заливистого смеха, вытеснило из его мыслей образы, навеянные сном. Как она умела смеяться: звонко, заразительно и долго. Так умеют смеяться только дети. И даже когда она смеялась над ним, невозможно было долго держать на неё обиду; слыша её смех, хотелось и самому смеяться, хотя порой она изливала свою бурную радость совсем не ко времени. Так было и в тот раз, когда к ним в хижину зашёл старик-сказитель. Набилось много народу, полный дом: всем хотелось послушать странствующего хранителя древней мудрости. И вот, когда все наконец расселись, возня прекратилась и собравшиеся приготовились внимать словам старца, произошла заминка, которая бы не имела никаких последствий, не будь в доме его сестры: сказитель как-то неловко подвинулся и издал некий глухой звук той частью тела, на которой сидел; все замерли, не желая смущать старика. Всё обошлось бы благополучно, но тут в дело вмешалась сестра: она хихикнула, сначала робко и несмело, но затем, видя какое замешательство отразилось на лице незадачливого сказителя, перешла на свой обычный, похожий на звон бьющего в камнях источника, смех. Люди, сидевшие подле неё, испуганно отшатнулись. Зато дети, которых, кстати, в хижине отца тоже собралось немало, отозвались на это не меньшим весельем. Да, сестрёнка тогда внесла немалую сумятицу в торжественное действо, к великому огорчению отца, в доме которого в открытую посмели потешаться над столь досточтимым гостем. Детей, впрочем, вскоре удалось успокоить, правда, для этого матери пришлось выставить маленькую насмешницу за дверь; гораздо большие усилия отцу и ещё нескольким взрослым охотникам пришлось приложить, чтобы удержать на месте раздосадованного и взъярившегося старца, который попытался покинуть дом, где подвергся осмеянию. Лишь ценой долгих и настойчивых извинений да изъявлениями своего глубочайшего почтения взрослым удалось остановить сказителя и усадить обратно на мягкую циновку. Чтобы о произошедшем в его доме не узнали в других селениях, отцу пришлось задобрить старика и людей, его сопровождавших, щедрыми дарами, иначе не снести бы ему позора. А сестрёнке тогда здорово досталось от матери; отец же не сказал ей ни слова, стараясь поскорей забыть о конфузе.
От пленительных, полных очарования грёз об утраченном прошлом его оторвал и вернул к мрачной действительности резкий сухой кашель, раздавшийся за спиной. Повернувшись на звук, он всмотрелся в мертвенно бледное лицо Человека-Инуита[7]. Тот лежал под ворохом прокисших шкур, которые удалось подобрать на берегу после злополучного шторма. Да, совсем плох: два дня как он уже не приходит в себя. Не помогали ни отвары, которые они для него готовили из собранных трав этой скупой холодной земли, ни те жалкие капли мясного бульона, которые удавалось влить ему в рот: злой корень болезни всё крепче прорастал в теле несчастного, отбирая последние силы. Человек исхудал, осунулся, кожа его сморщилась, приобретя какой-то безжизненный пепельно-серый цвет, под глазами залегли глубокие тени. А они, как ни старались, ничем не могли ему помочь: не действовали даже молитвы, обращённые к Высшим божествам – хозяева жизни оставались глухи к их просьбам. Наверное, так и должно было быть. Это чужая земля, значит, и боги здесь другие, и до своих, привычных, обитающих совсем в другом месте, им никогда не докричаться. А чужие боги были немы: не было от них никакой помощи.
Он встал с ложа, прошёлся, пригнув голову, по земляному полу, остановился у очага. Хотел было разжечь огонь, но обнаружил, что закончились дрова. Придётся сначала прогуляться вдоль залива и пособирать плавник, благо его здесь в избытке. Ничего не поделаешь. Он с опаской и отвращением покосился на вход, откуда проглядывал серый свет и задувал холодный ветер, зябко передёрнул плечами. Поднялся, подвязал волосы налобной повязкой и, скрипнув зубами, решительно шагнул к выходу. Едва отодвинул полог, как жгучий порыв солёного ветра ударил по щекам, заставив прищуриться. Втиснув голову поглубже в меховую парку, он сбежал вниз по сыпучему откосу, на котором находилось жилище, очутился на неширокой полосе глинистого пляжа, усыпанного мелким синеватым щебнем.
По заливу гуляли пенистые валы, ударяя в торчащие из воды тёмные камни. Ветер подхватывал ледяные брызги и кидал их на берег. Он пошёл вдоль влажной черты, которую оставляли набегавшие волны, к выпиравшему горбом далёкому мысу на южной стороне залива. Вокруг никого не было. Только низкие дождевые тучи, грозный океан и пустая неприветливая равнина, полого поднимавшаяся к западным увалам. Да ещё этот пронизывающий ветер.
Береговые отрывы, у основания которых они вырыли свою полуземлянку, остались позади. Но и здесь весь плавник они уже давно собрали. Нужно было идти дальше, вон за те обглоданные морем и льдами стволы, что белели далеко впереди.
Он шёл и время от времени посматривал вправо на пустынное пространство, покрытое клочками побуревшей травы и мелким стелющимся кустарником, в надежде увидеть кого-нибудь из своих. Они ещё затемно, перед рассветом, ушли попытать охотничьего счастья за увалами, где на всхолмлённой равнине паслись небольшие стада оленей и бродили одинокие волки. Хорошо бы сегодня им повезло: осталось всего три небольших куска копчёного мяса, которых хватит, чтобы наесться лишь одному из них. А ведь их пятеро. От мысли о еде в животе заурчало, и он торопливо сглотнул голодную слюну.
Подбирая на ходу тонкие гладкие палки, он складывал их в приметные кучи, чтобы потом оттащить к жилищу.
Над морем опять пошёл дождь, скоро и сюда доберётся. Он подобрал ещё одну палку. Надо возвращаться, а не то дождь все дрова намочит. Вот уже на волосы и плечи упали мелкие, как пыль, капли. Он ещё раз взглянул на ревущее море, которое уже сошлось серой колышущейся пеленой водяных струй с низким небом. Снова гневался морской старец, поднимая крутые, украшенные белой пеной волны, и с силой и злобой бросая их на оголённый ветрами берег.
Сбросив ношу возле очага, он не мешкая поспешил за следующей охапкой. Ходить пришлось несколько раз. Возвращаясь с последней кучей плавника на руках, он заметил, что над округлой кровлей закурился жидкий, какой-то несмелый дымок. Молодой охотник даже приостановился от удивления. Неужели Человек-Инуит развёл огонь, поднявшись с нар, на которых пролежал столь долго, борясь за жизнь с огненной горячкой, засевшей в его груди. Но этого быть не может. Только что сам видел: больной, исходя горячим потом, лежал без движения. Как же он мог подняться на ноги? А может, охотники вернулись?
Почти бегом бросился он к хижине. В три прыжка взлетел вверх по откосу и, сдерживая разгорячённое дыхание, остановился перед шевелящимся на ветру пологом.
– Чего встал? Заходи, – донёсся из жилища знакомый голос.
Он откинул шкуру, заслонявшую проход, и ступил под низкие своды полуземлянки, стараясь не задеть головой тонкие жерди перекрытия. Свалил принесённые дрова справа от входа и подсел к очагу, возле которого, подогнув ноги, сидел заросший густой чёрной бородой человек в меховой шапке. Его глаза беспокойно блуждали по стенам. Молодой охотник посмотрел на его худое, изборождённое морщинами лицо, но тот не ответил на взгляд, лишь тихо покашлял, прочищая горло.
– Попусту бегал, – сказал, наконец, бородач после долгого молчания. – Оленей видел, да приблизиться не смог. Не дают подойти. Ни копьём, ни стрелой их не достать. Совсем трудно стало. Раньше олени паслись прямо здесь, да мы их распугали. Теперь они стали боязливы и едва завидят человека, как сразу убегают. Камуире-куру и Панысь не захотели возвращаться, сказали, что ещё походят, пока дождя нет. – Говоривший посмотрел на светлые контуры входа, заслонённого шкурой, прислушался к шуму разошедшегося дождя, а потом добавил: – Должно быть, скоро и они придут.
Опять помолчали.
– А есть нечего, – сказал бородач и зло хлопнул рукой по колену.
– Ещё немного мяса осталось, – попытался успокоить его собеседник, но тот лишь махнул рукой:
– Этим сыт не будешь. – Бородач смахнул шапку с головы и почесал выбритый лоб. Затем развязал повязку и встряхнул длинным хвостом волос, росшим от макушки. – Придётся нам, Канчиоманте, как медведям, ложиться в спячку на всю зиму! – он мрачно рассмеялся, а потом глухо простонал: – Как жить дальше станем?
Канчиоманте вдруг понял, что даже этому сильному человеку, отважному и неустрашимому воину, выигравшему не один поединок с грозными соперниками, никогда не отступавшему перед лицом опасности, достойно отвечавшему на любой вызов, сейчас так же тяжело, как другим. Храбрейший из храбрецов, силач Нибури-эку представился ему теперь совсем в ином обличье. Теперь перед ним был исхудавший, избитый невзгодами и непосильными лишениями человек, а не легендарный герой, слава о котором гуляла по островам. Впалые щёки, потерявшие прежнюю силу руки, оборванная одежда, в которой Нибури-эку казался каким-то измельчавшим и слабым, преждевременно состарившимся. Куда же подевался тот славный муж, ратный товарищ дяди Камуире-куру, с которым они вместе обошли едва ли не все известные земли и моря и плечом к плечу не раз бросались с палицами в руках на кровожадных жестоких врагов? Где он? Как и все остальные, он сильно изменился за то время, что они провели на этом бескрайнем пустынном и угрюмом побережье. Да, изменился не только Нибури, но все они, и сам он. Канчиоманте чувствовал какую-то перемену внутри: как будто что-то в нём надломилось, ослабло, будто по сердцу пошла кривая изгибающаяся трещина. Именно так он представлял себе своё теперешнее состояние: трещина, появившаяся на сердце, из которой уходит, улетучивается, словно пар над кипящим варевом, жизненная сила. Когда этот пар совсем исчезнет и сердце остынет – он умрёт.
– Я уже не знаю, что нам делать, – вновь заговорил Нибури-эку, оглаживая широкую, спускающуюся на грудь бороду. – Чтобы уплыть отсюда, нам нужна лодка. Из древесины её не сделаешь, потому что деревья здесь не растут, а те, что выбрасывает море, – никуда не годятся. Можно, подобно жителям Цупки[8] и народу Человека-Инуита, сделать её из шкур. Но для этого нам надо набить много оленей, а лучше – тюленей, что в последнее время нам не удаётся. Хорошо хоть, пока стада паслись поблизости и до них было легко добраться, мы успели добыть шкуры и сшить себе тёплую одежду, а то совсем пропали бы. – Он умолк и усмехнулся в пышные усы. – Не пропали тогда – пропадём теперь. Скоро зима, а я слышал, что зимы здесь страшные. Без хороших запасов нам не дожить до весны. Все перемрём, как мухи по осени.
Канчиоманте почувствовал, как нарастает его озлобление. Зачем Нибури-эку говорит такие слова, зачем накликает на их головы погибель? Так нельзя говорить, злые духи услышат и накажут. Да и не только поэтому. О том, что их положение далеко не завидно, здесь знали все. Только никто об этом не говорил прямо. Все, с молчаливого согласия, хотели оставить хоть слабую надежду на то, что всё обойдётся и они смогут выбраться из плена Голодной Северной Земли на родные, близкие сердцу острова своего народа, хотели оставить, пусть даже обманчивую, надежду на какое-то чудо. А теперь вот Нибури-эку произносит такие речи. Хорошо, что остальные не слышали. Канчиоманте подозрительно глянул на застланные травой и сухими водорослями нары: Человек-Инуит по-прежнему спал тяжёлым болезненным сном. Почему верный друг дяди, человек, казалось бы, такой твёрдый, уже сдался? Почему проявил слабость перед ним, самым молодым из отряда, почему высказал свои дурные мысли вслух?
– Будут, будут ещё олени, – твёрдо сказал Канчиоманте, вновь пробуя заглянуть в глаза собеседника. – Добудем их шкуры и уедем отсюда.
Нибури-эку нахмурил брови, заёрзал, поднялся на ноги и вышел под дождь, резким взмахом руки отбросив тонкую оленью шкуру на выходе. Видно, слова молодого человека больно задели его. Канчиоманте лишь пожал плечами, протянул остывшие пальцы к огню, весело скачущему на ворохе поломанных дров.
Застонал, заухал, как сова, заворочался Человек— Инуит. Молодой охотник подошёл и склонился над ним, потрогал его горячую руку. Больной зашёлся в приступе кашля, что-то забубнил на непонятном языке, заелозил ногой по нарам.
После Канчиоманте долго сидел у огня один, следя за игрой языков пламени и думая о далёкой родине. Нибури-эку куда-то ушёл, несмотря на дождь, и долго не возвращался. Иногда Канчиоманте подходил к выходу и проверял, не окончился ли дождь. Сидеть в пропитанной сыростью и духом болезни хижине ему не хотелось. Кабы не дождь, он сейчас взял бы лук и стрелы и тоже ушёл бы в холмы. Даже если бы ничего не подстрелил, всё равно прогулялся бы, размял ноги – всё лучше, чем здесь сидеть без дела, не зная, чем заняться. А дядя с Панысем, видно, далеко ушли, раз до сих пор не появились, дождь-то уж давненько идёт. А может, просто не хотят возвращаться с пустыми руками; может, решили до вечера побродить в поисках дичи. Эх, сейчас бы оказаться вместе с ними.
Канчиоманте ещё посидел немного у огня, а потом выглянул наружу. Дождь немного умерил силу. Вокруг было пустынно. Нибури-эку нигде видно не было. Взгляд молодого охотника обратился на каменную надмогильную кладку, что виднелась в некотором отдалении, справа от полуземлянки. Снова вспомнились пророческие слова Нибури-эку. На душе стало ещё гаже прежнего. А может, прав он и им действительно суждено всем умереть лютой голодной смертью в этом безвестном, населённом неведомыми духами краю. Что, если так? Значит, так суждено, решил он. Значит, появятся и ещё свежие могилы, если такова беспощадная воля богов. Вспомнился и тот день, когда здесь появилась эта первая (последняя ли?) могила.
Кохко был первым, кто заболел. Ещё Человек-Инуит на ногах стоял твёрдо, когда Кохко, выходец с острова Сюмусю[9], ближе всех расположенного к земле Цупка, стал вдруг кашлять и жаловаться на слабость. Прошло всего несколько дней, и он слёг. Дядя стал поить его травяными отварами, но это помогло лишь вначале; затем Кохко стало ещё хуже: появился жар, а потом стал сильнее болеть живот. Бывало, по полдня просиживал он в кустах над обрывами, мучаясь животом. Но никто сильно не тревожился: люди ведь часто болеют. Думали, что вскоре болезнь сама собой уйдёт и Кохко снова будет здоров. Но, вопреки ожиданиям, тому делалось всё тяжелее. Он начал сильно худеть, несмотря на то, что в их хижине каждый день было жирное оленье мясо; часто по ночам их будили его крики, и они, подходя к нему, замечали, что он мечется по постели весь в холодном поту. Дядя Камуире-куру умел немного шаманить и стал совершать тайные обряды над ложем больного, выгоняя для этого всех из хижины. Но и это не приносило желаемого облегчения бедняге Кохко. Он начал всё чаще проваливаться в другой мир, иногда целыми сутками находясь в бреду. А когда приходил в себя, то не радовался уже ни яркому солнечному дню, ни вкусной пище, ни лицам своих товарищей.
Однажды утром они обнаружили, что он не дышит. Начали готовиться к похоронам. Одели Кохко как могли лучше: каждый отдал какую-нибудь свою вещь – кто набедренную повязку, скатанную из волокон крапивы, кто запасную обувь, кто пояс. Затем вырыли неглубокую яму поблизости от жилища и перенесли туда тело покойного. В могилу положили переломленные лук и стрелы усопшего, разбитую чашку. Уже после этого накрыли лицо, правда, не тканью, как требовал обычай, а куском шкуры, и начали заваливать яму камнями. Сверху над холмиком воткнули палку с отходящим к небу сучком. После этого, молчаливые и подавленные, вернулись в хижину, показавшуюся им теперь какой-то унылой и чужой. Пиршества, которому надлежало быть, не устраивали, лишь вкусили немного оленины. Не всё справили ладно, но по-другому не получилось. Вот так и не стало улыбчивого и лёгкого душой Кохки; так тихо и бесславно завершил он свой земной путь и ушёл в Похна-котан, к нижним людям, в страну предков.
Канчиоманте вернулся к огню, а потом прилёг на нары, закинув ногу на ногу. Лежал, пялился в потолок, думал, вспоминал родных и не заметил, как задремал.
Его разбудили громкие голоса. Говорили снаружи. Канчиоманте сел на ложе и охватил тяжёлую голову руками, перед глазами кружились огненные искорки.
– Что спишь, охотник! – раздался над самым ухом зычный голос дяди.
Канчиоманте поднял на него припухшие со сна глаза. Камуире-куру, стоя возле очага, широко улыбался. В руках он держал связку настрелянных куропаток. Потряс добычей перед лицом ещё не проснувшегося до конца племянника и, разжав пальцы, опустил её на землю.
– Сегодня будем сытыми, песни петь будем, – сказал он и скинул с плеч лук и колчан со стрелами, подвесил оружие на палку, торчащую из каменной стены, и протянул руки к огню. – Как он? – Камуире-куру кивнул на Человека-Инуита. Молодой охотник неопределённо повёл плечом. Дядя вздохнул.
Снаружи, шурша мелкими камушками, топтался Панысь.
– Панысь добыл песца, – сказал Камуире-куру, вновь улыбнувшись. – Сегодня духи-хозяева были к нам благосклонны, одарили хорошей добычей.
Вошёл Панысь, заискивающе посмотрел на хозяина, затем кивнул Канчиоманте и присел на пол, положив на колени тушку песца. Мех искрился, ловя отсветы волнующегося пламени.
– Молодец, Панысь, – похвалил дядя своего усиу[10], как понял Канчиоманте, уже не в первый раз. – Хороший мех добыл.
Панысь, невысокий человек с густыми усами и небольшой, подрезанной бородой, несколько раскосыми глазами, некогда пухлый, а теперь уже похудевший, как и все остальные, смущённо склонил голову. Затем из мешочка у пояса, стягивающего пёструю кухлянку[11], он извлёк короткий изогнутый нож и, подхватив песца и птиц, вышел наружу. Небо, как успел заметить Канчиоманте, пока полог не запахнулся за спиной усиу, заметно просветлело. Он широко зевнул, почесал макушку. Дядя меж тем скинул промокшую одежду и торбазы[12], подвинул обутые в меховые чулки ноги к огню. Канчиоманте развесил его вещи на жерди, перекинутой от стены к стене над очагом. Дядя, наслаждаясь теплом, блаженно закатил глаза.
Вскоре вернулся Панысь. Насадив птиц на рожки, он воткнул последние вокруг огня, а мясо песца, разрезав его на мелкие кусочки, нанизал на шнурок и повесил под кровлей для просушки.
Когда в жилище запахло сочным зажаренным мясом, явился хмурый Нибури-эку. Но, едва втянув большими ноздрями вкусные запахи, витавшие в воздухе, он смягчился лицом, морщины, залёгшие вокруг его глаз разгладились.
– Подходи, брат, – пригласил его Камуире-куру, указывая на место справа от себя. – Подходи и присаживайся, есть будем. Панысь хорошо приготовил.
Нибури-эку крякнул, как старый селезень, и на его губах, почти спрятанных под усами и бородой, заиграла довольная улыбка.
Канчиоманте оглядел собравшихся у очага людей. Теперь все были в сборе: услужливый раб Панысь, великий торговец Камуире-куру – его дядя, славный воин Нибури-эку да тихо покоящийся на ложе у дальней стены Человек-Инуит. Такие непохожие, собравшиеся вместе из разных уголков обетованной земли, они расселись вокруг общего очага, под кровом одного жилища, словно семья: Панысь – родом с большого-пребольшого острова Сахарен мосири[13], уже давно ставший усиу дяди Камуире-куру – брата матери Канчиоманте, родившийся на Уруппе[14], и Нибури-эку, как и сам Канчиоманте – выходец со Средних островов. И ещё Человек-Инуит – отпрыск большого и сильного народа, чья земля лежит в стороне Тьмы и Холода, народа отважных морских охотников и китобоев. Теперь все они здесь, гневом Повелителя Вод заброшенные на негостеприимное побережье чужой земли, суровой и совершенно пустой, такой непохожей на их собственную.
2
Слава о великих деяниях Камуире-куру обошла все острова Айнумосири: о нём знали и жители Большой Южной земли – Яун-гуру, и те, чьи котаны располагались на Срединных островах, и на острове Сахарен мосири, знали его люди земли Цупка. Везде и всюду побывал знатный торговец и мореход и, сколько ни странствовал, нигде не мог задержаться надолго: дальние страны, в которых ещё не успел побывать, настойчиво звали его к себе, а он не в силах был усмирить свою жажду познать весь Средний Мир, шёл на этот зов. Снаряжённые им лодки исходили все моря вдоль и поперёк, снабжая товарами обитателей даже самых окраинных захудалых селений. Говорили, что случалось ему хаживать и в страну кровожадных сисам, где на шкуры и китовый жир он выменивал острые и блестящие, как солнечный луч, клинки и ножи, чудесные украшения, о которых мечтала каждая женщина, красивые, разноцветные халаты, лакированные чашки и горшки; всё это он доставлял в котаны айну, за что снискал великий почёт и уважение соплеменников. Бывало, в иных землях встречали его не только лаской и радушием, но и с оружием в руках; бывало, что и некоторые роды айну стремились силой завладеть его товарами. Тогда Камуире-куру брался за свои лук и стрелы, не брезговал и палицей, смело кидаясь в самую гущу схватки. В одной из таких стычек, когда челны Камуире-куру ходили на Сахарэн мосири, он пленил одного из сражающихся, тогда ещё совсем молодого воина-айна. Так Панысь, сын старейшины, стал усиу торговца.
А своего товарища Нибури-эку Камуире-куру встретил ещё раньше. Бесстрашный удачливый поединщик пристал к торговцу в числе первых, когда тот ещё не обладал ни славой, ни богатством и не имел даже собственного дома. Зато у Камуире-куру была большая, на полтора десятка человек, лодка. Дядя Канчиоманте быстро заприметил Нибури-эку и приблизил к себе. Сначала они просто скитались от острова к острову, били лахтаков[15] и дельфинов, участвовали в стычках мелких вождей, жадных до чужого добра. Они показали себя хорошими воинами, никогда не уступающими врагу, молва об их подвигах быстро облетела острова, и люди начали их узнавать: кто-то боялся и заискивал перед ними, кто-то выказывал смирение и покорность, а кое-кто – восхищение и даже уважение. Сказания об их подвигах, нередко приукрашенные не то излишней боязнью, не то чрезмерным почитанием, передавались из уст в уста; вскоре и сказители заговорили о Камуире-куру и его товарищах.
Как-то Камуире-куру удалось выменять на Уруппе длинный клинок, изготовленный в стране сисам; за него он отдал много лахтачьих шкур одному старейшине. Вот тогда-то у него и возникла мысль заняться торговлей. Он брал в долг шкуры, жир, рыбу, мясо и прочие продукты промысла у жителей котанов Срединных островов и обменивал их в Яунгуру на другие вещи сисам. Затем, рассчитавшись с долгами, излишки оставлял себе. Спустя пять лет Камуире-куру стал одним из самых уважаемых и влиятельных людей Айнумосири. Знали его и как щедрого устроителя пиров, на которые всегда съезжалось множество гостей, и никто не уходил назад домой, не получив подарка. Устраивая медвежий праздник, дядя приглашал к себе домой самых больших вождей и шаманов, самых лучших сказителей. Богатства его были неисчислимы, влияние его так раздалось, что на Уруппе без него не созывался ни один совет, так как слово его было если и не решающим, то, по крайней мере, очень весомым.
Отец Канчиоманте познакомился с Камуире-куру, когда тот только начинал свои торговые плавания вдоль гряды островов. Торговец остановился на острове, где стоял котан рода Косатки. Камуире-куру был болен, а отец, приютивший его под кровом своей хижины, был знаком с хорошим знахарем и помог торговцу попасть к нему. С тех самых пор между отцом и Камуире-куру началась большая дружба. А потом случилось так, что Камуире-куру предложил отцу Канчиоманте упрочить их союз браком со своей сестрой, совсем молоденькой девушкой, только-только прошедшей Посвящение. Отец, едва увидев невесту, сразу влюбился в неё. Поспешно, по настоянию молодых, сыграли свадьбу, и мать Канчиоманте навсегда поселилась в котане рода Косатки, вдали от родного Уруппа.
Шло время. Камуире-куру часто приезжал на остров, где его сестра обрела своё женское счастье, и навещал её с мужем. Когда в семье появился на свет первый долгожданный ребёнок – мальчик, Камуире-куру подарил маленькому племяннику кинжал и пообещал счастливым родителям взять мальчишку под своё покровительство и защиту.
С самого раннего детства Канчиоманте знал своего дядю. Он бывал у них два-три раза в год и всегда привозил обильные дары и целую кучу таинственных историй о своих странствиях, за возможность послушать которые Канчиоманте готов был отдать всё. В те несколько дней, что Камуире-куру проводил в котане, мальчик не отходил от него, следуя за ним повсюду, куда бы тот ни пошёл. Торговец не тяготился привязанностью своего племянника, напротив, часто сам брал его на охоту и рыбную ловлю, обучал навыкам владения оружием и некоторым хитростям борьбы. Иногда вдвоём, уединившись на берегу залива, где сушились деревянные лодки, они просиживали у костра целые ночи напролёт. Мальчик, затаив дыхание, слушал казавшиеся ему волшебными истории о хождениях своего дяди по неведомым морям и островам, мечтая о том, что, может быть, когда-нибудь Камуире-куру возьмёт его хотя бы в одно из своих полных опасностей и приключений путешествий.
А когда подходило время и Камуире-куру начинал готовиться к отъезду, мальчик впадал в уныние: ему не хотелось, чтобы дядя уезжал; хотелось, чтобы он навсегда переехал к ним и жил в их деревне. Он даже мать просил, чтобы она уговорила своего брата остаться или, по крайней мере, погостить подольше. Но на все просьбы об отсрочке отъезда, тем более о том, чтобы остаться в котане рода Косатки, Камуире-куру отвечал улыбками или отшучивался: впереди его ждали великие дела и ему некогда было долго засиживаться на одном месте. Его всюду ждут, всюду он должен поспеть к сроку. И мальчику приходилось смириться и ждать новой встречи.
Канчиоманте знал, что где-то на Уруппе у дяди была семья, которая тоже видела его нечасто. Таким уж человеком был дядя: непоседливым и беспокойным, всегда находящимся в бесконечном странствии.
Когда Канчиоманте подрос и получил своё настоящее имя, после первой самостоятельной охоты на большого зверя, дядя подарил ему свой старый испытанный лук и полный колчан стрел. Юноша надеялся, что теперь дядя возьмёт его с собой, и даже попросил отца поговорить с ним. Но мать, услышав об этом, и думать запретила ему о подобном. Отец, поразмыслив, решил, что пока Канчиоманте слишком молод для таких путешествий, но заверил расстроенного сына, что, может, через год-два обязательно поговорит с Камуире-куру об этом. «Ещё не пришло время», – сказал он напоследок. На том разговор и кончился. Дядя, погостив, по обыкновению, несколько дней, опять подался куда-то, и грустный Канчиоманте вместе с отцом, матерью и маленькой сестрёнкой вышли на берег, чтобы его проводить. Канчиоманте долго стоял на каменистой косе, дольше остальных; даже когда лодки дяди и его людей скрылись за скалистым мысом, он всё продолжал стоять, словно вместе с лодками Камуире-куру в далёкое плавание ушла и его душа.
Камуире-куру не появлялся на их острове целых два года. До них доходили слухи, что он плавал к сисам, а после подался в далёкую землю Цупка, чтобы вести торг с тамошним народом. Другие говорили, что он ушёл на своих челнах к Сахарэн мосири, но никто ничего не знал точно, пересказывали слышанное от других. Знали только, что на своём Уруппе он не показывался уже год.
И вот однажды, в начале лета, в широкую бухту, на берегу которой, у самого устья реки, располагался котан рода Косатки, зашло пять лодок. Люди с оружием в руках высыпали на берег, чтобы встречать гостей. Схватив свои лук и стрелы, вместе со всеми на косу побежал и Канчиоманте. Мужчины, радостно потрясая копьями и палицами над головой, выступили вперёд, оттеснив от прибрежной полосы женщин и детей. На лодках, что подходили к берегу, люди повскакивали со своих мест и тоже приветственно закричали. Поднялся неимоверный шум. Челны ткнулись в каменистый берег, прибывшие на них вместе с обитателями котана оттащили лодки подальше от воды, чтобы их не унесло в море вместе с отливом. Канчиоманте с гордостью наблюдал, как его дяде Камуире-куру почтенно кланяются окружающие, а он, как и принято знатному человеку, отвечает им лёгким кивком головы. Гостей повели к дому старейшины, где слуги уже выставили на циновки сосуды с гречишной брагой, а женщины поспешно готовили угощение. Сколько было выпито в тот день браги, никто не знал. После того, как сосуды в доме старейшины опустели, Камуире-куру велел своему усиу принести с лодки запечатанные бочонки с хмельным напитком, привезённым из страны сисам. А сколько разговоров было в забитой людьми просторной хижине старейшины, сколько новых удивительных историй рассказал странствующий торговец поражённым слушателям! Канчиоманте сидел позади своего отца и слушал плавную речь дяди, повествующую о его хождениях за эти последние два года. За это время Камуире-куру объехал все земли Среднего Мира: был и у сисам, которые, по его словам, умеют строить из камня и дерева огромные, выше деревьев, дома и большие-пребольшие лодки, в которых могут разместиться разом все жители котана («Вот это да!»); был и у недружественных айну Сахарэн мосири; и на Цупку заглядывал. Люди внимательно слушали его рассказ, лишь иногда прерывая говорившего удивлёнными восклицаниями. «Вот это жизнь! – думал Канчиоманте, восхищённо взирая на широкую спину своего дяди. – Наверное, сам Хозяин Моря оберегает Камуире-куру и все духи, морские и те, что живут на земле, помогают ему. Столько всего повидать, в стольких землях побывать! Редкому человеку такое доступно».
Как и прежде, Камуире-куру пробыл у них недолго: торопился к жене и детям на Урупп. Лодки его отплыли в один из немногих погожих дней, но перед отплытием торговец о чём-то долго разговаривал с отцом Канчиоманте.
Спустя несколько дней отец позвал сына на рыбалку, на ту самую затенённую древним лесом речушку, в которую маленьким водопадом вливался ручей. И там, под замшелым пологом леса, он сказал Канчиоманте: «В конце лета руби бамбук, годный для выбелки стрел. Следующей весной поедешь с Камуире-куру в поход». Сердце юноши затрепетало, как лист на ветру, когда смысл сказанных отцом скупых слов дошёл до его сознания. Аж в глазах потемнело. Ноги пустились в пляс. Он закричал, засмеялся громко-громко. А отец, отступив на шаг, задумчиво покачивал головой, глядя на одержимого ликованием Канчиоманте.
Вечером, на исходе хмурого дня, Канчиоманте, покинув отдыхающих у жаркого очага соплеменников, спустился на влажный берег. Живот, набитый нежным куропачьим мясом, был тяжёл и мешал полностью разогнуться. Пройдясь немного вдоль накатывающих на берег волн, он остановился и присел на погрузившийся в ил крупный камень, приглаженный морскими льдами. Вытащив из-за пояса нож с костяной рукоятью, он провёл пальцем по матово отливающему цветом океанской волны лезвию. Да, должно быть, с него всё и началось. Первый подарок дяди Камуире-куру. Видно, знали уже боги, что Канчиоманте уготована такая судьба. Подаренный нож был знаком. Только непонятно каким: добрым или худым. Может быть, это было предостережение, чтобы родители задумались о будущем своего ребёнка. Может, потому и надоумили боги Камуире-куру подарить нож своему племяннику, чтобы предостеречь его от неверного выбора, зная наперёд, что может случиться, хотели уберечь Канчиоманте. А может, напротив, дар был знаком того, что ему суждено судьбою сгинуть в этой холодной обездоленной земле.
А что, если б ножа не было? Стал бы Канчиоманте тем, кем был сейчас: воином, человеком Камуире-куру? Захотелось бы ему тогда пускаться в столь опасное путешествие? Возможно, жил бы себе спокойно на родном острове в котане отца и матери и не знал бы бед; женился, растил бы детей, ловил рыбу, бил морского зверя.
А нож ли причина всему? Может быть, всё пошло ещё с первой встречи отца с Камуире-куру, может, уже тогда боги знали, что будет? Где же начало, где причина того, что сейчас он сидит на камне на этом злосчастном берегу? Непонятно было ещё и то, зачем боги обрекли его на такие испытания и конец вдали от родной земли. Должен же быть во всём этом хоть какой-то смысл.
Ему стало отчаянно жалко себя. Он склонил голову и потряс волосами, пытаясь стряхнуть с себя это недостойное чувство. «Зачем я здесь? Почему должен погибнуть? Почто боги уготовили мне столь презренную гибель – смерть от болезни и голода? Почему, если так было нужно, не могли даровать мне смерть на острие вражьего копья в пылу жаркой схватки? Не обидно было бы умереть».
Океан успокаивался. Шум разбивающихся о дальний мыс волн стал глуше. Ошмётки водорослей, выброшенных на берег за день, уже утратили свой насыщенный зелёный цвет и начали покрываться бурым налётом. Тяжёлые тучи, ещё совсем недавно ползущие над самой землёй, теперь поднялись выше и посветлели. Значит, завтра будет сухо. Ветер также усмирил своё неистовство, и теперь лишь слабое ненавязчивое дуновение его путалось в длинных волосах приунывшего Канчиоманте. Он глядел на рассыпанные по ещё непросохшему пляжу мелкие цветные ракушки и вспоминал тот день, когда он, охваченный радостным возбуждением и ожиданием чего-то необыкновенного, что ждёт его впереди, покинул вместе с дядей родной котан.
Поздней весной, когда из напитанной влагой посвежевшей земли показалась первая трава, а на деревьях только-только лопнули набухшие почки и прозрачный лес, точно его припорошило пыльцой, покрылся зеленоватой дымкой, в залив вновь вошли большие деревянные челны Камуире-куру. В тот год молодой охотник ждал появление своего дяди с особым нетерпением. Он заготовил целую груду тонких бамбуковых стеблей, забив доверху два отцовских хранилища, ещё приготовил целый горшок охотничьего яда, заменил тетиву на своём луке, выстругал новое древко для копья. Всё это он сделал ещё до того, как выпал первый снег, а всю зиму вместе с отцом занимался промыслом, расставляя ловушки в горах и побивая на отцовской лодке морского зверя. За долгую зиму мать сшила ему новую одежду и три пары обуви, которые пригодятся ему в долгом походе. Отец отдал Канчиоманте свои старые доспехи и мешочек с амулетами, приносящими удачу. Так что, ещё задолго до того, как по долинам и ущельям побежали стремительные потоки и реки вскрылись ото льда, сборы были закончены и для юноши началась пора томительного ожидания.
Но наконец долгожданный день наступил. Дядя Камуире-куру приехал. Два дня в котане царило веселье: люди пили душистую брагу, танцевали и пели. Участвовали во всеобщих гуляниях и родители Канчиоманте, но часто, перехватывая их взгляды, устремлённые на него, юноша замечал в них тайную грусть. В такие мгновения сердце его сжималось от боли и он даже готов был, отказавшись от задуманного, навеки остаться в котане. Но дядя, как всегда находившийся возле него, вновь возвращал ему присутствие духа и веру в себя, веру в иное, чем у других людей, предназначение.
Быстро пролетели два дня праздников, устроенных по случаю прибытия гостей. Настал день отплытия. Жители селения вышли на берег, где уже заканчивали приготовления люди Камуире-куру. Вот последние мешки с припасами уже погружены на челны, спущенные на воду и готовые отчалить. Камуире-куру уже занял своё почётное место рулевого на лодке, которая возглавит шествие челнов по открытому морю. Канчиоманте молча стоял перед своими родителями, не находя нужных слов. Отец тихим голосом напутствовал его, а мать, смиренно уронив голову на грудь, сдерживала подступившие к глазам слёзы. «А у отца-то в бороде и усах уже снег появился, – пришло вдруг в голову юноше; а он не замечал этого. – Вот как время летит… И у матери вокруг глаз залегли глубокие морщины. Скоро совсем состарятся…» Он поклонился родителям, улыбнулся сестрёнке, смущённо стоявшей поодаль, и, крутанувшись на пятках, быстрым шагом направился к дядиной лодке. Камуире-куру поднял весло, и челны отошли от берега.
Сидя на носу большой лодки, Канчиоманте долго смотрел на столпившихся у воды сородичей, а потом, когда крутой мыс закрыл от него родной котан, повернулся лицом к океану, навстречу свежему ветру.
Они шли на север. От острова к острову, всё дальше и дальше. Дядя вёз товары для мены на Цупку. По пути они останавливались в деревнях айну, раскиданных по многочисленным островам, и кое-что обменивали у жителей. В плавании им сопутствовала удача: дни стояли на редкость погожие, помогал попутный ветер. Иногда, чтобы пополнить запасы продовольствия, они, испросив разрешения у жителей какого-нибудь острова, охотились на тюленей или ловили рыбу в устье реки. Так, неторопливо, но уверенно они продвигались к конечной цели своего путешествия.
Канчиоманте, восседая на носу первого челна, разрезающего неспокойные воды океана, зорко глядел вперёд, поражаясь необъятным размерам Айнумосири. Он и не догадывался, что страна, где издревле обитает его народ, настолько велика. А ведь он, житель Средних островов, видел лишь меньшую часть этой земли: далеко на юге находилась огромная земля Яунтуру, граничащая с владениями сисам. «Как же огромен этот мир!» – поразился юноша, восхищённым взглядом скользя по колышущемуся простору беспредельного океана, сливающегося с небом и тёмной полоской суши где-то на северо-востоке. «И как только форель, плавающая в первородном океане и подпирающая хребтом Средний мир, справляется с этой тяжестью? – спрашивал он себя и не находил ответа. – Должно быть, она очень сильная и большая».
В плавании юноша познакомился с ближайшим помощником Камуире-куру, богатырём Нибури-эку – здоровенным коренастым детиной с длинной кудлатой бородой, бражником и повесой. Поначалу этот развязный и, как показалось Канчиоманте, грубый человек ему не понравился, тем более что слишком часто, даже по утрам, он был навеселе и отпускал едкие шуточки по адресу кого-нибудь из гребцов. И зачем только дядя так возвысил этого пьянчугу, недоумевал Канчиоманте, с презрением наблюдая за разнузданной непосредственностью толстобрюхого Нибури-эку. Но постепенно, по прошествии немалого времени, Канчиоманте понял, что не только этими неблагопристойными качествами отличался ближайший сподвижник дяди. Обладал он некоторыми, и весьма весомыми, достоинствами: он был хотя резок, но справедлив; умел быстро и с завидной безошибочностью разрешать самые невероятные споры и стычки, возникающие между людьми; умел, когда это нужно, подзадорить и ободрить вверенных ему подчинённых; был хорошим охотником и отменным рыбаком; много знал о подводных течениях и опасных подводных скалах, которые способны потопить лодку; был находчивым и предприимчивым; всегда оказывался рядом, когда что-то происходило или кто-то нуждался в помощи. Как узнал юноша несколько позже, Нибури-эку умел врачевать раны, знал некоторые лечебные травы и нужные в неспокойной жизни морского странника заклинания и молитвы. Из всех богов Нибури-эку более всего чтил и уважал Морского Старика, которому всякий раз перед отплытием из какой-нибудь бухты, где они останавливались на отдых, приносил обильные жертвы.
Наблюдая добрую привязанность между своим дядей и его ближайшим помощником, Канчиоманте невольно сравнивал их с мифическими братьями— первопредками айну, полубогами-полулюдьми, Окикуруми и Самайункуром, которые в незапамятные времена совместно противостояли неисчислимым силам зла. Подобно тем легендарным героям, Камуире-куру и Нибури-эку во всём были заодно, как будто их объединяла одна воля: иногда казалось, что они обладают общей душой, владеющей сразу двумя телами, – настолько похожими были их суждения и помыслы: словно перед тобой не два разных человека, а один. Они всегда действовали сообща, в спорах держали одну сторону, помогали друг другу во всех делах. Канчиоманте даже подметил очень интересную особенность: если одному из них нездоровилось, то и второй, казалось бы совершенно здоровый, становился понурым и не находил себе места.
…Лето уже было в самом разгаре, когда они миновали огромный, обдуваемый ветрами, безлесный остров Пара мосири, увенчанный грядой величавых горных вершин. Следующий остров – Сюмусю, был последним в цепи островов Айнумосири; дальше за проливом находилась таинственная земля Цупка. На Сюмусю, где у одного из гребцов – Кохки – жили родственники, они сделали длительную остановку. Погостив там несколько дней, они двинулись через пролив, и к середине дня их челны пристали к берегам Цупки, напротив небольшого селения, вокруг которого подымались округлые, покрытые густым лесом сопки.
Здесь они высадились и после обычного ритуала приветствия, предложили хозяевам котана привезённые товары. Камуире-куру лично распаковывал перед взволнованными, сбежавшими на косу людьми тюки и выкладывал на расстеленные циновки диковинные заморские вещи сисам. Его обступила галдящая толпа перекликающихся между собой, словно чайки, женщин, кидающих вожделенные взоры на свёртки мягких, как пух, сисамских тканей и лакированную, изукрашенную говорящими знаками утварь. Женщины и протискивающиеся между их ногами дети со всех сторон напирали на Камуире-куру и его людей, которые в ответ благодушно улыбались и извлекали из плетёных мешков всё новые и новые вещи, вызывавшие очередную волну восторга. Канчиоманте стоял позади и выглядывал через плечо дяди с не меньшим интересом, чем остальные; глазел на все эти красивые вещи, которые Камуире-куру без смущения расталкивал в протянутые руки, чтобы женщины смогли рассмотреть их поближе. Он не раз уже говорил своему племяннику, что человек, если он уже подержал или хотя бы притронулся к понравившейся вещи, не может уже потом вернуть её обратно – обязательно предложит за неё что-то взамен. Причудливые, переливающиеся на солнце ткани и халаты, скроенные из неё, вместе с горшками и плошками уже пошли по рукам в плотной толчее галдящих обитателей котана. Теперь уже к своим жёнам присоединились и мужчины. Через плечо Камуире-куру попросил Канчиоманте достать из тюка ещё пару лакированных деревянных чашек. Юноша склонился над мешком, извлёк из него сначала одну, а потом и вторую чашку; невольно задержал на них взгляд, рассматривая странные, похожие на каких-то букашек, знаки, оставленные на посуде мастерами-сисам. Сведущий человек, как знал Канчиоманте, мог без особого труда прочитать заключённый в них смысл. Юноша закусил губу: ему чтение чужеземных знаков было недоступно. Дядя повернулся к нему, нетерпеливо выдернул из его рук чашки, и они тут же исчезли в толпе.
Солнце уже начало опускаться к горам, когда женщины, наконец, угомонились. Товар, который всё это время переходил из рук в руки, был возвращён торговцам. Камуире-куру загадочно улыбался: он-то знал, что женщины ещё вернутся. Пока они лишь посмотрели, что могут им предложить, и теперь пошли к своим мужьям, чтобы объявить им, что именно надлежит купить в первую очередь. Но сначала меняться будут мужчины. Прежде чем они дойдут до приглянувшихся их матерям, жёнам и сёстрам тканей и посуды, они должны были приобрести кое-что более полезное.
Камуире-куру, видя, что всё больше мужчин подтягивается к разложенным товарам, смекнул, что подошло время для того, чтобы достать из мешков железные ножи, наконечники копий и стрел, бамбук и горшки с охотничьим ядом – всё то, без чего не может обойтись хороший охотник и благоразумный хозяин, заботящийся о благе семьи. Мужчины, в отличие от женщин, держались степенно и независимо: они деловито рассматривали оружие, негромко перебрасывались замечаниями друг с другом и, если что-то им приглянулось, обязательно расспрашивали о вещи Камуире-куру. Речь их, как заметил Канчиоманте, несколько отличалась от привычного говора айну и звучала как-то чудно: некоторые слова они произносили неправильно, и это сильно резало ухо. Он вновь и вновь оглядывал этих людей, но не мог найти в их внешности существенных отличий от жителей островов: айну да айну – те же бороды, бритые лбы, татуировка на губах, те же аттуси и набедренные повязки; лишь на некоторых из них были кожаные штаны и рубахи, несколько отличающиеся от покроя меховой одежды, принятой на островах.
Лишь к вечеру жители котана принесли Камуире-куру ценные меха и жир в обмен на связки тонкоствольного бамбука, бочонок с ядом, несколько крупных наконечников копий, десяток кинжалов и некоторое количество тёсел. В последнюю очередь выменивали сисамские и островные ткани и одежду. После обоюдовыгодного обмена приезжих гостей пригласили на пир.
А затем много дней, до самого конца лета, ездили они по береговым селениям айнов, живущих на Цупке. Камуире-куру держался вдоль восточного берега этой земли, но говорил, что и с запада Цупку также омывают воды океана. Местные жители были гостеприимны и добродушны, никогда не скупились и не обижались, даже если дядя Канчиоманте назначал высокую цену: его редкостные товары всем были очень нужны (даже бамбук, который плохо разбирали жители островов, здесь расхватывали буквально на глазах: не успеешь выложить вязанку, как приходится тащить новую). Канчиоманте наслаждался этим первым в своей жизни торговым путешествием: именно об этом он мечтал в безбородом детстве, часами просиживая на косе и с волнением вглядываясь в колышущиеся в сизой дымке просторы Великого океана.
Напоследок, перед тем как начать долгий обратный путь к островам Айнумосири, Камуире-куру решил дойти до селений чужих людей, с которыми айну Цупки делили эту огромную и богатую страну, тем более что на лодках ещё оставались кое-какие товары. «Нас хорошо там примут, – сказал Камуире-куру, когда племянник его высказал опасение, не станут ли они лёгкой добычей для копий и стрел этих чужеземцев, – вот увидишь! Это славные люди. У меня там много знакомых, – он лукаво улыбнулся, а потом добавил, – да и женщины у них шибко хорошенькие, просто камуи! Может, ты и себе невесту присмотришь, вдруг какая приглянется!» Канчиоманте от таких слов залился краской. Он, конечно же, не раз бывал с девушками, но о том, чтобы жениться, даже не думал; сначала он хотел заслужить почёт, уважение и богатство. Для этого и поехал с дядей. А он ещё смеётся над ним, предлагая взять в жёны какую-то чужеземку.
Они шли на лодках вдоль холмистого побережья, покрытого густым лесом, всё далее продвигаясь на север. Иногда в мелких заливах при устьях рек и ручьёв им попадались пустые посёлки тех загадочных людей, к которым они спешили добраться. В нескольких таких заброшенных деревнях они останавливались для ночлега. Канчиоманте ходил между странных, стоящих на столбах конических хижин и разглядывал кусочки битой посуды и осколки камней, из которых оставившие поселение люди изготавливали наконечники стрел, ножи и топоры. В одном из жилищ, зависшем над самым обрывом, он нашёл старую, местами издырявленную куртку и сразу вспомнил одежду айну из селений, раскиданных по оконечности Цупки: так вот откуда у них такая одежда – они переняли её у своих соседей.
Через семь дней плавания они заметили тонкие струйки дыма на лесистом острове, расположенном в самой глубине открывшегося перед ними залива. Дядя, покинув своё место кормчего, пробрался к Канчиоманти и, вглядываясь вдаль, прошептал: «Вот и добрались».
Лодки вошли в залив и стремительно заскользили по его тихим безмятежным водам к уже показавшемуся селению, откуда доносился звонкий заливистый лай собак.
С земли дул тёплый ветер, в котором восседавший на носу первого челна Канчиоманте ловил густой аромат хвои и перезревшей пучки. Юноша упоённо вдыхал его и вспоминал густые леса своего родного острова, по которым бродил с детства и знал, пожалуй, каждый укромный их уголок. Дядя сказал, что это селение будет последним; что, обменяв остатки товаров, они повернут назад и начнут плавание в Айнумосири. И, как признался себе Канчиоманте, это известие его обрадовало даже больше, чем он того ожидал: в последнее время ему было некогда думать о Срединных островах и своих родных, оставшихся там, – слишком много дел было, и вот теперь он понял, как сильно соскучился по своей прошлой безмятежной жизни в доме отца. Не то чтобы он разочаровался в полной забот и тягостей жизни, что вёл Камуире-куру со своими товарищами, нет. Ему нравилось путешествовать, нравилось встречаться с новыми людьми, любоваться красотами земель, о которых раньше знал только из чужих рассказов, но что-то внутри него влекло вернуться к родным и близким; хоть недолго, но побыть с ними, чтобы набраться сил для нового странствия.
…Думая о своём путешествии вдоль берегов Цупки, Канчиоманте, глядя на темнеющее небо, пытался вспомнить, не был ли ему явлен какой-то знак свыше, который мог бы ещё тогда указать ему его будущее; не было ли чего-то такого, что приоткрыло бы ему дальнейший ход событий, в стремительный водоворот которых он угодил? Был ли такой знак? Он упорно копался в запечатлевшихся в памяти образах, но не находил среди них того, который можно было бы однозначно принять за предостережение богов.
Почувствовав холод, что источала каменная глыба, на которой он сидел, Канчиоманте передёрнул озябшими плечами и встал. Скоро совсем стемнеет. Он грустно посмотрел на дрожащий свет костра, пробивавшийся из-под шкуры, закрывающей вход в полуземлянку, и, тихо вздохнув, не торопясь направился к нему. От воды подымался лёгкий прозрачный туман, в котором чувствовалось солёное дыхание океана, но в ноздрях Канчиоманте стоял навеянный воспоминаниями запах цветущего леса его родины.
Он медленно взбирался по откосу, безразлично взирая на вздымавшиеся перед ним береговые обрывы; перед глазами его вновь возникло улыбающееся, полное юного задора, круглое личико маленькой сестрички, которая лукаво подмигивает ему, словно между ними была какая-то тайна.
3
В пологе было так душно, что невозможно было лежать под меховым одеялом. Едва приоткрыл глаза, как тут же его скинул и тяжко вздохнул. Взопревшее тело, словно шмат размякшего сала, безвольно развалилось на пропитанной потом постели. Старик подтянул ногу и недовольно замычал: разбитое тело ныло и сопротивлялось всякому движению. Подложив руку под голову, он уставился поверх дряблого белого живота на свои ляжки, нервно покусывая губу. От жара, исходившего от раскалённых камней очага, дышать было трудно и по изборождённому глубокими морщинами лицу его текли липкие прозрачные струйки. Ринтелин провёл пальцами по жёлтым взлохмаченным волосам и, запрокинув голову, тихо застонал, словно капризный ребёнок. Где-то вдалеке, снаружи, кто-то разговаривал: наверное, женщины о чём-то судачили на берегу реки. Мысли в голове путались, натыкались одна на другую, как слепые щенки; в висках давило. Страшно захотелось глотнуть холодного воздуха, оказаться на высоком бугре, купаться в свежих струях студёного ветра.
Он попытался сесть, но в пояснице что-то отчаянно хрустнуло, и он, проклиная сквозь стиснутые зубы зловредных келе[16], снова плюхнулся на сырое скомканное одеяло. В холодной части яранги, за тонкой ровдуговой[17] стенкой, кто-то зашевелился. Старик окликнул, но в ответ не услышал ни слова. «Какомэй[18]! Уж не сам ли келе там прячется, – испуганно вскинув густые брови, подумал старик, но тут же успокоил себя: – Должно быть, собака». Но всё же на всякий случай прошептал заклинание, отпугивающее злых духов.
– Эй, кто там? – простонал он осипшим голосом, еле-еле шевеля пересохшими губами. В чоттагине[19] опять послышался шорох. Ринтелин почему-то разозлился, дрожащей рукой дотянулся до обломка оленьей кости и сильно швырнул его в сторону звука. Кость ударилась о натянутую ровдугу и покатилась по устланному звериными шкурами полу; в чоттагине взвизгнула собака и, сорвавшись с места, выскочила наружу.
От резкого броска тело заныло, но старик подавил в себе желание снова растянуться на ложе. Поднапрягся, и на этот раз ему удалось сесть. Пламя в очаге уже догорало, но камни всё равно жарили нещадно. За спиной, поставленный на плоский обломок скалы, потрескивал жирник. «И куда это все подевались? – он не мог понять, почему его вдруг оставили совсем одного. – Некому даже шкуры приподнять, чтоб выветрить удушливый чад из яранги!»
Снова заныла поясница, старик выдохнул в голос и стал шарить руками вокруг себя, пытаясь найти скинутую ещё вчера парку. Нашёл, покряхтывая, точно гусь над гнездом, натянул её через голову. Затем поднялся на слабых ногах, зашатался, но успел ухватиться за жердь; снял подвешенные у дымового отверстия торбазы и чулки. Снова сел и стал обуваться; торопился, пальцы плохо слушались. Травы, которую подкладывают обычно в торбазы, не увидел; выругался и покосился на связку духов-покровителей, висевшую у задней стенки. Да что же такое творится, почему нет никого, почему никто не поможет?! Запыхтел-запыхтел и стал выбираться из полога, запутался, заревел как медведь и выкатился кубарем в холодный чоттагин, перевернув стоящий подле выхода глиняный горшок. Горшок отлетел в сторону и, стукнувшись о камень, на котором строгали и резали мясо, раскололся надвое. Старик засучил руками от злости и выполз на голых коленях наружу.
Его обдало холодом. Он торопливо одёрнул задравшуюся едва не до головы парку. Часто-часто заморгал глазами: пронизывающий ветер выбивал слезу. Над землёй проносились тучи, из которых сыпал мелкий противный дождь; ладони погрузились в раскисшую грязь. Ринтелин поднялся и вытер подолом парки грязные колени. Оглянулся окрест.
В шести ярангах, стоящих на террасе у впадения мелководной реки в морской залив, не было видно никаких признаков присутствия человека. Стойбище, если не считать спящих собак, было пустынным. На лысой вершине горы, что закрывала подступы со стороны долины реки, завывал грозный ветер. Ринтелину вдруг подумалось, что, может быть, он, не заметив того, умер во сне и теперь находится в селении предков? Эта мысль как огонь обожгла его разум; глаза его выкатились из орбит, дыхание сбилось. И тут он заметил людей: они находились на самой дальней оконечности косы, там, где торчали врытые в землю китовые рёбра, на которых сушились байдары. Старик упёрся ладонями в колени и облегчённо перевёл дыхание: значит, всё в порядке, келе помутили его старый ум. Он хотел было закричать, чтобы кто-нибудь к нему подошёл, но потом передумал: всё равно не услышат – ветер не даст, снесёт его крик далеко в сторону.
Ринтелин повернулся в сторону реки, и на лице его вдруг заиграла злая улыбка. Немного выше стойбища, на самом берегу копошились женщины. Тут же сидели дети, возились на галечнике, подымали и бросали в воду камни. Младшая жена Ыттынеут уже заметила его и торопливо шла по узкой тропке к ярангам, боясь поднять глаза. Ринтелин выпрямился, подбоченился, надменно сощурил глаза, ожидая, когда женщина подойдёт к нему. Когда совсем ещё молоденькая девушка приблизилась и покорно остановилась подле него, опустив голову, Ринтелин набросился на неё с упрёками и ругательствами. Девушка стояла, не смея шелохнуться, не смея оторвать глаз от истоптанной земли под ногами, молча сносила брань не на шутку распалившегося мужа. А Ринтелин бушевал вовсю: лицо пошло пятнами, брови вскинулись. Он высказал ей всё: и про то, что оставила его одного, и про то, что не додумалась подвернуть шкуры, чтобы он, чего доброго, не задохнулся. Вспомнил и про разбитый горшок: зачем поставила прямо на входе?
Отчитав жену, он отвернулся и как был, в одной парке без штанов, направился к мужчинам, готовящим и починяющим байдары: не сегодня-завтра погода наладится, и нужно будет спускать их на воду и отправляться на поколку морского зверя.
Девушка постояла ещё немного перед ярангой, поглядела вслед удаляющемуся Ринтелину, а потом пошла готовить еду. Скоро ворчливый муж вернётся и захочет набить живот. Напоследок она с тоской посмотрела на реку, где женщины мяли вымоченные шкуры и играла озорная детвора. Старшая жена помахала ей рукой.
Ринтелин дошёл до узкой оконечности косы, где мужчины заклеивали швы на бортах, подтягивали ремни деревянных каркасов байдар, отыскал своего пурэла[20] Хегигиша, влепил ему звонкую затрещину за то, что он без дозволения хозяина покинул жилище, и, поворчав на охотников, прошёл к самой воде. Усевшись на корточки, стал вглядываться в гуляющие по морю волны, жмурясь от мелких капелек дождя, бьющих в лицо.
Почему-то Тельмуургин задерживается, не едет. Обещал ведь приехать. Не случилось бы чего. Может, нездоровится? Но Тельмуургин, когда Ринтелин видел его летом, не казался больным, наоборот, был свеж и бодр; говорили даже, что он, как и в молодые годы, не даёт своим жёнам скучать. Нет, наверное, не болезнь задержала его. Может, просто ждёт, когда успокоится море. Очень соскучился Ринтелин по своему старому другу, хотелось поскорее его увидеть. Хотелось устроить пир, повеселиться, вспомнить былое, просто посидеть рядом с человеком, которого давно не видел. «Хоть бы скорее приехал Тельмуургин. Уже никого видеть не могу – надоели», – думал Ринтелин. Ему представилось испуганное лицо молодой жены, покорно выслушивающей его разъярённые крики, вспомнилась вечно хмурая, с холодным смирением выполняющая все его прихоти, старшая жена, с которой уже давно не обсуждал насущные дела, как это частенько делал раньше, перед тем как лечь спать. И что же с ним произошло? Помнится, ещё совсем недавно, когда только-только привёз себе новую жену из далёкого стойбища, радовался жизни точно мальчишка. Но почему-то недолго. Наскучила, должно быть. Ыттынеут уже больше не влекла его к себе. И оттого, словно это она во всём виновата, он злился на неё. В последнее время он почти каждый день ругал Ыттынеут; даже старшей жене иной раз доставалось. Обе надоели, только и думают, как навредить ему. «Ну ничего, – старик нахмурил седые брови, – дождётесь ещё у меня!»
Подошёл Хегигиш, помог ему встать. Отмахнувшись от пурэла, Ринтелин, шаркая торбазами по мелким камушкам, побрёл до своей яранги, из которой уже подымался дым. Ветер пригибал его струи к земле и рвал их в сизые клочья. Хегигиш, грустно глянув на работающих мужчин, пожал худыми плечами и, неслышно ступая, пошёл за стариком.
Уже сидя в пологе, где суетливая жена успела проветрить и заново развести огонь, пожёвывая разогретую варёную оленину, Ринтелин продолжал хмуриться. Хегигиша заставил починять старую камлейку[21], которую уже давно собирался выбросить. Старик прислушался и удовлетворённо кивнул: за тонкой стенкой полога слышалось усердное пыхтение пурэла. А камлейку он всё равно выкинет или сожжёт. Раб должен знать своё место, он научит его покорности. Вот залатает он дыры на камлейке, принесёт Ринтелину, а тот посмотрит-посмотрит, да и кинет её в огонь. Вот потеха-то будет. Старик представил себе, как вытянется и без того длинное лицо Хегигиша, как потухнут его глаза, а он скажет ему: «Что? Зря трудился?» Ринтелин так живо представил себе всё это, что невольно заулыбался от удовольствия, но, заметив, что молодая жена удивлённо смотрит на него, опять помрачнел. В памяти всплыл расколотый горшок: его, конечно, жалко, но дело не только в этом. И зачем это Ыттынеут его поставила прямо на пути. Дурной это знак, нехороший. Хрупкая женщина опять вся съёжилась под его колючим взглядом.
Вошла старшая жена Тэмнэ, а за ней с шумом ворвались и дети: дочь-подросток и совсем ещё маленький сын, которого ему принесла Ыттынеут. Эх, старая даже не смотрит в его сторону, слишком много думает о себе. Ринтелин с досадой поскрёб ногтями ляжку.
