Могила в диких хризантемах. Проза
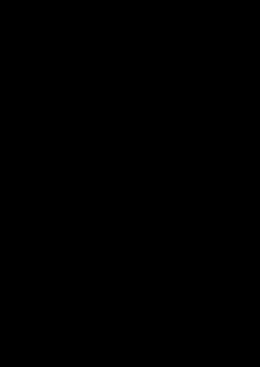
Переводчик Павел Соколов
© Сатио Ито, 2025
© Павел Соколов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0067-1754-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Мир Ито Сатио – это мир, где хрупкость человеческого существования встречается с неумолимым потоком времени, где каждое слово, подобно капле чернил в воде, расплывается, обретая новые смыслы. Его повести и новеллы – это не просто рассказы, а тонкие срезы жизни, исследующие глубины одиночества, памяти и невысказанного. Или же так и не сделанного.
В прозе Ито Сатио есть что-то от хайку – та же сдержанность, та же способность запечатлеть мгновение, не утяжеляя его объяснениями. Не случайно его тексты часто пересекаются с эстетикой «сясэй» – принципом «зарисовки с натуры» или «отражения натуры», пришедшим из японской поэзии. Не забываем, что он ученик самого Масаоки Сики. Если традиционный реализм стремится к детальному воссозданию действительности, а символизм – к её преображению, то «сясэй» останавливается на грани между ними: это не описание, а намёк на присутствие, не рассказ, а дыхание момента.
«Сясэй» в поэзии – это отказ от метафор в пользу прямого, почти дневникового взгляда. У Ито Сатио проза строится похожим образом: его герои не анализируют мир, а фиксируют его, как будто боясь спугнуть подлинность переживания. В его текстах редко встретишь развёрнутые описания эмоций – вместо этого будут детали, несущие в себе невысказанное. В его произведениях нет психологизма в классическом понимании, но есть физиологичность ощущения, та самая «зарисовка с натуры», которая заменяет прямые указания на чувства.
Поэзия, следующая приципу «сясэй», часто обрывочна – как серия эскизов. Проза Ито Сатио тоже тяготеет к лаконичным сценам, которые не складываются в линейный нарратив, но создают эффект прожитого времени. Его рассказы похожи на страницы дневника, где важны не события, а промежутки между ними: пустые комнаты, несостоявшиеся разговоры, дороги, ведущие в никуда.
Теперь у русскоязычного читателя есть возможность оценить мастерство Ито Сатио. И если его поэзия уже известна благодаря переводам Александра Долина, то пришло время познакомиться с прозой этого не столь известного в России автора.
Павел Соколов
Прошлый год
I
Ты меня не понимаешь. Да, ты не понимаешь большую часть меня. Твое последнее письмо я прочел с глубокой благодарностью, проникшись искренней дружбой, что в нем чувствовалась. Хотя я ни на йоту не сомневаюсь в твоей искренней привязанности ко мне, факт остается фактом: ты меня не понимаешь. Но я говорю это не из недовольства тобой или твоим письмом. И уж тем более не потому, что считаю тебя человеком недалеким.
Я размышлял.
Разница в наших жизненных обстоятельствах настолько велика, что, видимо, нам никогда не понять друг друга до конца. Человеку в твоем положении вряд ли под силу ни разглядеть, ни даже вообразить, что творится в душе такого, как я. Какой бы проницательный ум ни был у тебя, пока наши судьбы так различны, полное взаимопонимание между нами невозможно.
Конечно, и мне не дано постичь твои мысли. В одном из писем ты писал: «Здесь нечего понимать или не понимать – мое сердце открыто, в нем нет тайн». Но мое «непонимание» – не об этом. Оставим второстепенное, но вот что главное: ты спокойно живешь годами в разлуке с женой и детьми. Наверное, ты ответишь: «Какое там спокойствие! Ты не знаешь, как тоскует сердце вдали от родины». Но с моей точки зрения, если нет крайней необходимости, а ты все равно проводишь два-три года за границей, наслаждаясь жизнью, то твоя тоска по родине – не более чем забава, дополнительный источник удовольствий. Пусть даже это и не требует от тебя никаких усилий, но ты, не жалея тысяч, тратишь их без счета, в то время как для таких, как я, даже десять дней разлуки с семьей – мучительное одиночество. А ты ведешь себя так, будто тебе и горя мало. Вот этого я никак не могу постичь.
Но разве ты от природы бесчувственен? Нет, я знаю, что это не так. Я помню, как ты, потеряв старшего сына, был на грани безумия от горя. И все же, оказавшись за границей, ты удивительно легко предаешься удовольствиям. Значит ли это, что в тебе горит какая-то страстная ambition? Вряд ли. Судя по твоим письмам, где ты то собираешься удалиться в горы, то мечтаешь заняться сельским хозяйством в Корее, вряд ли у тебя есть какая-то всепоглощающая страсть, ради которой ты забываешь о семье.
Ты, конечно, возразишь: «Разве мужчине подобает так привязываться к жене и детям?» Вот именно в этом я тебя и не понимаю. И именно здесь – огромная разница в наших судьбах.
Если говорить откровенно, для меня сейчас семья – это большая часть жизни. Честолюбие, слава, все прочие желания подчинены одному: «Главное – выжить». Если бы у меня отняли жену и детей, пусть даже на время, я стал бы совершенно бесполезен. Ты, наверное, скажешь, что это слишком обыденно, но что поделать – такова правда. Молодой, как ты, может и не придавать значения жене, но для меня, почти пятидесятилетнего, привязанность к супруге – дело естественное. Однако, видимо, именно здесь мы и не можем понять друг друга.
Возможно, поговорка «У бедняков детей не счесть» объясняется тем же, чем и мое нынешнее состояние. Но не подумай, что двадцать лет брака – это все еще романтическая любовь. Не стоит поверхностно объяснять это модными теориями о «естественных потребностях» или «удовлетворении инстинктов».
Когда уходят родители, те, кто родил и вырастил нас, кто годами трудился ради нас, – тогда в сердце поселяется глубокая, неведомая прежде тоска. Мы с женой, как в маленькой лодке, где я – на веслах, а она у руля, везем через бурное море жизни семерых-восьмерых детей. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, что значит «семья – большая часть жизни». Но все, что происходит с нами из-за таких обстоятельств, человеку, плывущему на надежном корабле, куда ветер дует, никогда не понять.
Если сказать, что «сытый голодного не разумеет», это может прозвучать резко, но я не вкладываю в эти слова злого умысла. Просто кажется, что те, кто в жизни удовлетворен сверх меры, редко способны искренне сопереживать другим. То же и в отношениях между мужем и женой, родителями и детьми – здесь тоже есть незаметные, но непреодолимые различия. Особенно между супругами. Та глубокая, почти бессознательная привязанность, которая живет в их сердцах, вряд ли часто встречается среди тех, чья жизнь постоянно висит на волоске.
Конечно, можно отмахнуться: «Разные обстоятельства – разные чувства». Но мне хочется копнуть глубже. Да, мы никогда не поймем друг друга полностью, но я хочу, чтобы наша дружба крепла, несмотря ни на что.
В одном из писем ты спросил: «Ты, кажется, увлекся написанием рассказов? Уже охладел к стихам?» Вот типичный пример наших различий.
Ты сочиняешь стихи и прозу, как сам признаешься, не потому, что должен, а просто для удовольствия. И это естественно для человека в твоем положении. Я не говорю, что каждый, кто занимается литературой, обязан отдавать ей всего себя без остатка. Если для тебя это просто развлечение – что ж, я не осуждаю. Но ошибочно думать, что все такие же, как ты.
Мои мотивы иные. Я пишу не ради забавы. Для меня стихи и рассказы – вопрос выживания. Если я не могу быть ни политиком, ни предпринимателем, ни ученым, то что мне остается, кроме литературы, к которой у меня есть хоть какая-то склонность? Да, в этом есть и удовольствие, и утешение, но разве можно сравнить их с твоим «удовольствием сверх удовольствия»? Не знаю, как это выглядит со стороны, но у меня сейчас нет душевного простора для праздных увлечений.
Можно перечислять бесконечно. Разница в наших судьбах поистине огромна. Мы во всем мыслим по-разному. И все же я обращаюсь к тебе, потому что, кроме тебя, мне некому излить душу.
II
В прошлом году все только и говорили, что о кризисе. Дошло ли это до твоих ушей? А если и дошло, то, наверное, как далекий шум волн сквозь шелест сосен. До сих пор нашим коллегам в столице удавалось избегать ударов экономических бурь, но в прошлом, этом злосчастном году, никто не остался в стороне.
Если товар не продается, он залеживается. А если у всех избыток, цены падают. Особенно тяжело тем, чей товар нельзя хранить – например, молоко. Лучше уж вылить, чем продавать за бесценок. Но все стремятся сбыть хоть что-то, и цены на молоко падают еще ниже. С одной стороны – нераспроданные запасы, с другой – падающие доходы. А расходы, поскольку мы работаем с животными, не сокращаются. Каждый месяц доходов не хватает, чтобы покрыть расходы. Чем восполнить недостачу? Если бы были сбережения… Но мы и в обычное время балансируем на грани, так что приходится «есть» капитал. Это то, что в просторечии называют «проеданием» – слово, тебе, наверное, незнакомое.
Как ты знаешь, у меня большая семья по сравнению с масштабами дела. Людей больше, чем коров. Да и из людей большинство – иждивенцы. Как будто груз превышает вместимость лодки. В обычное время нет возможности создать запас на черный день, а когда начинается шторм, будущее кажется настолько туманным, что страшно подумать.
Если бы мы с женой были молоды и бездетны, даже разорение не казалось бы такой катастрофой – можно было бы начать заново. Но когда на двоих взрослых – восемь детей, страх становится во сто крат сильнее. Думаю, ты можешь себе это представить.
Дети до семи-восьми лет еще малы и не понимают родительских тревог. Они беззаботно играют, их лица светятся радостью. Но старшие девочки уже чувствуют нашу тревогу. Мы стараемся оградить их от забот, но когда приходят кредиторы, скрыть правду невозможно. Дети молчат, но по нашим лицам, по тону голоса они все понимают.
В такие моменты, друг, человек становится удивительно трусливым. Все кажется угрозой, и сердце сжимается от страха.
«Это глупо, – думаешь. – Кризис – явление временное, через год-два все наладится. Если продержаться месяц-другой, можно будет перевести дух».
Но такие наивные утешения – лишь временное облегчение. На деле приходится платить по счетам, откладывать выплаты, а доходы падают еще ниже. А долги только растут. И вот уже к концу месяца иллюзии разбиваются вдребезги.
Когда страх овладевает тобой полностью, весь мир кажется враждебным. Если ветер повредит крышу, кажется, что он нарочно тебя преследует. Если идет дождь – надо покупать зонт, высокие гэта – и дождь становится еще одним врагом. Конкуренты – конечно, враги. Все торговцы кажутся бессердечными. Даже гул поездов и трамваев звучит угрожающе. Даже те, с кем ты в хороших отношениях, мгновенно отворачиваются, стоит тебе хоть немного их подвести. В конце концов, единственные, кто остается с тобой, – это жена и дети.
Ты, наверное, скажешь: «Это слишком преувеличено». Но это не преувеличение, а правда. Кто не знал нужды, не поймет ее вкуса. Кто не сидел в тюрьме, не знает, что такое заключение.
Отсрочки платежей не бесконечны. Рано или поздно придется платить. Если бездумно «проедать» капитал, это все равно что разбирать дом на дрова. Скоро негде будет укрыться от дождя и ветра.
Выбора не было – я решил занять у друга. Если бы это был просто временный заем, проблема была бы невелика. Но я знал: эти деньги нечем возвращать. И все же пришлось просить.
Так я сам обрек себя на новые муки. Даже самому близкому другу не скажешь: «Дай в долг, хотя я не знаю, когда отдам». Пришлось обмануть, пообещав вернуть к определенному сроку.
Обмануть друга… Я сознательно совершил нравственное преступление. Хотя его доброта немного облегчила мои страдания, душевная рана от этого поступка долго не заживала. Чем острее чувство вины, тем сильнее боль. Чтобы избавиться от нее, я мечтал вернуть долг как можно скорее. Даже во сне сердце кричало: «Верни!».
Но самое страшное – то, что, заняв деньги, ты теряешь друга. Отношения странным образом смешиваются с долговыми, и прежняя простота исчезает. Эту боль не объяснить никому.
Я изо всех сил старался сохранить дружелюбие, благодарность и учтивость. Но, по правде говоря, это было лицемерие. А друг, кажется, и не замечал. Я навещал его трижды, а он ни разу не пришел ко мне. И тогда я перестал понимать: есть между нами дружба или нет? В глубине души копилась обида, но сказать о ней я не мог. Трагедия скрытых отношений. А вдруг он уже жалеет, что дал мне денег? От этой мысли становилось невыносимо. Мне не хотелось терять друга, но он отдалялся. Виноват был я, и это мучило меня.
Тот, кто идет по опасной тропе, не может идти с высоко поднятой головой. Попытка спасти положение обманом привела к нравственному падению. Начав с лжи, приходится продолжать. Нет пути назад. Как ни посмотри, я – преступник. Преступник, который не смеет говорить громко.
Тебе, наверное, жалко меня. Или смешно. Но знай: как тело нелегко убить, так и дух не так просто сломить.
Я смирился с тем, что стал нравственным преступником, но злым человеком себя не считаю. Скажи, друг: кто грешит больше – злые или добрые? Злые, конечно, грешат, но и добрые тоже. Ты философ – тебе есть над чем подумать.
Быть может, в некоторых случаях добрые грешат даже чаще?
Может, добрые избегают греха не потому, что добры, а потому, что у них не хватает смелости на поступки? Это, конечно, оправдание, но в моих обстоятельствах прошлого года, если бы я сохранил душевную чистоту, моя семья распалась бы. Не буду повторять, как горько и больно сознательно идти на преступление. Но если этим я спас десять жизней, то готов нести этот крест. Надеюсь, ты простишь мне этот грех. Даже если наша дружба уже не будет прежней, прости меня хотя бы как человека.
Но мои муки не ограничивались этим. Вся моя жизнь, внутри и снаружи, была сплошным противоречием. По натуре я люблю возвышенное, чистое, стремлюсь к высокому в искусстве, а в жизни вынужден совершать поступки, которые и простолюдин назвал бы низкими. Восемь дочерей – каждой надо найти достойную партию. Ты понимаешь, как это трудно. От одной мысли об этой ответственности кровь стынет в жилах. И все же врожденная тяга к прекрасному не позволяет мне жить без искусства.
Как влюбленный любит, невзирая на разум и обстоятельства, так и я не могу отказаться от своего призвания. Если бы можно было подавить чувство, разумом или отсутствием средств, это была бы не настоящая любовь. В этом ее горечь и ее сладость. То же и с моей страстью к искусству. Чем сильнее страсть, тем глубже страдания.
Пока я не вернул долг и не устроил судьбу детей, я все равно время от времени предаюсь ненужным увлечениям.
Это противоречие терзает меня постоянным раскаянием и мукой. Моя нынешняя жизнь похожа на неизлечимую болезнь: если нет отвлекающих радостей, не выжить.
Но даже в этом хаосе, среди бесконечных страданий, я еще держусь – только благодаря тому, что сильная страсть охраняет мой внутренний мир от разрушения. В нем – мое маленькое убежище.
Наблюдать за собственной трагедией, анализировать ее, ощущать всю горечь жизни – в этом тоже есть своеобразное утешение.
Раз уж я так упрям, можешь не беспокоиться: пока я не собираюсь умирать. Вообще, человек цепляется за жизнь изо всех сил, ищет способы выжить. Но я не хочу, чтобы мое тело жило, а дух умер.
Хватит жалоб. Прошлый год был для меня испытанием не только бедностью.
III
Две противоречивые вещи, спокойно существующие параллельно, – казалось бы, это полный абсурд. Но в моем доме такое происходит постоянно.
Одним утром жена проснулась раньше меня. Трехлетняя дочь вылезла из-под одеяла и спала, раскинувшись. Жена поправила ей подушку и тихо сказала:
– Разве ты не встаешь?
– Встаю… В чем дело?
Она сидела на полу с грустным лицом, смотрела на спящего ребенка и вдруг улыбнулась:
– Какое милое личико… Глядя на нее, совсем не чувствуешь досады…
Эти слова «совсем не чувствуешь досады» прозвучали для меня как гром среди ясного неба. Жена снова нахмурилась, уткнувшись взглядом в пол. Я резко сбросил одеяло.
– Знаешь, у меня опять «проблемы»…
У меня не хватило сил даже ответить. Жена тоже замолчала. Мы молча поднялись, стали убирать постель. Новость ударила в грудь, как молот. Нам не нужно было говорить – мы и так понимали друг друга. По выражению лиц, по взглядам. Жена ждала восьмого ребенка.
– Ну вот, опять…
Эти слова повторялись у нас с каждым новым ребенком, начиная с пятого. Тогда мы еще переглядывались, обменивались усталыми улыбками:
– Опять?..
– Ага…
А потом я бодро добавлял:
– Эх, если бы люди перестали рожать, человечеству бы конец пришел!
Так мы хоть как-то отвлекались от тоски.
Но сегодня у нас не было сил даже на подобные разговоры. Сама мысль об этом событии была мучительна. Со стороны это, наверное, выглядело бы глупо, но такова правда. А ведь накануне я с гордостью рассказывал гостям о наших детях! Какая ирония…
Те, кто не растит детей, – тунеядцы. Неблагодарные обществу. Государство не имеет права игнорировать таких, как мы, взваливших на себя воспитание множества детей. Несправедливо, что бездетные живут в свое удовольствие. Государство должно ввести систему поддержки многодетных семей, чтобы исправить этот дисбаланс. Оставить после себя наследников – долг каждого перед обществом. Поэтому с бездетных нужно брать налог – хотя бы за то, что они не выполнили минимальную норму: двое детей на семью. А тех, кто растит лишних, – поддерживать. Мы – настоящие благодетели общества!
Родители жены здоровы и живут долго. Мои родители тоже были крепкими. Ни в одном поколении не было серьезных болезней. Мы растим восемь здоровых, чистых наследников общества – разве это не заслуживает уважения? Но даже если общество нас не ценит, факт остается фактом: мы воспитываем будущих подданных. Разве это не повод для гордости?..
В таком духе я вещал гостям прошлым вечером, бодро уложился спать – а утром неожиданное «опять проблемы» вышибло из меня весь пыл. Я машинально умылся, чистил зубы, как во сне.
На улице дул холодный северо-восточный ветер, небо хмурилось. Из огромной трубы Томиокаской прядильной фабрики валил черный дым, затягивая небо Фукагавы. Зрелище впечатляющее, но неприятное.
Рожать много детей – высокая цель, но «много детей – родителям худо» – закон природы. С этими мыслями я вернулся на кухню.
За столом собрались все девять. Никакого порядка – кто где сел, кто чью чашку взял. Старшие помогают младшим. Те, кто ближе к кастрюле, наливают суп, кто к рису – кладут порции. Свобода и естественность. Жена, хлопоча над детьми, все еще не оправилась от утреннего удара. За столом было тише обычного – потому что родители молчали.
– Учитель сказал, что второго числа следующего месяца будет концерт, – заговорила Умэко. – Раз в семь лет его проводит сам великий мастер. Нам с сестрами нужно участвовать…
Умэко понимала наше состояние и не настаивала, хотя очень хотела пойти. Все молчали. Мы с женой переживали.
– Ну что ж… Что-нибудь красивое как-нибудь да найдем, пусть двое едут, – наконец сказал я.
Мне было стыдно перед детьми. Да и вообще, когда мы могли доставить им радость? Я не мог сказать «нет».
Жена тоже не решалась возразить. Не могла она и согласиться.
– Тогда пусть Умэко наденет моё кимоно! – предложила старшая дочь.
– Нет, я не хочу в чужой одежде! – запротестовала Умэко.
– Тогда пусть Акико идет одна, у нее же есть кимоно.
Дети, казалось, не заметили нашей грусти, и разговор перешел на известных исполнителей. Я старался поддержать беседу, чтобы отвлечься от утренних мыслей. Но ни мое настроение, ни лицо жены не прояснились.
Пришел работник с фермы: одна из телок не встает. Сердце сжалось, будто иглой ткнули.
– Беда не приходит одна… – пробормотал я и пошел в коровник.
У телки был жар, дрожь в бедрах, тусклая шерсть, глаза мутные. С первого взгляда я понял: шансов нет.
Ветеринар подтвердил худшие опасения. Через три дня телка пала. А потом, через месяц, еще одна. Еще через месяц – третья. Удар за ударом – будто раны на и без того больном теле.
Когда работники увезли третью тушу на переработку, жена сказала с тревогой:
– Почему так не везет? Может, дело в ориентации дома?
– Вздор! У всех бывают черные полосы.
Но в глубине души я боялся: что, если этот несчастливый год принесет еще больше бед?
IV
В конце мая, без всяких ожиданий, родился ребенок.
– Наверное, опять девочка? – с горькой усмешкой спросила жена.
Акушерка тихо рассмеялась:
– Да, барышня!
Она родилась, потому что так было суждено. Седьмой или восьмой дочерью – какая разница? Я ничего не мог изменить.
Акушерка сделала свое дело и ушла. Младенец покричал, не стесняясь, и заснул с ангельским лицом. Черты – благороднее, чем у сестер.
– Хоть бы тебе повезло в жизни… – пробормотала жена, поправляя одеяло.
Даже мои слова «ну вот, еще одна обуза» звучали теперь с нежностью. Что бы мы ни говорили, руки сами заботились о ней.
– Погоди, эта «обуза» еще всех нас замучает!
– Потому она и «обуза»!
Каждый день при купании все восхищались: «Какая красавица!» И чувство досады таяло.
Но словно вспышка молнии – в тот же день, когда мы зарегистрировали восьмую дочь, трехлетняя седьмая утонула в пруду. Я уже писал тебе об этом – не хочу возвращаться. Мы с женой рыдали, проклиная себя за то, что когда-то считали детей обузой.
Те, кто вздыхал: «Еще один ребенок…», теперь плакали, теряя разум от горя.
Противоречия, столкновения… Жизнь без веры – как корабль без якоря. Мы горько стыдились этой вечной неустроенности.
V
Июль, август… Сезон молока, кризис пошел на спад. Но боль от потери дочери не утихала. Мы, измученные, вздрагивали от каждого звука, просыпались среди ночи.
Как-то на рассвете кто-то громко постучал в дверь. Жена брата была при смерти после родов – нужно срочно вызвать доктора.
Не успел опомниться. Послал жену вперед, а сам бросился искать экипаж. Улицы уже оживали, но ни одного свободного извозчика. Я бежал, обливаясь потом. Даже трамваи еще не ходили.
«Как я выгляжу со стороны?» – мелькнуло в голове. Люди спешат по своим делам – у каждого своя жизнь. Кто-то, как я, борется за чью-то жизнь. Кто-то несется к неожиданной удаче. А кто-то тащится, опустив голову.
Доктор, директор больницы в Суругадай, сразу согласился. Но обратно – снова ни экипажа, ни трамвая. Я бежал, задыхаясь, сердце колотилось.
«Она ждет… Борется…».
У дома брата меня догнала коляска доктора. Но во дворе было слишком тихо…
Мы опоздали. Она умерла полчаса назад.
– Послеродовое кровотечение, – объяснил доктор. – Малейшее промедление – смерть.
Ей было сорок два. Еще вчера вечером она работала по хозяйству. Родила ночью – ребенок здоровый.
Я не хотел видеть ее мертвой, но и не войти не мог. Комната наполнилась запахом смерти. Грудь еще хранила остатки тепла.
При жизни у нее было румяное лицо. Теперь, обескровленная, она стала серо-желтой, неузнаваемой.
– «Если я умру сейчас, это так глупо…» – были ее последние слова.
В них – вся горечь тех, кто уходит слишком рано. Вчера вечером – жива, на рассвете – нет. Дети, муж, родители остаются в этом мире, а она уходит во тьму.
«Это так глупо…».
Эти слова навсегда врезались в память тех, кто их слышал.
Мы с женой вернулись домой, подавленные. Я невольно оглядел лица детей: «Неужели кто-то из них может внезапно исчезнуть?».
Вскоре умер тот новорожденный. Потом – племянница. Потом друг за другом – несколько знакомых. За вторую половину года я побывал на семи похоронах.
Я понял: главный вопрос жизни – вопрос смерти. Вопрос бизнеса, кризиса, литературы – все упирается в смерть.
«Неужели несчастья бесконечны?» – думал я.
Но накануне Нового года из деревни приехала больная сестра. Вскоре она умерла в больнице.
– Хотела бы пожить еще три года… Но если уж смерть, то ничего не поделаешь, – говорила она.
До последнего часа, пока сознание не покинуло ее, она принимала лекарства, жадно глотая каждую каплю.
Человек борется за жизнь до последнего вздоха.
VI
Прости за длинное письмо, но я должен рассказать тебе еще об одном событии. Этой весной в Токио внезапно вспыхнула эпидемия ящура. Болезнь стремительно опустошала ряды скотоводов. За два месяца уничтожили двенадцать сотен голов. К счастью, моя ферма находилась в отдалении, но каждый день я получал по две-три открытки с сообщениями: «Вчера у такого-то забили двадцать голов, сегодня у такого-то – сорок». Семьдесят у одного, девяносто у другого… Жуткие картины вставали перед глазами. Въезд и выезд парнокопытных в городе запретили, хозяйства изолировались от внешнего мира. В животноводстве объявили военное положение.
Хотя моя ферма была вне опасности, я чувствовал себя в осаде. И, конечно, не мог оставаться равнодушным наблюдателем.
У скотоводов существовал договор: если у кого-то обнаруживали ящур, никто не мог отказаться от роли оценщика при забое. Так я и попал в эту мясорубку.
По вызову из полиции Фукагавы я отправился в Сэндаги, чтобы оценить скот у одного знакомого. Я никогда раньше не видел ящурных коров – мне было не по себе, но выбора не было. К тому же, моя роль оценщика могла немного смягчить удар для хозяина. Я собрался с духом и поехал.
К вечеру я подошел к воротам фермы. Полицейский проверял всех входящих и выходящих. У ворот толпилось сорок подвод с возчиками. Меня пропустили внутрь, где три инспектора пили чай с хозяином. Тот сразу меня заметил. Мои соболезнования пролетели мимо его ушей.
– Ну вот, дождались… Ха-ха-ха! – Он рассмеялся, будто речь шла о пустяке, но руки его дрожали.
Жену и детей не было видно. Человек пятнадцать полицейских, мясники, дезинфекторы – около сорока человек – спокойно готовились к забою. На выгуле рассыпали известь – казалось, выпал снег.
Хозяин провел меня по коровникам. Конечно, под присмотром полицейского. Больная корова – черная пеструшка – выглядела слегка угнетенно, но без подсказки я бы никогда не догадался, что это страшный ящур. Остальные тридцать голов были здоровы, спокойно ели корм.
– Знаете, когда думаешь, что через час их всех не станет… Слезы сами текут,, – хрипло проговорил хозяин.
Особенно жалко было белую корову, которая только утром отелилась. Она старательно вылизывала своего пестрого теленка – морду, спину… Быки мычали, телята блеяли. Все они жадно хватали корм из корыт, будто чувствовали, что это их последняя еда.
– Пусть доедят… Корыта все равно сожгут, – хрипло сказал хозяин работнику.
Мне нечем было его утешить. Я лишь бодрил его, насколько мог.
Когда пришел ветеринар из управления и собрались все три оценщика, начали работу. К семи вечера оценка закончилась. Полицейские зажгли фонари. Дезинфекторы выносили из коровников остатки корма, ведра, весь инвентарь и складывали в три кучи для сожжения. Поливали керосином, разжигали – пламя осветило место будущей бойни.
– Погонщикам нужно дать выпить, иначе не справятся, – сказал кто-то.
Хозяин, скрепя сердце, согласился. Только так удалось уговорить работников. Полиция торопила: «Темнеет, начинайте!».
Мясники были наемные. Для забоя не требовалось особых приготовлений. Погонщик подводил корову, а мясник с небольшим топориком-молотом наносил удар.
Первой вывели рыжую тёлку. Мясник в жилете поверх рубахи ловко ударил – глухой стук, и корова беззвучно рухнула, лишь слегка тряхнув головой. Дезинфекторы тут же замазали рану, закрыли нос, анальное отверстие – все, откуда могла вытечь жидкость.
Погонщики по очереди выводили коров. За полчаса уложили штук пятнадцать. Животные, не видя тел сородичей, покорно шли на смерть. Корова с теленком обернулась, замычала. Мясник, не церемонясь, прикончил ее первой. Мычание оборвалось на полуслове.
Труднее всего пришлось с большим быком. Двое работников еле вытащили его. Бык, почуяв неладное, начал брыкаться. Мясник ловко подстроился и ударил. Исполин рухнул, как подкошенный.
Полицейские и рабочие, видимо, привыкшие к таким сценам, даже не смотрели. Болтали о своем.
Мне было невыносимо смотреть на эту бойню, но уйти, не попрощавшись с хозяином, казалось бессердечным. Я остался до конца. Оценка заняла час сорок, забой – всего час двадцать. Мясник, получив плату, молча ушел. Полицейские засуетились: «Теперь наша работа!».
Туши предстояло продезинфицировать и отправить в крематорий. Коровники – тщательно обработать.
Еще недавно здесь стоял гул жизни, а теперь – мертвая тишина. Меня охватило такое чувство, будто и я сам опустел. Я не мог оставаться здесь ни минуты.
Переодевшись в чистую одежду, я отдал свою в дезинфекцию и уехал. Домой возвращаться было нельзя – требовался карантин. В ту же ночь я добрался до Кодзу.
В гостинице не мог ни есть, ни пить. Пытался читать газету, книгу – нервы были натянуты. В голове мелькали образы убитых коров. Глотнул вина и лег спать.
Выдержать неделю карантина не удалось – вернулся через три дня. Чужая беда стала моей. Видно, нервы совсем сдали.
В тишине я часто думаю, как и ты, о возвращении к земле. Не знаю, что тебя тянет в Корею, но мне просто хочется покоя. Хотя, возможно, это лишь временное смятение.
Прошлый год многому меня научил. Главное – я понял, как еще неопытен. Если это письмо поможет тебе понять меня чуть лучше, я буду счастлив.
Палочки для еды
I
Утренний туман постепенно рассеивался. Сквозь листву софоры во дворе пробивались первые лучи солнца. Хозяин, попыхивая самокруткой, распахнул сёдзи и любовался садом. В большой кадке под деревом плавали круглые листья лотоса, почти полностью покрывая воду, а среди них красовался один распустившийся цветок. Нежно-розовый, вернее, даже не цвет, а лишь легкий розоватый оттенок, едва уловимый, словно дуновение ветра. Хозяин замер, погрузившись в созерцание.
Калитка скрипнула, и во двор осторожно вошла жена. Лет тридцати пяти-шести, смуглая, с резкими чертами лица, она выглядела строгой и неприступной.
– Послушай, работник с Осимы привел дояра, – сказала она, делая шаг вперед.
Хозяин лениво перевел на нее взгляд, но вдруг резко нахмурился:
– Что за безобразие! Ты в этих гэта по мокрому саду топчешься! Совсем размыла землю! Ну что за бестолковая…
Его крик и шаги жены прозвучали почти одновременно. Хозяин прикусил язык, но жена даже не изменилась в лице, не стала оправдываться. Лишь осторожнее зашагала, направляясь к веранде.
Следы гэта действительно изрядно испортили сад, но хозяин не стал продолжать. Он вообще считал, что его излишняя нервозность и привычка злиться по пустякам только вредят ему самому. И сейчас, поймав себя на том, что вовремя остановился, он даже улыбнулся. Забыл и про лотос, и про испорченную землю.
Жена позвала служанку, велела принести кома-гэта и села на край веранды.
– Заровняй следы, – коротко бросила она.
Она редко сердилась или спорила, сколько бы муж ни кричал. Дело было не в привычке или страхе. Она тонко чувствовала, какие его упреки справедливы, а какие – пустой всплеск эмоций. В последнем случае просто ждала, пока буря утихнет.
Хозяин, хоть и не ставил жену высоко, уважал ее за это.
– У тебя золотой характер, – хвалил он.
– Не золотой, – улыбалась она. – Просто я заранее смирилась с неизбежным. Вот и кажется, что терплю.
Вообще, таких женщин много – тех, кого мужья бьют, а они тут же ласково заговорят, будто ничего не случилось. Может, это особенность женской натуры. Его супруга просто развила в себе это качество.
Такие мысли заставляли хозяина краснеть за свои вспышки гнева. В последнее время он все чаще обрывал себя на полуслове.
Дояр, которого привели, – мужчина лет пятидесяти, с красным лицом, крепкий, молчаливый. При встрече лишь кивал, редко открывал рот. Взгляд у него был странный – будто подлавливал собеседника на чем-то. Большинство женщин сторонились бы такого.
По словам работника, дояр – мастер своего дела. Вставал по часам, без опозданий. Но «голова у него не в порядке», поэтому подолгу нигде не задерживался.
– Если вы сумеете к нему приноровиться, он вам отлично послужит, – уговаривал работник. – Он и сам утверждал, что у вас приживется.
Жена, выслушав, нахмурилась:
– Он мне не нравится. Но без дояра не обойтись – оставим.
Хозяин припомнил: это тот самый Ханаэ, чудак, о котором ходили слухи. Говорили, то ли он невменяем, то ли просто несчастен. Кочевал по молочным фермам.
– Ладно, – решил хозяин. – Если встает вовремя и доит хорошо, попробуем. Не сработаемся – выгоним.
Жена неохотно согласилась.
Во дворе мычали коровы – их только что разделили с телятами. Выгнанные после нескольких дней в стойле, они резвились на просторе.
Но жена, озабоченная стиркой, не замечала ни влажной свежести сада, ни цветка лотоса.
– Ну, я пошла, – бросила она и вышла за калитку.
II
Настало время дневного доения. Служанка разбудила работников. Жена велела Ханадзё приготовиться. Двое других погнали коров с выпаса. Топот копыт по деревянному настилу смешивался с мычанием. Хозяин тоже вышел в коровник.
Ханаэ оказался не таким, как ожидалось. Вместо неряшливого бродяги перед хозяином стоял опрятный мужчина: коротко стриженные волосы, аккуратная бородка, жилет поверх брюк. Рукава белой рубахи закатаны, фартук из белого хлопка – все чисто, рабочее.
Хозяину это понравилось. Ханаэ лишь кивнул, но хозяин сам заговорил дружелюбно:
– Ханаэ, я о тебе слышал. Рад, что пришел. Надеюсь на тебя.
Тот промолчал, лишь взглядом показал, что понял. Хозяин объяснил порядок работ, какие коровы доятся, какие – нет.
– Эту пеструху с запада корми перед дойкой – брыкается.
Ханаэ сразу приступил. Его манера доить поразила хозяина: левую ногу он упер в вымя коровы, ведро поставил на согнутое колено правой, прижался плечом к боку животного. Тело неподвижно, только руки работают – молоко бьет струей. За пять минут – больше четырех сё. Молоко белое, как снег, без соринок.
– Искусно! – не удержался хозяин.
Жена, процеживая молоко, тоже удивилась чистоте.
– Да, Ханаэ – мастер, – крикнула она мужу.
Тот даже не шелохнулся. Ни слова, ни взгляда – будто их и нет. Перешел к пеструхе.
Хозяин велел Канэкити подать ей корм. Ханаэ, держа ведро в левой руке, правой погладил корову по плечу, ласково что-то пробормотал.
Корова заерзала, но, получив сено, успокоилась. Ханаэ доил осторожно, умело – ни одного удара копытом.
Хозяин разглядывал его. Этот уверенный в себе человек, казалось, твердо знал, во что верил. Его мастерство было почти божественным. И все же он скитался, не находя пристанища. Какое противоречие!
Похоже, Ханаэ просто делал свое дело, не задумываясь. Ему не нужны были слова. А мы, подумал хозяин, слишком часто хитрим, приспосабливаемся – перед ним даже стыдно.
Может, он презирает всех за их ложь? Или просто несчастный, не умеющий общаться?
Пока хозяин размышлял, Ханаэ уже подоил несколько коров. Твердо, уверенно. Жалок ли он? Но глядя на него, хозяин чувствовал стыд за свою бесцельную жизнь.
– Хозяин, осторожнее, сейчас чистить будем! – крикнул Канэкити, сгребая навоз.
– Канэкити, горячая вода готова, иди мешай отруби! – донеслось от жены.
Горо рассыпал корм. Семнадцать-восемь коров разом замычали, задвигались. А Ханаэ продолжал работать, не теряя концентрации.
В доме ждал гость, и хозяин вышел из коровника.
III
За ужином жена не выдержала:
– Слушай, насчет этого дояра… Он и правда ненормальный. Даже не отвечает, когда с ним говоришь. Как с таким быть?
– Мы же знали, что берем чудака, – отмахнулся хозяин. – Дадим ему дней десять-двадцать, тогда и решим.
– Но всё же…
– Чёрт возьми, если поймём его странности, найдём к нему подход!
Разговор заглох, но хозяин заинтересовался Ханаэ. Лёжа в постели, он размышлял:
«Неужели он всегда был таким? Должна же быть причина. Интересно, какая? Хотя бы догадаться… Но и без того он любопытен. По выражению лица видно – не дурак. Он действует с уверенностью, но в основе её – пустота. В этом его странность. Осознаёт ли он эту уверенность? Вряд ли. Без осознания нельзя заметить пустоту. Наверное, у него нет ни того, ни другого. И всё же он действует твёрдо и прямо. Система в его поступках есть – это очевидно. Удивительный тип!»
«Люди заурядные всегда кажутся скучными. Те, кто слишком хорошо уживаются с другими, редко бывают стоящими. И всё же именно они обычно счастливее – вот парадокс!»
«Если сравнить меня и Ханаэ… Мы различаем важное и пустяки, мелочи всегда спускаем на тормозах. У него такого разделения нет – он ко всему относится одинаково серьёзно. Поэтому у нас вблизи всё расплывчато, но в целом есть какая-то система. У него же – наоборот: ближайшее окружение ясно, а перспективы – во тьме.»
Хозяин вдруг осознал: «Размывать границы – не повод для гордости. У этого чудака есть чему поучиться.»
IV
На следующее утро жена вошла с табаком и длинной трубкой:
– У Ханаэ есть поручитель? Работник говорил, что он одинок, родни нет.
– Хм…
– Деньги – не главное. Но если заболеет – что тогда?
– Верно… Позови его.
Ханаэ явился опрятный, в жилете, молча поклонился. Лицо бесстрастное.
– Ханаэ, у тебя есть поручитель?
– Нет.
Ответ прозвучал чётко, без колебаний. Хозяин растерялся – обычный человек тут же начал бы оправдываться. Но с чудаком это бесполезно.
– Ладно… – промямлил он.
Жена нетерпеливо спросила:
– Ты же давно в Токио. Неужели никого близкого?
Ханаэ лишь взглянул на неё. «Смешной вопрос – у чудака разве бывают друзья?»
– Ладно, – вмешался хозяин. – Ханаэ, оставайся. Я буду твоим поручителем.
Жена округлила глаза. Хозяин остановил её взглядом. В это время заплакал ребёнок, и она вышла.
Ханаэ вдруг произнёс:
– Я рождён в этой стране. Значит, ей и должен.
Хозяин вздрогнул. «Значит, у него всё же есть принципы!»
– Верно. Поэтому я тебя и оставляю. Иди отдыхай, скоро дневная дойка.
Ханадзё молча вышел. Хозяин понял: дело не в отсутствии поручителей. Этот человек считал, что если станет беспомощным, о нём должно позаботиться государство.
«Логично. И всё же – какой странный!»
V
Прошло пять-шесть дней. Работа Ханаэ напоминала ход водяного колеса – механически точный, без лишних движений. Жена успокоилась: «Хороший дояр.»
Но среди работников пошли пересуды. Ханаэ никогда не разговаривал с ними, не будил на работу (хотя сам вставал минута в минуту), не смеялся. На окружающих не обращал внимания, делал своё дело и уходил. Но если его просили о чём-то – не отказывал.
Служанка находила его «славным». Однажды она забыла позвать его к ужину – он так и не пришёл. Обнаружив это поздно вечером, она в ужасе побежала за ним.
– Почему не поели?
– Не звали.
Он всегда использовал одни и те же чашки, которые мыл сам. Бережно хранил белоснежную салфетку и… палочки для еды.
Эти палочки поражали всех. Из слоновой кости, высшего качества, с золотой инкрустацией. Жена признавалась: «Таких я никогда не видела.»
– Господин Ханаэ, какие у вас прекрасные палочки! – восхищалась служанка. – Наверное, с историей?
Он лишь усмехался.
– Чтобы его развеселить, надо похвалить палочки! – смеялась служанка.
Но семья не решалась расспрашивать. Жена всё ещё побаивалась его.
Хозяин, собрав все эти сведения, чувствовал жгучую жалость. «Душевнобольной? Но он прекрасно справляется с работой, даже превосходит других. А его слова: „Я рождён в этой стране“… Неужели у него есть какая-то жизненная философия? Если да, то его нынешняя участь трагична.»
Он пытался завести с Ханаэ разговор, угощал чаем – но тот лишь односложно отвечал. Попытки выведать историю палочек вызывали лишь ту же усмешку.
Постепенно все привыкли к чудаку. Как камень, обёрнутый ватой, он существовал среди них, не взаимодействуя, но и не мешая. Так прошло несколько месяцев.
VI
Ханаэ, совершенно равнодушный к людям, странным образом бережно относился к коровам. То ли из любви к ним, то ли по привычке к работе – трудно сказать, но его забота выходила далеко за обычные рамки. К тому же он выполнял свои обязанности с такой методичностью и мастерством, что уже через два месяца после его появления коровник преобразился. Хозяин к этому времени вполне свыкся с его чудачествами, и дела шли своим чередом.
Работа водяного колеса в обычные дни шла гладко, но малейшее препятствие могло нарушить весь ход дела.
Хозяин, прервав чтение, вышел подышать воздухом в сад. Осенние травы почти полностью увяли, остались лишь несколько хризантем и диких цветов. Он стоял, остужая разгоряченную голову в прохладе. Грусть охватила его при виде этих жалких остатков растительности, измученных морозами и росой.
