Егорий Храбрый и Климка-дурачок
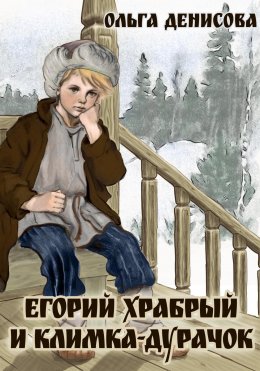
Ольга Денисова
Егорий Храбрый и Климка-дурачок
повесть
В каком году – рассчитывай,
В какой земле – угадывай…
Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»
Встал он из ямы,
Бурый, лохматый,
Двинул плечами
Ржавые латы.
Прянул на зверя…
А.Н. Толстой. «Егорий – волчий пастырь»
В кабаке пахло рыбой, портянками и перегаром; табачный дым колыхался под закопченным потолком – топор вешай, – а потому над каждым огоньком в лампах поднимался радужный нимб. Климка стоял у дверей – не решался позвать Никиту, но и возвращаться к Игнату ни с чем побаивался.
– Не знаю, у кого как, а у нас Егорий Храбрый в особенном почете. – Пономарь Никита крякнул, хлебнув водки, сморщился и утер усы рукавом.
– Подумашь, – фыркнул проезжий купчик, молодой и похожий на мышь.
– Подумаешь, да ничего не скажешь. Проезжал курган над речкой? Его и с большака видать, нарочно на виду поставленный.
Климка разинул рот, забыв, зачем его послали в кабак. И не зря: Никита хорошо умел рассказывать, даром что пономарь.
– Было мне время ваши пригорки разглядывать, – поморщился купчик, но посмотрел на Никиту с любопытством.
– Вот там и зарыт Егорий Храбрый.
– Врешь. – Купчик махнул рукой и начал лениво пожевывать сушеного снетка – перед ним целая горка лежала.
– Вот те крест! – Никита осенил себя крестным знамением – божился он от всей души, даже когда безбожно врал. Климка ему верил. – В одна тысяча пятьдесят четвертом году. Но речь-то не об том щас. О, Климка! Разбойничья твоя душа, а ты чё пришел?
Никита сгреб Климкины плечи в охапку длиннющей костлявой рукой – он без злости так Климку называл, шутейно.
– Мне Игнат велел тебя искать, а то ж воскресение завтра, а тебя в церкве нету и нету…
– Да успеется. Ты про Егория лучше послушай.
Климка радостно кивнул: от Никиты он слышал много историй разных, но страшней, чем о Егории Храбром – волчьем пастыре, – не придумали еще сказку. Потому что в других сказках все вроде как было где-то за тридевять земель, а тут – на горушке по дороге из Пёсьего в Завражье.
Климке, конечно, больше нравилось про молочную речку с кисельными берегами. Даже по ночам эта речка снилась: как идет он, ноги в киселе вязнут, зачерпнет пригоршню – кисель густой, красный, земляникой пахнет. Съест Климка пригоршню киселя, парным молоком прямо из речки запьет и идет дальше. Сколько хочешь черпай – все не вычерпаешь. Климка всегда хотел есть.
В сказке о Егории горушка звалась курганом, и в кургане этом вечным сном спал Егорий Храбрый. Да только как подуют осенние недобрые ветры, как дыхнет с севера лютым холодом, сходятся на кургане стаи волков: текут со всех концов, голодные, злые; пробираются тайными тропами, неслышным шагом; озираются, дыбят загривки, гнут головы к земле – осенние ночи темные, хоть глаз коли, лишь посверкивают во мраке зеленые волчьи глаза. Взбираются волки на курган, не воют – скулят, будто псы, нюхают ветер и скрюченными лапами землю скребут. Тошно им без пастыря своего зиму встречать, страшно и голода, и мороза. А как разроют курган, скрежет по всей округе слышен делается – это доспех Егория Храброго волчьи когти царапают. От такого скрежета и мертвец из могилы подымется – и встает на ноги волчий пастырь, распрямляет плечи, сбрасывает изоржавелые брони – волки руки ему лижут, как верные псы. Гикнет Егорий молодецки, свистнет залихватски, вскочит на матерого волка, как на коня. И помчит за ним все стадо по полям да по лесам – легок волчий бег и тих, будто не по земле скачут, а летят по воздуху.
Кому навстречь они выскочат, тот замертво упадет; на кого Егорий волку укажет, тот уже не уйдет, будь то заяц, овца или даже человек, – настигнет волк верную добычу. И рыщет волчье стадо каждую ночь, ищет поживу. А впереди на матером мчится мертвец…
Купчик сказку плохо слушал, советы давал, перебивал Никиту разными вопросами:
– Да ну? Ат так прям и встает?
– Не веришь – не буду дальше говорить.
– Д-ладно, ври уж, чего там… Складно выходит.
Не верил купчик Никите, и напрасно…
– А коли складно, так мальчонку снетком угости, не жадничай.
Купчик поглядел на Климку, качнул головой и сунул ему три рыбешки. Климка пихнул хвост снетка в рот, надеясь пососать его подольше, – а зубами так и хочется куснуть, так и подмывает…
Никита дальше рассказывать: у Климки душа в пятки уходит, а купчик только ухмыляется. Дослушал, конечно.
– Сказки это всё прабабкины, – сказал.
Тут сам староста к столу подошел. Был он человек хлипкий и малорослый, с виду не солидный, но хитрый, а потому уважаемый – кого хочешь мог вокруг пальца обвести.
– Сказки не сказки, а я сам на Игория разрытый курган видал, своими глазами. И не я один-ат.
Купчик зевнул нарочито – обидеть Никиту хотел.
– Да и́ще дед мой баял… – встрял кабачник. – Брат ёго в лесу Игория повстречал. У самой деревни, к хлевам волки подбирались. На его Игорий указал пальцем, а брат дедов до дому добежал-ат и дверь-та захлопнул. Так спужался, что и до ветру не побег – спать завалился. Над им тоже посмеялися все. А просыпаются оне, а брат дедов в постели мертвай лежит – глотка у его перегрызена.
– И кум мой видал волчье стадо, – добавил Миха Житов. – В Завражье дело было. Мчат по полю и земле не касаются, а напереди – верховой на волке. Кум нарочно утром пошел поглядеть – ни одного следа не оставили, будто всамделе по воздуху летели.
Со всех сторон обступили купчика, тому интересничать и расхотелось. Знай, как над Никитиными байками смеяться! Климка не заметил, как всех трех снетков сжевал, – будто их и не было.
Много еще рассказывали о Егории и о волках, а потом Миха Житов и говорит:
– В кабаке чай над волчьим пастырем посмеяться хорошо. А ты прокатись-ат ночью мимо кургана – а я на тебе погляжу.
– А и прокачусь! – засмеялся купчик. – Мне в Завражье ночевать сподручней, тамочки шурин мой живет, Терентий Прокопьев. А щас и поеду. Небось у сродника деньги целые будут.
– А ты шо жа, деньги везешь? – как бы невзначай спросил Пашка Дурнев, мясник, зять старосты.
– Да мельницу тута в Юрьеве продают, четыре тыщи просют, – разговорился купчик – похвастаться, значит, богатством, мужиков за пояс заткнуть. У вас, дескать, Егорий, а у нас денег куры не клюют.
– Дорого чавой-то просют… – проворчал староста.
– Так Юрьево чай не ваше Пёсье! За вашу мельницу я б и тыщи не дал. У вас, вишь, крыши не то соломой – ботовьем крыты, небось и ста рублев за год не намелешь.
Еще больше мужики разобиделись и ну спроваживать купчика, подначивать – что испугается он мимо кургана проехать. И всех пуще Пашка Дурнев, потому как самый жадный в селе, – ненавистно ему слушать про чужое богатство. Купчик-то выпивший был, на подначки эти только раззадорился: сел на коня и поехал в Завражье на ночь глядя.
А на следующий день страшная весть оттуда пришла: добрался до родственника купчик, ночевать у него остался, да только и его, и всех домочадцев Терентьевых нашли утром с перерезанными глотками. Двоих детишек маленьких, старуху-мать, жену – никого не пожалели. Ну и, конечно, слух сразу пошел, что это Егорий на купчика обиделся. Кто-то заикнулся про разбойников, которые в округе той осенью промышляли, да его сразу окоротили: не может быть таких людей лютых, чтобы малых деток не пощадили. Только волки на такое способны.
Разбойники в самом деле на большаке проезжих грабили, только по деревням их не очень-то боялись, думали, у мужика взять нечего, лиходею никакого интереса. Поговаривали даже, что кто-то из Пёсьего тоже с ними был. Голод надвигался нешуточный – третье лето подряд без урожая. Хлеба нет, скотину и даром не берут, только на убой, – бескормица. Недоимки1 заплати, помещику за отрезки2 деньги вынь да положь, долги, мирские сборы, земские – и круговая порука от нищеты не спасет: или по миру идти, или на большую дорогу с топором. Многие отправились в город заработков искать, да почти все назад вернулись – там своих умников хватало. В городе, известно, толсто звонят, да тонко едят.
Климка вместе с глухонемой мамкой приживал у попа захребетником, звался ублюдком или дурачком и о своем разбойничьем происхождении знал с самого малолетства, об этом вспоминали к месту и не к месту. Особенно попадья, когда лупила Климку чем ни попадя, – маленьким он очень ее боялся, а потому при ее приближении все валилось у него из рук.
– Ах ты ж выродок! Тварь неблагодарная! Ты что ж, стервец, сделал? Руки твои дырявые, ты ж дьве дюжины яиц укокошил, мерзавец! Ты ж милостью нашей на этом свете живешь, отродье лиходеево, задарма хлеб ешь! Мать твою пожалели, из петли вынули, тебя, семя разбойничье, в канаве подыхать не бросили! А ты вот чем за доброту нашу плотишь? Дьве дюжины – все коту под хвост!
Мамка, понятно, жалела его, но украдкой, чтобы не сердить попадью. Бывало вечером, когда все спать полягут, прижмет лицо Климкино к груди, волосы руками мнет, клюет губами в макушку, мычит что-то тоненько, будто больно ей. Климка очень ее любил, хотя все говорили, что она тронутая и Климку чуть в выгребной яме не утопила, когда он только народился. Кто ее знает, может, в самом деле такая злоба в сердце у нее была на тех разбойников, что силой ее взяли, а может, боялась, что выгонит ее с дитем отец Андрей, царство ему небесное. Климку у нее отобрали от греха, кормилице отдали. Мамка на третий день к ней явилась, как есть помешанная: глаза дурные провалились, пальцы скрюченные, рот оскаленный. Кормилица с испугу и шевельнуться побоялась. А мамка выхватила Климку из колыбели – и прочь из избы. Пока собрались догонять, ее и след простыл – по всему селу искали, думали, угробит дитятко. Отец Андрей ее на повети нашел: сидит, ревмя ревет, Климку жмет к груди. Климка от него этот рассказ частенько слышал, отец Андрей, когда сильно вина набирался, любил поговорить задушевно, а вино он пил помногу и часто, отчего и помер до времени.
– Вразумил дуру Господь! Чего ревешь, спрашиваю, – мычит. Как собака: все понимат, а сказать не может. А етот, – кивал на Климку отец Андрей, – как клоп к титьке присосался – не оторвешь. Тогда еще пожрать любил, прорва ненасытная. У-у, морда, что глазам-то хлопашь? Ты Господу молись усердней, – может, пошлет тебе в воскресенье пряник. Эх, Климка, твое есть царствие небесное, а ты только о брюхе своем думашь…
Безобидный был поп, разве что с похмелья даст по затылку, но без сердца. Попадья злобилась, что он вечно пьяный, ядом исходила, но перечить-то побаивалась, только брюзжала:
– Шут гороховай, опять нализался… Срам один… Где ж такое видано, вместо причастия в постель к умирашшему улечься да храпеть до утра, а? Как людя́м-ат в глаза смотреть не совестно… Кто алтарь-та вчера облевал, обедню не кончив? А нонче опять лыка не вяжет…
Климка в самом деле усердно молился о прянике, и иногда по воскресеньям Господь являл ему чудо: перед сном мамка доставала белую тряпицу, разворачивала ее медленно и чинно и протягивала Климке пряник на раскрытой ладони. Климка пробовал помолиться о калаче, но в воскресенье все равно получил пряник. Ему, конечно, хотелось подсмотреть, как Господь встречается с мамкой, но так ни разу и не удалось. А мамка, понятно, рассказать об этом не могла.
С тех пор как отец Андрей помер, пряников Господь Климке больше не посылал… Впрочем, в его жизни и без того чудес хватало. Наверное, за то, что мамка ни говорить, ни слышать не могла, дал Бог Климке волшебный дар – не только с людьми разговаривать. За это его дурачком и звали.
Подбежит утречком к колодцу, возьмется за ворот:
– Колодец-колодец, дай мне водички два ведра! И смотри, больше воротом меня не бей, а то я так язык прикусил в тот раз…
Скрипит колодец, и сразу ясно: не в ту сторону в тот раз Климка ворот крутил, вот и получил по зубам.
Лошадям сена несет – тоже поговорить надо, коровник чистит – как не спросить буренок про житьё-бытьё? Однажды Климка лисицу в курятнике застал, куры на весь двор голосили, сразу ясно было, что лиса. Да и Трезор с цепи рвался, хрипел, – понятно, лису чуял.
Климка раньше лисиц так близко не видал, любопытно ему стало на нее посмотреть. Как уж она в курятник пролезла – неизвестно, а только Климка, знать, дорогу на волю ей отрезал, когда вошел. Потому что она в угол забилась, куренка за шею в зубах держит и щерится – напугать хочет.
– Ай, лисичка-сестричка! И не стыдно тебе курей красть? Они ж не твои – поповские. Вот все б курей крали, чего б от их осталось?
Нет, не стыдно ей было красть курей, нисколечко. Очень ей курятины хотелось. Так что с того? Климке, может, тоже хотелось, но он же чужого не брал…
Долго увещевал Климка лисицу, грозил пальцем, пока дверь в курятник не распахнулась – на шум явился отец Андрей. Хохотал, слезы с глаз смахивал.
– Кот Васька плут, – говорил нараспев, – кот Васька вор. И Ваську-де не только что в поварню, пускать не надо и на двор…
Климка решил, будто отец Андрей в темноте не разглядел, что это лисица, а не кот. А та метнулась вдруг в раскрытую дверь, проскользнула у попа между ног и к огородам припустила, с куренком в зубах. Трезор-то на цепи, а отец Андрей только хохотал и кричал вслед:
– Ату ее! Ату!
Пьяный был, конечно.
* * *
Пролетка раскачивалась и вязла в грязи, становой Петр Маркович Данилов кутался в воротник шинели, стараясь прикрыть лицо от мороси, что роем мошкары забивалась в рукава и за шиворот, испариной собиралась на лбу в крупные капли, висела в воздухе густым холодным туманом. Вдоль дороги тянулись то унылые пустые поля, то черные перелески, – и голые ветви, похожие на птичьи лапы, скребли пролетку своими острыми коготками. Октябрь, распутица… Петр Маркович и хотел бы подремать, но слишком уж трясло и шатало пролетку. Вся жизнь в пути, по грязи кривых дорог… И если в России две беды, то обе они непременно сопровождали Петра Марковича, – и теперь по правую руку безмятежно храпел урядник, детина лихой и пустоголовый.
Неровно чавкала копытами лошадь, что везла впереди пролетки троих понятых на телеге, а шедший рядом с телегой сотский, прибывший из Завражья, в двадцатый раз повторял сказку о волках, пробравшихся в избу и зарезавших шесть человек, словно овец. И бывалый охотник из понятых вторил ему, рассказывая, как волчицы по осени учат волчат одним броском вспарывать добыче глотку – до десятка овец в стаде режут и бросают, потому что сожрать сразу не могут.
Глядя на косую колоколенку, показавшуюся из тумана, Петр Маркович в который раз усмехнулся: собачья жизнь в этом Песьем. Впрочем, и в Завражье не лучше. А может, и не собачья вовсе…
Волчья осень. Страшная зима впереди, а весна еще страшней. Петр Маркович не сомневался, что преступлений нынешней зимой будет не в пример больше, чем обычно, особенно пьяных драк со смертоубийствами, – чем туже нужда, тем сильнее пьют по деревням. Сейчас пропивают собранный урожай, доверяя нелепым слухам о раздаче зерна в помощь голодающим. После будут пить от безысходности… А уж сколько наворуют при дележке этой самой помощи, если она таки случится!
И разбоя ждал Петр Маркович: от голода народ звереет, и дрянной люд, что раньше промышлял воровством и мошенничаньем, отваживается на грабеж. Но положить шесть человек ради наживы – это не шушера, не шантрапа. Тут кто-то из матерых уголовных рецидивистов, для кого человеческая жизнь ничего не стоит.
Густой ельник подступил к дороге с обеих сторон, и тусклый свет осеннего дня показался поздними сумерками, будто вот-вот наступит долгая черная ночь. Мрачное место, в самый раз творить разбой. Тут и летом в солнечный день хмуро, а в ночи́ небось и рук своих не разглядишь. Да и ели растут так густо, что не пробиться сквозь них, – попадешь как муха в паутину. Что ж разбойники на купца здесь не напали? Зачем до Завражья добраться позволили? С одним-то справиться легче, чем с шестью…
– Гляди, гляди, – заранее предупреждал сотский, – вот щас курган.
Дорога вынырнула из ельника на открытое пространство, показался вдали берег реки, а над ним горушка, что издавна звалась здесь Егорьевым курганом. Петр Маркович повернул голову да так и замер с приоткрытым ртом: даже издали была видна разрытая вершина горки – черная земля и красный песок среди пожухлой, но зеленой еще травы.
– Вишь? Вишь?! – голосил сотский. – Разрыта могила-ат Игорьева! Разрыта! А я чё-ат говорил!
И уж так он радовался этой разрытой горке, что Петр Маркович решил, будто сотский мог и сам ее раскопать, лишь бы удивить теперь понятых.
В Завражье – деревеньке в три десятка дворов – нетрудно было догадаться, куда ехать: перед избой Терентия Прокопьева толпился народ. Зажиточный был мужик Терентий: двор широкий, изба крепкая, бревенчатая, не чета тем сараюшкам, мимо которых ехала пролетка, – крыши кой-как крыты картофельными ботовьями. Хорошо купца иметь в родственниках: и лошадь, и корову можно прокормить, и дом покрыть тесом. Вот оно как обернулось – родство с купцом…
Станового вышли встречать и староста, и молодой батюшка, и с десяток самых уважаемых мужиков «общества», в основном из Песьего. Петр Маркович толкнул храпевшего урядника, и тот выпрямился неожиданно резко, глядя вокруг глупым и строгим взглядом, словно собирался пресечь какое-нибудь безобразие. Урядник, Денис Иванович, приходился становому дальним родственником – жениным двоюродным племянником, – получил место стараниями Петра Марковича не так давно и пока не вполне освоился со своими обязанностями.
Никакие калоши не спасли от грязи, Петр Маркович сошел с пролетки на единственную деревенскую улицу, сразу провалившись в лужу по щиколотки. Ворота во двор Прокопьева были открыты настежь, на цепи бесновался лохматый остроухий пес, и становой безотчетно отметил: собаку на ночь не спустили с привязи. Почему? Да потому что приехал гость – ну́ как ночью ему на двор потребуется выйти?
Староста вился вокруг – сухонький, шустрый, – заглядывал начальству в глаза снизу вверх.
– Я туточка никому не велел ничего трогать. Мертвяков в церкву хотели быстренько везть – я не дал позволеньица.
Петр Маркович прошел через сени, поднялся по лестнице – и замер на пороге полутемной избы… За пятнадцать лет службы он и пострашней виды видывал, но привыкнуть не сумел: закашлялся от тяжелого запаха сопревшей крови, ощутил дурноту и отступил на шаг.
Хозяин дома лежал у входа – видно, сопротивлялся с перерезанным уже горлом… Его гость, по всему, пытался бежать и пойман был у окна, в самом дальнем углу. Жена и ребятишки посреди избы, старуха – в постели… В избе весь пол сплошь залит кровью, а на выскобленном полу перед дверью – ни одного следа, ни человечьего, ни… волчьего. Но если кто-то видел зарезанных волком овец, то сразу бы заметил сходство ранений: глотки как клыком вспороты, а не ножом. Будто в самом деле ворвалась в избу стая волков…
– Матерь Божья… – прохрипел за спиной урядник, перекрестившись.
– За доктором пошли, – оглянулся на него Петр Маркович. – Пусть немедля едет сюда.
Конечно, доктору нужно было ехать в Завражье вместе со становым, урядником и понятыми, но он отговорился посещением больного – да и не поверил рассказу сотского о шести покойниках, зарезанных волками.
– Так уж стемнеет скоро… – пожал плечами урядник. – Двадцать верст туда да двадцать сюда… Мож, к завтраму звать?
– Нет, чтобы ехал сегодня. И исправнику передай записку с докладом, пусть известит судебного следователя.
Ночевать в сельской управе не хотелось, а помещик Мерлин Дмитрий Сергеевич, чья усадьба стояла в полутора верстах от Завражья, навряд обрадовался бы незваным гостям.
Петр Маркович сдавленно кашлянул и перешагнул через тело Терентия Прокопьева, чтобы осмотреть место убийства во всех деталях. Тут-то староста, топтавшийся на лестнице, и осмелился заговорить:
– Так как же ж… Можно покойников в церкву-то везть? Обшество беспокоится…
– Ни в коем случае, – не глядя на старосту, ответил Петр Маркович. – До приезда доктора ничего трогать нельзя.
– Так ить… нечистые же ж покойники… Опасаются люди: ну как ночь, не ровен час, по деревне бродить пойдут…
Петр Маркович вздохнул горестно и взглянул на старосту:
– Об этом с батюшкой лучше поговорить.
– Так отец Игнатий не возражат, чтоб их до похорон отчитывать.
– Если доктор до ночи не приедет, пусть их здесь отчитывают, – снова вздохнул Петр Маркович. – Но трогать тела не смейте.
Только в Песьем человек двадцать знали, что купец везет деньги, – тот, по молодости своей и глупости да по пьяному делу, растрезвонил об этом на весь белый свет. Будь воля Петра Марковича, он бы запретил кабаки и пьянство – уж очень много бед случалось от водки. Вот и старый батюшка из Песьего от опоя умер… Впрочем, там тоже дело было нечисто, но становому пришлось закрыть на это глаза: доказать он ничего не сумел бы, и связываться с архиереем не хотелось – выставили бы Петра Марковича дураком или лжецом.
Запирались ли Прокопьевы на ночь? Наверняка запирались. Ворота точно закрывали – было что брать со двора. Положим, разбойники через забор могли перебраться, пес на привязи сидел. Но как они вошли в дом? Не будь у Терентия крыша крыта тесом, Петр Маркович мог бы поверить в незапертую дверь. Но крепкого мужика в деревне отличает не столько любовь к труду, чем они сами кичатся, сколько прижимистость (если не сказать скаредность) и усердие в сбережении накопленного.
Петр Маркович не поленился вернуться. На дверях в избу Прокопьевых было два железных засова. Может, один из них на ночь и не задвигали, но на второй закрывались точно. А это значит – необязательно, но очень возможно, – что постучался в избу среди ночи кто-то из тех, кого Терентий хорошо знал. Либо… Страшные сказки детства полезли в голову: о том, как волк заманивает в лес жалостливого путника – будто слышится ему из-за деревьев детский плач. Или еще того веселее: как кузнец кует волку тонкий голос…
Петр Маркович считал себя человеком образованным и чуждым суеверий. Да и не открыл бы Терентий дверь плачущему ребенку. Поостерегся бы. А вот соседу…
В сказке о волках, зарезавших Прокопьевых, никто почему-то не желал замечать очевидного: волки не едят ассигнаций.
Темнело. Петр Маркович достал папиросу и остановился на выходе со двора. Через дорогу лежало пустое сжатое поле – зыбкая мгла, словно копоть на стекле, становилась все гуще, ночная туча опускалась с небес промозглой сыростью. Осенние сумерки всегда рождали в его душе неизбывную смертную тоску, ощущение бесприютности, бессмысленности и бесполезности бытия. Грязь под ногами и нищета убогой деревеньки, вялый лай собак – и пустота, холодная черно-серая пустота вокруг…
Словно в ответ на невеселые думы с дороги вдруг раздался унылый скрип повозки, чавкающая поступь лошаденки, и почему-то подумалось о катафалке. Когда же из мглы показалась телега, Петр Маркович лишь укрепился в этой мысли, уж больно мрачно выглядел человек, правивший лошаденкой, – словно выходец из преисподней. В длинном темном балахоне под зипуном (как в саване), он раскачивался из стороны в сторону, иногда дергая вожжи, – лошадь останавливалась, человека кидало вперед, и телега еле-еле двигалась дальше.
Бравый урядник рассеял наваждение, выскочив на улицу из соседнего двора; загромыхал сочным ругательством, окунувши в лужу сапоги.
– Эти тоже ничего не видели и не слышали! – отрапортовал он бойко и невместно громко для безрадостной сумеречной тишины.
Понятых устроили на ночлег в сельской управе, урядник же был полон сил и служебного рвения, собираясь хоть ночь напролет рыскать по деревне – лишь бы немедля кого-нибудь покарать.
А подъехавшая телега, по иронии судьбы, в самом деле оказалась катафалком, и правил ею дьякон Яшка, одетый не в саван вовсе, а в подрясник. Его прислал молодой батюшка: либо забрать покойников в Песье, в церковь, либо, если доктор еще не приехал и тела забирать нельзя, читать псалтырь здесь, в избе погибших. Яшка хорошенько принял на грудь перед отъездом, потому раскачивался и держался за вожжи, чтобы не сверзиться с телеги.
– Отец Яков… – Петр Маркович замялся, понимая нелепость и даже оскорбительность своего вопроса. – А вы, часом, не были вчера в кабаке, когда купец Мятлин говорил о деньгах?
– Не, вчерась не был… – просто ответил отец дьякон, нисколько не оскорбившись. – Никита был, пономарь. Так чё, нельзя покойничков увезть?
– Пока нет.
– Ну тады пошел я… – Яшка достал из-за пазухи полуштоф сивухи и сделал несколько уверенных глотков, мелко перекрестился и повел лошаденку во двор Прокопьевых.
Петру Марковичу вспомнился Хома Брут…
* * *
Климка с матерью, пономарь Никита и два батрака, братья Семеновы Ивашка и Митька, обитали в прирубленной к большому дому клетушке с земляным полом, которую попадья по-барски называла «людской избой». На мамке вся женская работа по хозяйству держалась, попадья белы ручки марать не любила, и поповны, пока замуж не вышли, вышиванию больше обучались и музыке. Потому и были белые, пышные и гладкие, а мамка год от года сохла и чернела, но с ног сбивалась – отцу Андрею и попадье хотела угодить. Климка ей помогал, конечно, но у него и своих дел хватало, с утра до ночи крутился. А в общем-то, жили они неплохо, бывает и похуже житье. Пока старший попович, Игнат, насовсем не вернулся из семинарии.
Случилось это на Пасху, перед вторым подряд засушливым летом. Ох, наплакался Климка с его возвращением! Он и раньше поповича боялся, измывался тот над Климкой по своей злой семинарской привычке. Но тут попович, видать, хозяином себя возомнил, важничал очень, перед братьями грудь колесом выкатывал – те пока приехали только на праздник, семинаристы еще были. Попадья на него радовалась, все твердила, что теперь дом в надежных руках.
И точно: Игнат сразу свои порядки стал заводить. Отец Андрей мужикам из деревни за вспашку земли приплачивал, Игнат же на батраках захотел выехать. Им куда деваться? Вот и пахали: одна заря в поле гонит, другая – с поля. Климку попович тоже к делу приставил, боронить. Пришлось вставать до света – бегал Климка по двору как угорелый, но не успевал всех дел переделать. А попович его еще и вожжами отстегал, за то что мешок семенного овса в лужу с телеги просыпался. И так больно, что Климка даже расплакался, хотя не маленький уже был, чтобы плакать, – восьмой год ему тогда шел. За него младший попович, Гриша, вступился, да куда там против двух старших братьев и попадьи! Изругали и Гришу.
А он хороший был, тоже Климке сказки рассказывал, и складные такие: про семерых богатырей, про золотую рыбку. Но Климке про князя понравилось, которого змея укусила. Князь этот тоже со своим конем разговаривал будто с человеком. Гриша радовался, что Климке сказки нравятся, расспрашивал, что и как Климка понял, и однажды непонятно воскликнул вдруг:
– О сеятель, приди!
Климка подумал, это он о семенном зерне, которое Игнат продавать вздумал, и о мужиках, которые за зерном должны приехать. С зерном этим старший попович тоже нехорошо сделал, в людской за это долго его костерили. В селе-то к Егорию голодному3 семенной хлеб съели, год плохой был, сеять надо, а денег ни у кого нет. Вот Игнат и удумал зерно в долг давать, под урожай, чтобы осенью вернули ему это зерно вдвое.
– Это ж только деньги в рост грешно отдавать, а зерно, значит, в рост отдавать – это и не грех вовсе! – невесело смеялся Никита. Он Игната особенно не любил.
Батраки обзывали поповича барином и гадом ползучим, грозились уйти, да только Игнат верно рассчитал: неурожай, сеять нечего – дураков хватало заработки искать. А потому батраки только грозились, но никуда не ушли.
Отец Андрей в это время в селе Пасху праздновал, две недели не просыхал, до самой посевной. А в воскресенье проповедь прочел, да такую, что не только бабы – собаки по дворам завыли. Что-де летит на землю огненный змей о семи головах: пожжет леса и болота, дымом землю заволочет, высушит поля, травы пожухнут; если где колос и взойдет, то все одно не поднимется, а если и поднимется – зерном не нальется. Дьякон Яшка за голову хватался, по лбу себе кулаком стучал, хотя был не трезвей отца Андрея. Средний попович, Сима, от хохота за живот держался, Никита глаза на отца Андрея таращил, а Игнат стоял в сторонке, и лицо у него было спокойное и злое, а может и злорадное.
После обедни крестным ходом на поля пошли, всем погостом, с иконами. Климке иконы не досталось, он картинку нес мамкину любимую, где белокрылый ангел на облаке из лука целится в красавца царевича. Долго ходили, отец Андрей кадилом помахивал, пел красиво и громко, сначала молитвы, а потом и другие песни. Все подпевали и водки попу подносили. Игнат тоже ходил, только не подпевал, водки не пил, а плевался от времени до времени и качал головой. А как отец Андрей допел «Коробушку», попович и говорит:
– Ты еще спляши…
– А чё ж не сплясать, спляшу!
И в самом деле пошел по кругу с притопом, да долго не продержался – качнулся, махнул кадилом и на задницу плюхнулся. Все хохочут, и сам отец Андрей хохочет – только Игнату не смешно.
Не угадал отец Андрей – сняли в то лето урожай не ахти какой, а все лучше, чем за предыдущее лето. Хлеба собрали впритык, что называется, – до весны бы дотянуть, а с кормами вот совсем плохо дело было, на сенокос дожди зарядили. Огненный змей по лесам-болотам едва прошелся, а в деревни-села не заглядывал: торфа́ только горели сильно.
И зверья в тот год много погибло, а много и ушло. Чего ж и волкам не уйти? Нет, развелось их к осени видимо-невидимо, расплодилось. И с наглостью своей волчьей с первыми же морозами начали подходить к деревням.
До того как ночи стали совсем длинные и холодные, и с Климкой один случай приключился. В лес он пошел, по грибы. Не один, конечно, – с ребятами. Год не грибной был, далеко приходилось путь держать, чтобы набрать корзину. Гуртом грибы искать несподручно, разбредались поодиночке и аукались.
Корзина Климкина уж руку оттягивала, а поворачивать было жалко: от боровика к боровику, от рыжика к рыжику – веселое это дело, грибы брать. Сам не заметил, как на выжженном месте оказался. Страшное место: трава черная, под ногами в прах рассыпается; стволы обгорелые торчат, будто колья в заборе у Бабы-Яги, – только черепов на верхушках не хватает. А от земли вроде как тепло идет. Наслышан был Климка о торфяных огненных ямах: сверху будто твердая земля, а наступишь – и в топку провалишься. Хотел он бежать оттуда, но тут вдруг показалось ему, что рядом серая рубашка мелькнула. Климка решил, что это Феденька, совсем маленький мальчишечка, – сам не догадается ведь уйти со страшного места. Позвал его Климка по имени, а никто ему не откликнулся. Лишь снова что-то серое за поваленным стволом мелькнуло. Попятился Климка, язык-то прикусил. И надо бежать, а спиной страшно повернуться. На три шага успел отступить, как выходит из-за ствола волчище: тощий, шерсть клочьями, хвост поленом. Горбится, бочком подбирается, со спины хочет зайти. Смотрит Климке в глаза, желтые клыки кажет. Климка онемел сначала с перепугу, а надо было кричать погромче – ребята бы прибежали, вместе отогнали бы зверя. Но Климке закричать духу не хватило, отступил он еще на шаг и говорит:
– Не ешь меня, серый волк.
И сам понимает: нет волку никакого резонта добычу выпускать.
– Хошь, я хлебца тебе дам, у меня осталось немного…
Нет, не хотел волк хлеба, но Климка все равно горбушку ему бросил. А сам пятится, пятится…
– Тебе, серый волк, зайцев положено ловить, а я разве заяц? Хошь, я и грибы тебе отдам, мне не жалко, я еще наберу.
Поставил корзину на траву и опять на два шага отступил. А волчище бочком его обходит, медленно, осторожно. Исподлобья смотрит, того и гляди кинется.
– А хошь, я сказку тебе расскажу. Я хорошие сказки знаю – заслушаесся… – Климка говорит, а сам пятится и лицом к волку поворачивается. – Жил-был в лесу волчище – серый бочище… А не хошь про волчищу, я тебе про князя расскажу, кого змея укусила. Ехал этот князь по дороге, ехал, а тут навстречь ему и́з лесу идет дохновенный кудесник…
Рассказывает Климка, а волк не сразу, но уши-то навострил – нравится ему сказка. Климка побольше воздуха втянул и дальше говорит, посмелей уже, погромче:
– Поговорил князь со своим конем, вот как я с тобой щас говорю, попрощался, ребятишкам его отдал…
Только Климка это сказал, а сзади как закричат:
– Волк, волк! Ребятки, волк!
Климка подпрыгнул с перепугу, и волчище тоже отскочил. Посмотрел на Климку в последний раз – жалко ему было уходить, сказки недослушав. Да и Климке обидно вдруг стало, что не узнал волк самого главного – про змею. Но ребята топали на весь лес, куда зверю против целой ватаги… Ушел.
А мальчишки по селу раззвонили, что Климка-дурачок в лесу волку сказки сказывал. Все над Климкой смеялись.
На Покров Игнат вдруг жениться надумал, скоренько так – в деревне болтали, будто грех прикрыть торопился, вот и спроворил. Но Никита сказал, что поповичу приход получить невтерпеж, а неженатого в иереи не рукоположат.
Игнат из города взял невесту, поповну тоже, но младшую в семье, за ней прихода не давали, только приданое, так что неправым вышел Никита. Отец Андрей не возражал, на смотринах напился только сильно, а так все гладко прошло. Венчались они в городе, Климка не видал, но говорили, что красиво было.
Жена поповича, Машенька, Климке понравилась, тихая и добрая, не то что попадья. Только житье у нее с Игнатом трудное получилось, не по ее нутру. Она, Никита говорил, учительствовать хотела, школу думала в Пёсьем открывать, но Игнат быстренько ее окоротил, а попадья к хозяйству пристроила.
Известно, неурожай от Бога, а голод – от людей. Кто семенное зерно в долг брал, вообще к весне без хлеба оставался, а брали не только у Игната, но и у старосты, и у Пашки Дурнева, и у помещика Мерлина. Староста и Пашка Дурнев согласились на передел: от должников себе земли оттяпали. Да и как с ними не расплатиться – в селе болтали, будто Фомка Кривой отказался долги платить, так зятья старосты так его отделали, что он еле жив от них ушел. После уж никто против передела не возражал.
Попович тоже был не прочь землицей долг принять, но тут мир воспротивился – земля-то общественная, что Игнату уйдет, назад не воротишь. Ругался Игнат на общество, круговой порукой грозил, да чай долг перед поповичем – не недоимки по выкупным платежам, посмеялись над ним только на сходе. В общем, взял с должников скотиной, а скотина в тот год ничего не стоила – бескормица.
Со всеми это дело как-то тихо прошло, только с Провом Власьевым шум случился. Жена его через все село за коровенкой своей тощей бежала, голосила, на шею то буренке, то мужу кидалась. Пров и домой прогнать ее не смеет, и корову не может не отдать – идет, в землю глядит, еле ноги переставляет.
Отец Андрей в то время похмельной хворостью маялся, на крыльце сидел. Вой бабий услыхал – зажал уши руками, перекосился весь. Климка-то у ворот на Прова глаза пялил – любопытно же, что за шум такой на все село. Глядит – бежит Никита сломя голову, Власьевых обгоняет, а в руках у него полный стакан. Он его одной рукой держит, а другой сверху накрывает, чтобы не пролить. Подбежал к Климке, запыхался, сует стакан:
– Иди, поднеси батьке… Не видишь – плохо ему.
А Пров уж к ворота́м подходит.
Отец Андрей обрадовался, ожил сразу. Взял водку – а руки трясутся, того и гляди стакан выскользнет.
– Благослови тебя Господь, – сказал Климке с чувством и перекрестил левой щепотью. На дверь оглянулся: не смотрит ли попадья? Влил в себя водку, позеленел сперва, рот ладошкой зажал. Потом выдохнул, довольный.
А тут на двор как раз Пров коровенку заводит, баба его на крик кричит:
– Не дам! Режьте меня, не дам! Изверги! Детей пожалейте, лихоимцы! Разбойник и тот последне не забират! Где ж видано, чтоб за мешок зерна – корову!
Отец Андрей глядит открывши рот и глазами хлопает – ему Игнат забыл о должниках рассказать, а он и рад, что дела без него устраиваются. Встал поп, прокашлялся, а баба Власьева на коленки перед ним плюхнулась, носом в грязь:
– Батюшка, ни погуби детуши-и-ик! Пожалей, заступник, дай срок – вернем зерно.
Ох и рассердился отец Андрей, когда ему все растолковали! Игната поленом по спине отходил, чуть со двора не погнал. Не только коровенку – все должникам велел вернуть. Бумаги порвал в сердцах, а как до новых дошло, так он уж на ровном месте не стоял – нашлось в тот день немало доброхотов, наливали отцу Андрею, заступнику и избавителю, и стар и млад.
Попадью от жадности чуть удар не хватил, неделю на Климке злобу вымещала – прознала, кто отцу Андрею тот злосчастный стакан поднес. А Никита руки потирал: удалось ему Игната посрамить.
* * *
Петр Маркович не стал терять напрасно время и дожидаться доктора, поехал в Пёсье, поговорить с теми, кто накануне в кабаке слышал похвальбу Мятлина.
День был воскресный – и возле кабака, и внутри собралось много народу. По обычаю в воскресенье пить начинали после обедни, потому Петр Маркович застал апогей пьяного разгула – ни грозный вид урядника, ни двое сотских, ни сам становой не смутили шумных гуляк, разве что трезвый кабачник перетрусил и рассыпался в поклонах: рыльце было в пушку.
– Ганька, стервец, скатерётку неси, – шипел он мальчишке-половому и, повернувшись к Петру Марковичу, сладко и фальшиво склабился: – Сюда-с присаживайтеси, ваш благородье…
Засаленная тряпица незаметно скользнула по табурету, смахнув усатого прусака.
Дым и чад, вонища, теснота… Становой давно перестал брезгливо морщиться, оказываясь в этих убогих вертепах, – не привык, но смирился. Топил кабачник по-хозяйски бережливо, и поминутно раскрывавшаяся дверь почему-то не добавляла свежего воздуха, но вытягивала тепло.
Правильней было бы вести дознание в сельской управе, о чем Петр Маркович и подумывал, но кабачник услужливо наладил «кабинет», задернув занавеску между столом у печки, где сидел становой, и прочими винопийцами. Ни от шума, ни от духоты занавеска не спасла, но создала некоторую видимость присутственного места.
Когда в самоваре, поставленном на неприлично белую здесь «скатерётку», забурлил кипяток, Петр Маркович уже записал, что после сообщения Мятлина о деньгах первым кабак покинул псаломщик Никита Панков (которого по старинке звали пономарем), причем ушел он поспешно. Следующим был кузнец Михаил Житов, а вопрос, кто и когда уходил после, произвел долгий шум и споры.
В субботу, даже в октябре, в кабак идут обычно те, кто побогаче, кого лишний стакан не ударит по карману, мужик победней прибережет копеечку на воскресный день, а то и на праздник. Вот и в эту злосчастную субботу в кабаке собрался «цвет» местного сельского общества, начиная старостой и заканчивая пономарем: мясник, кузнец, бондарь, с десяток крепких хозяев, имевших немалый вес на сходе, и только двое неимущих пьяниц да три отходника4, что пропивали заработанное за лето. Притом лишь последние напились без меры, остальные же «пропустили по стаканчику» для поддержания беседы. Да и купец Мятлин, по мнению очевидцев, не был сильно пьян. Впрочем, представления очевидцев о степени опьянения становой счел субъективными – если не валится с ног, значит еще не пьяный.
Петр Маркович относился к службе добросовестно, возможно даже излишне, а потому интересовался новейшими методиками ведения судебного следствия и криминологическими теориями. Однако рекомендации, что находил он в книгах, не работали в его практике совершенно. Может быть, в столицах дела обстояли иначе, но во втором стане С-кого уезда теории разбивались в прах о непроходимую темноту свидетелей, их странную, нелогичную на первый взгляд хитрость, упорные суеверия, глупую, ничем не оправданную ложь, причем ложь уверенную и непоколебимую. Разгадать наивные хитрости иногда не представлялось становому возможным.
Вот и теперь кабачник твердил, что двоих пьяниц не было в кабаке в субботу, хотя двадцать человек говорили прямо противоположное ему в глаза. Он складывал губы в нитку и глядел в потолок, как разбивший вазу мальчишка, который решил отрицать свою вину до конца. Впрочем, эту «хитрость» Петр Маркович почти угадал – наверняка кабачник наливал неимущим пьянчужкам в долг и надеялся скрыть сей факт от станового.
Кузнец Житов уверял, что за пономарем присылали мальчишку, потому он и ушел поспешно, едва проводив Мятлина; староста же, мясник и бондарь присутствие мальчишки отрицали, остальные о нем не помнили. Кто из них хитрит, почему и зачем, Петр Маркович разгадать не сумел.
– Климка-крапивник? – щурил на станового и без того маленькие глазки мясник. – Не было его надысь. Можа, он пономаря на вулице иде-то ждал, мине то неведомо.
Колоритный был мужик: разъевшийся, но тонкокостный, лицо будто вытянуто вверх, и особая примета имелась: лобный выступ на линии роста волос сильно сдвинут был вправо – это Петр Маркович отметил машинально, по привычке. Ремесло Дурнева соответствовало и внешнему облику, и манере держаться – Пёсьему не столько мясная лавка требовалась, сколько скотобойня. Чем-то резанула слух станового речь мясника, но он упустил чем.
Кузнец Житов являл собой противоположность Дурневу – мускулистый, но поджарый, с широким, приплюснутым лицом и глазами чуть навыкате.
– А мне и вспоминать неча: Климка-дурачок вчерась за пономарем прибежал-ат. И не на улицы ждал, а туточка торчал без делу, бох знат за каким лешим.
Главное же состояло в том, что очевидцы с поразительным единодушием считали расспросы станового неразумными и то и дело переводили рассказ на разрытый курган, на встреченных давеча волков, на волчьи следы неподалеку от кабака – эти свидетельства представлялись им важными гораздо более, нежели поспешность пономаря и подстрекание Мятлина к поездке в Завражье.
Отсутствие следов на месте преступления все они принимали за бесспорное доказательство причастности к делу волчьего пастыря, ибо известно, что волки в его «стаде» движутся не касаясь земли…
Пьяная драка возле входа прервала ненадолго допрос, урядник рванулся в дело, словно весь день и ждал чего-то подобного, надеясь наконец проявить свои недюжинные способности. Проявил он их блестяще, грозя острогом и виноватым, и невинным – всем, кого скрутили сотские. Петр Маркович не видел причин для столь хлопотного судебного разбирательства на столь ничтожном основании, как кабачная драка, а потому велел вывести забияк вон – охладиться под ледяным дождем. Урядник был разочарован принятым решением.
В эту самую минуту и явился псаломщик Никита Панков, за которым давно посылали, протиснулся меж пьяниц в распахнутую дверь, пригнувшись, – высокорослый был: не длинный, но худой, костлявый, с мятым в оспинах лицом.
Вид у него был смущенный, озадаченный и странно виноватый.
– Здравия желаю, ваше благородие, – сказал он тихо, садясь за стол напротив станового. Приподнял на миг глаза – как ножом полоснул.
И его виноватый вид, и вызывающий взгляд, и то, что именно он рассказал Мятлину о Егорьевом кургане, а потом ушел первым, – все это наводило Петра Марковича на обоснованные подозрения.
На вопросы станового пономарь отвечал невпопад, словно думал о чем-то совсем ином; не отрицал своего ухода сразу после отъезда Мятлина, но уверял, что торопился в храм, чтобы подготовиться к воскресной службе.
– А кто-нибудь видел вас в храме тем вечером?
– Так Климка же. – Никита Панков посмотрел на станового недоуменно. – Он и в кабак за мной пришел, и потом в храме мне помогал. И домой мы вместе вернулись.
– В котором часу вы вернулись домой?
– Так кто ж его знает, – хмыкнул пономарь, – темень. Но не поздно, меня еще и в сон не клонило.
– Кто видел ваше возвращение?
– Глаша видала, но она вам ничего не скажет.
– Почему?
– Глухонемая. А вот Ивашки с Митькой не было, они днем возвернулись. В Юрьево ходили, на базар, – заработали немножко, даже гостинцев принесли. Да вы Климку спросите, он парень сообразительный.
В последнем Петр Маркович усомнился, поскольку Житов назвал мальчишку «Климка-дурачок». Однако все ответы Панкова записал и отметил, что проверить его слова надо непременно. Он уже собирался отпустить пономаря восвояси, но тот вдруг перегнулся через стол и, глянув на занавеску, зашептал:
– Ваше благородие… Не хотел я говорить, вы ж на смех меня подымете… Но нельзя же не сказать-то. Вы не подумайте, я сказки мужикам сказываю, но я ж понимаю, где сказка, а где жизнь настоящая…
Петр Маркович тяжко вздохнул, но перебивать не стал.
И Панков продолжил:
– Я… видел сейчас волчье стадо. Поповский дом на отшибе стоит, поле голое… Вы не подумайте, я сегодня капли в рот не брал, я вообще малопьющий. Луна вдруг из-за туч показалась, глядь – а они скачут. По полю, вдоль леса, штук сорок. И человек с ними, с посохом. Ей-богу…
Говорил он тихо, оглядываясь по сторонам, смущался своих слов, отчего они звучали гораздо правдивей, чем громкие выкрики остальных свидетелей. И если это была хитрость, а не искреннее заблуждение, то вовсе не глупая, не наивная, а самая что ни на есть расчетливая…
– Я никому рассказывать про то не стану, не извольте беспокоиться. Я только вам…
Конечно, пономарь – не безграмотный мужик: судя по речи, учился в семинарии, разве что не окончил курса, но откуда ему знать тонкости актерского мастерства? Ведь с самого начала он выглядел озадаченным, удивленным – а теперь его удивление разъяснилось. Неужели он способен так совершенно лгать и притворяться? А еще – нездешний выговор был у Панкова, слишком правильный, будто у студента петербургского, а не деревенского псаломщика.
Разумеется, Петр Маркович не верил ни в какое стадо из сорока волков. Но, возможно, Панков увидел на горизонте обычную стаю из десятка зверей и в темноте она показалась ему столь многочисленной? Вряд ли. Он наверняка встречал волков не раз и не два за свою жизнь…
* * *
Отец Андрей на Игната долго дулся, тот тоже сначала злой ходил, с попадьей перешептывался. Они еще раза три ругались, Игнат орал, что отца Андрея за пьянство в монастырь надо отправить и приход у него отобрать, что довольно благочинного на одну службу воскресную позвать, чтобы Игната на место отца рукоположили. Еще орал, что каков поп, таков и приход, и эти слова его Климка долго потом вспоминал.
Никто, конечно, не верил, что Игнат родного отца в монастырь отправит, один только Никита говорил, что с поповича станется. Но тут Никита опять вышел неправым, потому что ближе к зиме Игнат решил с отцом замириться, начал к нему подъезжать то с одного боку, то с другого. А на Андрея Первозванного, к именинам отцовским, даже съездил в город и привез французской водки в бутылях. Никита, правда, и тут за поповичем злой умысел подозревал, потому как к следующему утру́ ждали приезда помощника благочинного, а с похмелья известно, чего от отца Андрея ждать.
Сели они тогда в горнице за стол, мириться начали – Климка тоже кое-что из их разговора слыхал, голанку5 как раз топил.
– Дурак ты, Игнашка. Дурак, – приговаривал отец Андрей. – Думаешь, я благочинного испугаюсь? Плевал я на благочинного с колокольни… Кто есть поп в деревне? Духовный пастырь, что ли? Дождь пошел на сенокос, кто виноват? Известно, поп. Градом посевы побило – тоже поп виноват, плохо с Боженькой договаривался. И вот как придет к тебе на порог мужичье с вилами, окна побьет, обложит дом сеном – никакой благочинный тебя не спасет: побежишь, подрясник задравши, и скотину кругами обходить, и по меже валяться, и на перекрестке кур резать.
Игнат помалкивал, подливал французской водки в стопку. Отец Андрей стопку одним глотком схлебнет, а Игнат только пригубит слегка да груздем сразу и закусит. И снова попу подливает. Французская водка уж больно страшна: темная, как вода в болотной канаве весной, и воняет на всю горницу, будто не водку пьют, а клопов давят. Попадья в тот раз тихо сидела, не высовывалась, не мешала, – видать, хотела, чтобы отец Андрей простил Игната.
– Вот, бывает, вдова Кондратьева тянет ручонку свою грязную с последним пятачком, на храм жертвует – а ты возьми и отведи ей руку-то… Храм небось не рухнет без ее пятачка, да и ты с голоду не помрешь. Иногда до слез жалко их, кто последние грошики за требы мне сует… – Отец Андрей набирался все больше, в раж входил.
Игнат не хотел возражать, морщился только, но тут не выдержал:
– Ничего, в кабак они последние грошики за милую душу несут… Жить-то на что будешь, если каждую руку с последним пятачком отведешь?
– Э, в кабак они грошики не с радости небось несут. Тут тоже психология: и умственная темнота, и нищета, и страхи их извечные перед голодом, перед болезнями… Сивуха человека оглушает, передышку ему дает от этой беспросветности. Наломался мужик за неделю, намаялся – водка и телесную боль снимает, и вроде как возжигает свет в его душе угрюмой, радость ложную, обманную. А без этой лжи жить больно страшно… Да и куда еще мужику в воскресенье податься? Зимой, может, работы поменьше, а избы темные, холодные, сажа с потолка на голову лохмотками слетает, скотина воняет тут же, малые дети орут, большие по головам скачут, болящие под себя ходят, бабы чугунками гремят – сбежишь оттуда и на мороз. В кабаке же тепло, весело.
– Нет, бать, а нам-то жить на что? На казенное жалование? – Игнат стопку отцу не забыл до краев налить.
– На что? А вот помещик Мерлин нам для этого Господом послан. Паучина он, конечно, но, бывает, хорошие пожертвования делает. Сначала оберет мужиков, обдерет село как липку: за отрезки, да по долгам, да за дрова из лесу, да за воду из речки. А потом с барского плеча швырнет деньжат – как кость обглоданную псам: нате вам, православные, на ремонт храма, что б вы без меня тут жрали… Но с ним построже надо, чай поп не половой в трактире, «чего изволите» да «как прикажете». Мерлин, он задушевную проповедь любит, чтоб до слез прошибала – тут размягчается душа его и рука сама к кошельку тянется. И вот я тут подумал: как верно все-таки в Писании об этом говорится! Вдова Кондратьева со своим пятачком последним огромную жертву приносит, у нее самой за душой ничего, кроме этого пятака, и нет больше. Вот если Мерлин все свои деньги соберет да храму отдаст, вот тогда только его жертва с жертвой нищей бабы сравниться сможет.
Игната перекосило со слов отца Андрея, будто с клюквы. Климка к тому времени голанку растопил и побежал мамке на кухне помогать. Слышал еще, как отец Андрей песни пел. А когда вернулся дров подложить, тот речей уж не мог говорить и петь тоже не мог, лил пьяные слезы да бормотал что-то непонятное.
К тому времени жарко стало в горнице, и рыжий кот Васька разлегся на железном листе перед поддувалом, пузо возле печки погреть. Хотел его Климка согнать, а кот хвостом по полу бьет, шерсть дыбом поднял, глаз один открыл и ворчит. Кто со зверьми когда-нибудь разговаривал, тот понимает, что не человечий у них язык, простыми словами и не объяснишь, о чем они толкуют. Но сразу ясно стало: недоброе что-то в горнице делается. Страшное что-то. Климка кота послушал, и аж в животе похолодело все.
Отец Андрей к Игнату целоваться полез, сынком его родненьким назвал. А Игнат стопку ему в руки сует.
– На, – говорит, – бать. Нечего тут слюни распускать, выпей лучше.
Климка дверцу печную раскрыл, а кот вскочил на четыре лапы, спину выгнул и зашипел. Глаза злобные, шальные – того и гляди кинется. Вроде как говорит: беги отсюда, Климка-дурак, беги быстрее, покуда не поздно. Климка кой-как три полешка в топку сунул, быстренько дверцу закрыл и прочь побежал из горницы, вслед за котом.
Это потом шум поднялся на все село – так попадья голосила. И хоть стоял поповский дом чуть в стороне от других, а скоро и староста пожаловал, и другие мужики, и даже ребята – думали, пожар. Отец Андрей еще живой был, его на постель из горницы перенесли – Климка слышал, как он храпел. Не как спящий храпит, а иначе, по-другому. Так жутко стало от этого храпа, что Климка из дому на мороз выскочил, уши руками обхватил, сел на крыльцо и от страха заплакал. А кот Васька сидит на поручах – нахохлился, вспушился, глаза отводит с презрением. Будто сказать хочет: «А я тебя, Климка-дурак, предупреждал. А ты не верил».
Эх, лучше б попадья помалкивала тогда, потому что только хуже вышло. Мужики-то сразу смекнули, отчего отец Андрей помирает, – несло перегаром после этой французской водки не слабей, чем от простой сивухи. А еще поняли, что помирает-то он без причастия. За дьяконом Яшкой Климку послали, но Климка и тот знал, что Яшка ни исповедать, ни причастить не может, нету у него иерейского звания, иначе бы отец Андрей сам по ночам в Завражье не ездил – Яшку бы посылал. И Игната, хоть он и закончил семинарию, в иереи пока не рукоположили. В общем, известное дело – сапожник всегда без сапог.
К полуночи отец Андрей храпеть перестал и отошел тихо, будто во сне. И тут же, у смертного одра его, пошли разговоры, что-де нельзя его отпевать и хоронить на кладбище, раз он от опоя помер. Хоть и батюшка, а все равно нечистый покойник. Еще говорили, что если опойцу в болоте не похоронить, на будущий год снова засуха будет. И без того плохого лета ждали: морозы рано ударили, без снега, озимые померзли. Но эти все разговоры Игнат велел прекратить и сказал, что отец Андрей, может, грибами отравился.
Урядник на следующий день приезжал, вместе с доктором. Климка сам их не видал, его Игнат послал помогать Яшке и Никите в церкви порядок наводить, потому что на отпевание должен был помощник благочинного из города приехать. Но Митька вечером рассказывал, что Игнат дал доктору денег, чтобы тот про смерть от опоя ничего не писал, а написал бы про грибы.
На каждый роток не накинешь платок: все равно в деревне народ волновался, и к отпеванию собрались мужики возле церкви, чтобы не пропускать туда гроб. Но Игнат два ведра водки им выставил на помин души отца Андрея, а Никита и староста уговорились с ними, что стену в доме разбирать не будут, вынесут через дверь, отпоют как положено, но на кладбище в обход понесут, через перекресток, и лапником дорогу выстелют. Мужики еще хотели, чтобы отца Андрея лицом вниз в гробу положили, но на это Игнат тоже не согласился. И когда приехал помощник благочинного, все чин чином состоялось, даже Яшка сухой был как лист до самых поминок.
Сима и Гриша тоже приехали, и поповны с мужьями. Мамка на кладбище плакала очень, мычала громче, чем поповны и попадья выли. И Климка плакал – жалко ему было отца Андрея. Особенно жалко, что его лицом вниз мужики положить хотели – не по-людски.
Поминки хоть и постные были, но богатые. Климка с ног сбился бегать из кухни в горницу, но справился не хуже Ганьки-полового. Только когда гости уже из-за стола разошлись, он блюдо с кутьей случайно на пол опрокинул, оно и не разбилось даже, но каша на половик, правда, вывалилась. Климка хотел ее собрать потихоньку – все равно никто есть уже не будет, разве что отец Андрей ночью придет выпить-закусить. Но Игнат тут как тут оказался, увидел, как Климка блюдо на стол ставит. У Климки от страха душа в пятки ушла, аж коленки затряслись. Метнулся он в сторону от Игната, но тот за волосы его крепко ухватил и раза три приложил носом об это блюдо злосчастное. А кутья-то с медом, липкая… Стоит Климка – руки в каше, морда в каше, – утирает слезы и кровь из носа. Больно, обидно… Игнат даже не сказал ничего, молча ушел бы, если бы с Гришей на пороге не столкнулся. И так страшно Климке от этого стало – от того, что он молча, без сердца, но со злобой.
Гриша остановил Игната, взял за плечо:
– Ну зачем? Зачем? Объясни мне! Ты же достоинство человеческое топчешь, ты же…
– Какое там достоинство! – усмехнулся Игнат. – Руки дырявые и голова глупая. Если совести нет, так хоть страх будет.
– Вот потому народ из рабства выбраться не может, что растим рабов самим себе, в страхе и унижениях. Стыдно тебе должно быть.
Игнат ничего не ответил, кулаком по лбу себе постучал и ушел. А Климка ночью еще плакал – отца Андрея вспоминал. Из-за того, что теперь всегда вместо него Игнат будет.
А на следующий день видал Климка, как Гриша с Машенькой вдвоем в нетопленой горнице сидят и о чем-то неторопливо так разговаривают. И подумал еще: жаль, что не Гриша старший попович. Женился бы тогда он на Машеньке, и всем бы хорошо было, кроме попадьи и Игната.
* * *
Дмитрий Сергеевич Мерлин принял незваного гостя радушно – хотя и слыл нелюдимом, а, видно, в деревне скучал. И пришлось Петру Марковичу весь вечер вежливо кивать в ответ на рассуждения Мерлина об идеях маржинализма и теориях Адама Смита. Тот расхаживал по жарко натопленной столовой – длинноногий, сухой, чем-то неуловимо напоминавший злонравного учителя гимназии, – и говорил, говорил, говорил… По дороге к его усадьбе Петр Маркович сильно озяб и, согреваясь, ощущал теперь сонливость и расслабленность.
– Ведь на что опирается смитианство? На разумный эгоизм, на стремление человека к собственной выгоде, а через нее – к исполнению интересов других, что в конечном итоге приведет к богатству общества. Вы согласны? – Мерлин остановился и глянул на станового с высоты своего роста.
Петр Маркович кивнул и даже пробормотал что-то похожее на «без сомнений».
– Но в России все происходит совершенно наоборот! – с жаром продолжил Дмитрий Сергеевич. – Поверьте, я наблюдаю за русским мужиком, так сказать, непосредственно, из окон своего дома. Единицы – единицы! – устремлены к собственной выгоде, остальные не выгоды ищут, а праздности! Их извечная мечта – лежать на печи, да так, чтобы их желания исполнялись «по щучьему велению». Они палец о палец не ударят, чтобы выбраться из нищеты. Так о каком богатстве общества можем мы толковать? И самое обидное состоит в том, что закон защищает это их стремление к праздности.
– Это каким образом, позвольте узнать? – кашлянул Петр Маркович. Он не желал вступать в споры с Мерлиным и вопрос свой отнес, скорей, к вежливому участию в беседе.
– Община – вот тормоз прогресса, – с готовностью ответил Мерлин. – Я поясню вам на примере. Два года подряд я ссужал мужикам зерно. И два года не получал его обратно. В любом прогрессивном государстве я мог бы взыскать долг по закону, более того, давая в долг, я бы имел самую надежную поруку его возврата. Но у нас-то земля не может быть принята в залог! И взыскать долг землей я не могу по закону! А что еще мне может предложить нищий мужик? Соху и борону? Так зачем мужику надрываться, если он может бесконечно брать и брать в долг, отдать который ему нечем, да и незачем? Отсюда и безделье, отсюда и развращенность, и пьянство, и… – Мерлин не придумал более никаких выводов и с досадой махнул рукой.
– Но ведь засуха… – попытался вступиться за мужиков Петр Маркович. – Ведь не пропили они ваше зерно, могли бы – вернули… Недород небывалый, голод грядет нешуточный.
И подумал вдруг, что, не будь запрета на отторжение общинной земли, на этой засухе Мерлин разорил бы не один крестьянский двор. Неурожай богатого делает богаче, а бедного – бедней.
Мерлин на его слова лишь раздражился сильнее и прочел Петру Марковичу желчную нотацию о дамокловом мече разорения, который необходим для того, чтобы поднять мужика с печи и заставить работать.
– Где он, этот голод? Одни только досужие разговоры для сердобольных городских матрон. Я не вижу никакого голода, а наблюдаю безделие и пьянство. Голод! Его нарочно выдумали чиновники, чтобы поживиться за счет помощи голодающим, мне ли этого не знать!
Опасаясь новой нотации, Петр Маркович не стал возражать. Голод – это не съеденные матерями младенцы, не мертвецы на деревенских улицах, – это хлеб с лебедой и мякиной, а то и с сосновой корой, это до времени умершие старики и неустойчивые к болезням дети, это вздутые от плохой, а то и опасной пищи животы, это – слабосилие и в конечном итоге вырождение…
Речь Дмитрия Сергеевича тем временем плавно перетекла на рассуждения о воровстве и преступности вообще, он остыл и даже присел в кресла возле станового.
– А вот скажите мне, Петр Маркович, вы имеете дело с преступниками, а не пробовали вы проверить на них антропологическую теорию Ломброзо? Я нахожу ее чрезвычайно любопытной, но с точки зрения политической экономии. Мне кажется, врожденные, наследственные особенности людей, если их верно распознать по внешним признакам, можно и нужно использовать в научном подходе к хозяйствованию.
– Мне ближе криминологические идеи Тарда, если вы о них слышали. Его «Законы подражания» произвели на меня благоприятное впечатление… – ответил Петр Маркович, не желая оспаривать ненавистного ему Ломброзо.
– А мне кажется, антропологическая теория открывает перед нами широчайшие возможности. Опять же, поясню на личном примере. В сентябре я нанимал мужиков убирать картофельное поле. В качестве платы они забирали ботву, но я заранее предполагал возможное воровство и был вынужден следить за работой и воровство пресекать. А теперь представьте, что по внешним признакам я могу определить, склонен человек к воровству или нет, – мои усилия по надзору за работой можно сократить в несколько раз! Или возьмем ваш случай: по характеру преступления вы можете заранее определить внешние признаки душегуба – круг поисков заметно сужается!
Петр Маркович подумал, что Мерлину не стоит так много времени проводить в одиночестве, наедине со своими мыслями и книгами… Критическое отношение к собственным рассуждениям вырабатывается в беседах не с единомышленниками, но с оппонентами. Надо же, расплатиться за уборку поля ботвой! Нужно ли для этого изучать идеи Адама Смита или можно обойтись практической сметкой?
– В моем случае, – Петр Маркович сделал акцент на «моем», – круг поисков и без этого не широк. Это скорей всего беглый каторжанин, пришлый человек.
– А я прямо сейчас могу в общих чертах нарисовать портрет вашего убийцы, – удовлетворенно потер руки Мерлин, – приплюснутый нос, тяжелая нижняя челюсть, узкий лоб… Мне кажется, это низкорослый человек с явными признаками вырождения, дегенерации не только лица, но и тела. Не удивлюсь, если это будет дитя межрасового брака. Вы ведь уверены, что это не первое преступление душегуба?
– Совершенно уверен. Слишком хладнокровно это сделано и слишком тщательно уничтожены следы. Из чего я заключаю, что преступник далеко не глуп и тем более не является дегенератом. Разумеется, он действовал не в одиночку…
Петр Маркович чувствовал себя вовсе не так уверенно, как надеялся выказать перед Мерлиным, – он сталкивался с разбоем нечасто. И предполагал, что делом этим займется непосредственно исправник под началом судебных следователей, а то и губернское правление, потому и старался исполнить в точности все предписания и рекомендации.
Впрочем, это не мешало становому выстроить собственный план следствия; рассуждения его были просты и ему самому казались логичными: если беглый каторжанин появился в уезде, нужно искать его родственников. И если в списках беглых нет уроженцев этих мест, значит, нужно искать родственников среди пришлых. Другое направление поиска – кабак, где Мятлин неосторожно проговорился о деньгах. Ведь если бы разбойники знали об этом раньше, купца ограбили бы по дороге, это проще и верней. Узнав же о деньгах в кабаке, они просто не успели организовать нападение сразу.
Размышлениям Петра Марковича сильно мешали речи Мерлина, который пустился в многословные рассказы об экономическом устройстве Франции, Германии и Англии, и, с трудом дождавшись паузы, становой сослался на духоту и собирался выйти на крыльцо ненадолго, выкурить папиросу и подумать в одиночестве, но просчитался – хозяин не пожелал с ним расстаться, согласился с тем, что в столовой душно, и отправился на крыльцо вслед за гостем.
Ночь была удивительно тихой, и с крыши, и с голых яблонь, шурша, падали редкие капли – моросивший весь вечер холодный дождь прекратился. Поодаль белели теплицы, обустроенные Мерлиным, а вперед от крыльца уходила липовая аллея небольшого ухоженного парка. Луна так и не показалась из-за туч, над крыльцом тускло горел фонарь, и темнота за пределами круга света была абсолютной; ощутимо пахло дымом из печной трубы – сырость прибивала его к земле. А из-за леса, со стороны Егорьего кургана, тянулся многоголосый волчий вой…
– Вы слышите? – усмехнулся Мерлин. – В деревне болтают, что Егорьев курган разрыт…
– Он в самом деле разрыт, – ответил Петр Маркович. – Я сегодня проезжал мимо и видел.
– Поразительное невежество, темнота и каша в головах… Георгий-Победоносец пасет волков! Святой Георгий, символ русской воинской славы, – упырь, поднявшийся из могилы! Это какая-то непробиваемая стена тупости и духовной пустоты.
– Многие видят выход в народном просвещении, – пожал плечами Петр Маркович.
– О чем вы говорите? Зачем народу просвещение? Вы полагаете, если их в детстве обучить грамоте, у них прибавится хоть немного сообразительности? Уверяю вас, это наследственная склонность, леность не только тела, но и ума, и духа.
– Я не могу с вами согласиться, – тихо, но твердо сказал Петр Маркович.
– Впрочем, я уповаю на молодого батюшку, – продолжил Дмитрий Сергеевич, пропустив мимо ушей замечание станового. – Отец Андрей слишком много пил и слишком потакал причудам мужиков, его сын не в пример строже и серьезней. Я в позапрошлое воскресенье слушал его проповедь и даже сделал значительное пожертвование, несмотря на потерю доходов из-за неурожая. Я, конечно, и раньше жертвовал неплохо, без меня бы церковь совсем развалилась, но в этот раз, знаете, я сделал это с удовольствием, потому что посчитал чем-то вроде вложения капитала…
– Вот как? – удивился Петр Маркович.
– Ну, не в том, конечно, смысле, что вложенное вернется ко мне процентами, а в ином, в высшем, так сказать, нравственном смысле.
И Дмитрий Сергеевич пустился в рассуждения о благотворном действии божьего страха, который только один теперь способен поддерживать мораль и нравственность против воровства, пьянства и праздности.
* * *
Наутро Климку послали в Завражье, отнести поесть дьякону Яшке и посмотреть, не вышло ли из-за его пьянства какой неприятности. Еще только-только светало, дождь шел, холодный и нудный, грязюка на дороге – пожалел Климка лаптей, побежал босиком.
По пути ему бричка встретилась, с верхом – на таких начальство из города иногда приезжало. Лужи глубокие – едет, с боку на бок переваливается, того и гляди навернется… Лошаденка по грязи чавкает, еле-еле коляску тащит. Климка быстро ее обогнал – ногам-то зябко, – но тут молодой барин из коляски его окликнул:
– Мальчик! Погоди, мальчик!
Климка сначала и не понял, что это ему, – жалостно как-то барин говорил, робко. Но Климка шапку все равно на всякий случай снял и поздоровался. Оказалось, что никакой это не барин, а молодой доктор, которого со вчерашнего дня ждут. А он и спрашивает:
