Ливонская война
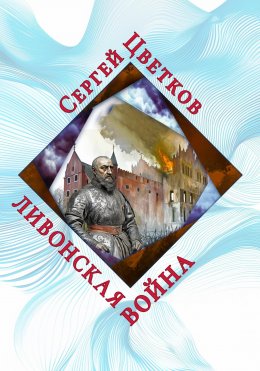
При Иване Васильевиче нашла своё историческое завершение борьба Руси против немецких рыцарей. Грозному царю выпало стереть с лица земли Ливонский орден – давнего мучителя прибалтийских народов.
Начиная Ливонскую войну, Москва тем самым как бы принимала политическое наследство Новгорода и Пскова, заканчивала дело Александра Невского. Для людей Средневековья исключительную важность имели понятия исторического права, традиций, преемственности. Ливония для Грозного была ни чем иным, как прародительской вотчиной, ибо в ХII−ХIII веках в Юрьеве (Дерпте) и некоторых других ливонских городах сидели русские князья, Рюриковичи. С этой точки зрения Ливонский орден был всего лишь узурпатором, похитителем древнего русского достояния.
В данном случае, как видим, историческая преемственность прослеживалась на субъективном уровне, то есть была следствием сознательной установки. Никаких объективно-исторических причин добиваться прибалтийских земель у России во времена Грозного не было. Во-первых, потому, что «брега Невы» – предмет мечтаний Петра I – были ещё русскими берегами и, следовательно, выход к Балтийскому морю у России имелся. Во-вторых, потому, что Иван Грозный отнюдь не придавал войне за море того цивилизаторского значения, которое имел в виду Пётр. Речь шла, повторяю, только о возвращении утраченной вотчины под государеву руку или (при замене политических понятий религиозными) о торжестве православия над «латынством». Морская торговля обслуживала тогда не народные и даже не столько государственные, сколько государские потребности и нужды. Лекари и лекарства для царской семьи, забавные штуковины для придворных потех, мастера и ремесленники для устройства дворцового быта, наёмники для царской гвардии, воинские снаряды и припасы – вот, собственно, и все, чего ждали в Москве от заморской торговли. Правда, Грозный, судя по всему, смотрел на неё несколько шире, но суть дела от этого не менялась: Ливония была для него не окном в Европу, а тучной дойной коровой. Ливонская война была вызвана не объективной потребностью, а личной прихотью Грозного, который направил агрессивность молодой формирующейся нации в ту сторону, куда влекли его личные вкусы (другое дело, что в случае успеха войны Ливония со временем могла бы стать окном в Европу – даже помимо воли царя, в силу одних объективных исторических процессов); начавшись как государское дело, она так и не стала делом земским, что во многом и обусловило её неудачный исход.
Ливонский орден был историческим преемником своих предшественников – ордена Меченосцев и Тевтонского ордена. В середине XVI века он уже не представлял непосредственной военной опасности для России. Однако ливонские рыцари осуществляли намеренную культурно-экономическую блокаду Московского государства, не допуская проезда через свою территорию различных мастеров и инженеров, в которых нуждались при московском дворе.
В 1539 году епископ Дерптский сослал «неведомо куды» пушечного мастера, который хотел устроиться на службу в Москву. А десять лет спустя ливонские власти прямо и недвусмысленно показали своё недружелюбие по отношению к России в так называемом деле Иоганна Шлитте.
Шлитте был родом саксонец. В 1549 году он предложил Ивану, готовившемуся тогда воевать с Казанью, набрать в европейских странах мастеров, главным образом оружейников, пушкарей и сапёров. Император Карл V дозволил провести набор в имперских землях, так как тешил себя надеждой на водворение в России католичества: в императорской грамоте было прямо сказано, что Иван Грозный склонен принять римскую веру, как и дед его, подразумевая обращение Ивана III к посредничеству Ватикана при заключении брака с Софьей Палеолог. Видимо, Шлитте несколько превысил свои полномочия, ибо, помимо авансов в пользу Католической церкви, он обещал императору от имени царя денежные субсидии и военную помощь в войне с турками.
Деятельный саксонец повёл в Москву целую колонну 123 человека, желавших послужить щедрому московскому государю: строителей церквей и крепостей, оружейных мастеров, литейщиков, живописцев, ваятелей и даже четырёх богословов, которые должны были просветить царя и его бояр в истинах католической веры. Однако в Любеке колонна Шлитте была задержана по наущению ливонских властей. Одновременно ливонские города обратились к императору Священной Римской империи с разъяснением, как опасно снабжать Москву учёными людьми. Карл V остался недоволен действиями ливонцев и подтвердил право Шлитте ехать в Московию, мотивировав своё решение тем, что государь московский нуждается в учёных людях как для утверждения истинной веры, так и для защиты своего государства от неверных. Но когда Шлитте проезжал Ливонию, рыцари вместе с советами городов вновь задержали его, отправив императору просьбу ликвидировать данное саксонцу дозволение, ввиду опасности, исходящей от царя для всего христианского мира. На этот раз Карл внял просьбе и велел отослать Шлитте и его волонтёров назад, а магистру ордена отправил свой указ: «Сим повелеваем твоему благочестию… не пропускать никого едущего из нашей священной империи в Москву».
«Лукавое намерение москвитян распалось во прах!» – ликовал по этому поводу один ливонский историк.
Неудача, постигшая Шлитте, привела Грозного в такую ярость, что он распорядился продать татарам и туркам всех европейских наёмников, взятых в плен в предыдущих войнах Москвы с Польшей.
В дальнейшем некий пушечный мастер Ганс все-таки попытался на свой страх и риск пробраться в московские владения, но его поймали на границе и отрубили голову как изменнику.
Подобное положение дел не могло устроить Ивана Грозного, желавшего наладить широкие и равноправные связи России с Западной Европой. В 1557 году он объявил Ливонскому ордену войну.
Ливония была беззащитна. Ливонский историк Руссов описывает общество того времени изнеженным и растленным (правда, надо учитывать, что это взгляд протестанта-пуританина, для которого даже танцы и прочие невинные увеселения суть дьявольские игрища). Между рыцарями и коренным населением, бессильным и забитым, питавшим неистребимую ненависть к чужеземцам-господам, пролегала огромная пропасть. На протяжении веков, кажется, не бывало случая, чтобы немец женился на эстонке или латышке (имеются в виду бюргеры, ибо рыцари соблюдали обет безбрачия, по крайней мере формально). Благодаря господству ордена ливонское общество строилось на военно-сословных, а не гражданских отношениях. Между тем сам орден находился в состоянии глубокого упадка. Религиозный энтузиазм меченосцев давно угас. Вот уже больше полутораста лет не было и речи о проповеди веры посредством священного меча. Рыцари вынимали меч из ножен только на турнире или в пьяной драке. Высшее духовенство – сплошь уроженцы Германии – имело мало привязанности к краю и смотрело на свои должности как на временную обязанность. И монашествующие рыцари, и прелаты не находили нужным сохранять хотя бы видимость былого благочестия и в открытую вели вполне светскую жизнь. Тяготясь обетом безбрачия, они жили с любовницами, обрюхатив которых выдавали их впоследствии за какого-нибудь бедняка: мельница или кусок земли были ценой сделки. Богатые мещане подражали дворянству; семейные узы слабели. Из-за множества внебрачных детей, которых любвеобильные папаши стремились обеспечить по мере сил или по степени любви к их матерям, терялась разница между законно- и незаконнорождёнными, вследствие чего возникала невероятная путаница при наследовании имущества.
Если католицизм ещё кое-как скреплял общество, то с проникновением в Ливонию Реформации оно затрещало по всем швам. Католицизм всеми ощущался как тяжёлая узда, которую необходимо как можно скорее сбросить: бюргеры принимали лютеранство, чтобы не платить за церковные обряды, монахи уходили из монастырей в поисках мирских удовольствий. Дворянство ещё сохраняло верность Риму, но, занятое только собой, проявляло мало интереса к тому, во что верят горожане. Простой народ, не искушённый в тонкостях церковных догматов, проявлял полное равнодушие к вере, которая накрепко связалась в его памяти с национальным порабощением. Как некогда предки эстонцев и латышей – эсты и ливы – толпами бросались в волны Двины, чтобы смыть с себя крещение, так теперь крестьяне покидали костёл и шли в протестантскую кирку, где с них брали меньше денег и не требовали соблюдения постов и других церковных обрядов.
Протестантские пасторы в нравственном отношении мало чем отличались от католических патеров, точно так же содержали любовниц и шатались от замка к замку, где им устраивали пиры. Впрочем, прихожане и не требовали от них безупречного поведения. Если пастор не уступал гулякам в умении пить, то он немедленно приобретал славу превосходного проповедника. И поскольку пасторы предпочитали этот вид красноречия любому другому, находилось мало желающих регулярно посещать церковь. Религиозность выражалась главным образом в соблюдении христианских праздников, да и то своеобразным способом: горожане оставляли свою работу, ходили со двора во двор, пьянствовали и веселились; вдобавок к праздникам бурно отмечали крестины и свадьбы, стараясь перещеголять друг друга в пышности семейных торжеств. После Михайлова дня (отмечаемый в католической традиции 29 сентября), в который крестьяне вносили арендную плату за землю, и до самого Рождества в замках наступала череда свадеб и пиров: рыцари испивали пиво такими чашами, в которых можно было «детей крестить». Тут же дрались, увечили и убивали друг друга, – без этого радость была не в радость, пир не в пир. В городах шёл такой же разгул – Рождество, Крещение, Пасху отмечали шумным весельем. В ночь на Иванов день вся Ливония горела потешными огнями, зимой на святках праздновалась ёлка. Ливонские женщины вообще приобрели славу весёлых и доступных потаскух (вспомним хотя бы Марту Скавронскую – императрицу Екатерину I, супругу нашего Петра). Для волокит всего света Ливония была землёй обетованной.
