Лавка забытых вещей
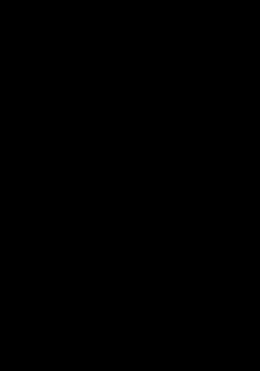
Глава 1
I
На Блейквелл-лейн, где булыжники по ночам перешептываются между собой, а уличные фонари склоняются друг к другу так, словно обсуждают что-то неприличное, находится дверь, старая, с облупившейся краской цвета заплесневелого мха и с дверным колокольчиком, звенящим не в воздухе, а где-то в глубине вашей памяти. Вы не найдёте этот магазин, если будете искать. Он не отмечен ни на одной карте, даже самой подробной. Ни один лондонский таксист не повезёт вас туда, потому что не хочет иметь с этим дела. Выцветшая на короткой железной цепи вывеска гласила «Лавка забытых вещей Э. Хортон». Однако, под «забытыми вещами» здесь подразумевались не зонтики и не какие-нибудь старые часы, и не потрёпанные книги, хотя и они, конечно, тоже встречались и даже находили своих хозяев.
На самом же деле в сотнях симпатичных крафтовых баночках здесь хранились совсем другие вещи: запах волос мамы, когда тебе было шесть; прикосновение руки, которое не случилось, но должно было; страх, что под кроватью кто-то живёт. А еще сны, которые больше никто не может вспомнить и еще много-много всего.
Эдгар Хортон, владелец этого чудесного бардака, носил старомодный цилиндр, который в некоторых ракурсах напоминал чайник. Его пальцы были длинными и, казалось, жили своей жизнью, когда он изучал древние книги и фолианты, водя ими по старой бумаге. Он выглядел так, будто родился сразу тридцатилетним и с тех пор совершенно не ведал старения. Его лицо, изрезанное лёгкими морщинами у глаз, не столько выдавало реальный возраст, сколько подсказывало, что этот человек повидал разное. Его голос был мягким, как старая, обшитая бархатом, книга, и с хрипотцой, как будто он разговаривал со сквозняками. Говорил Хортон редко, но с тем обаянием, которое заставляло людей пересматривать свои жизненные планы. Или хотя бы вернуться в лавку на следующий день.
Эдгар любил чай, что не удивительно для англичанина, но пил он его только из черного драконьего чайника, с чешуей и одной золотой лапкой. Чайник был чёрным, с чешуёй и одной золотой лапкой, и своим характером, потому что всегда фыркал паром, если на него смотрели слишком долго.
Эдгар Хортон был Хранителем, не простым лавочником и не колдуном, хотя иногда и это не исключалось. Работа Эдгара заключалась в том, чтобы следить за границами между реальностью и тем, что скользит за ней. Между этим миром и теми, что шепчутся в темноте.
У Хортона было два помощника – крысы, которых он когда-то подобрал в районе Уайтчепел, хотя сам всегда это отрицал. Флик был худым, язвительным и вечно раздражённым, а Мопп был его полной противоположностью: толстый, медлительный, с глазами, в которых отражались пироги и сосиски, даже если их поблизости не было. Он редко говорил умные вещи, но, когда говорил, даже Эдгар замолкал.
Очередное утро в магазинчике началось, как и всегда, с чая. Эдгар стоял у чайника-дракона, который ворчал себе под нос и выпускал пар кольцами – иногда в форме рун.
– Хватит фыркать, тебе же не вставать на холодный пол, – заметил Эдгар, не глядя.
На столе уже стояли три чашки. Хотя крысам и не полагался чай, у Моппа была своя, с надписью “Ещё ложечку” и обкусанным краем, а у Флика с гордой надписью “Сарказм внутри”.
Магазинчик-лавка внутри был куда больше, чем казался снаружи. Это был один из тех архитектурных парадоксов, что могли случиться только в Лондоне, особенно в Лондоне, которого нет на карте. С улицы виднелся крохотный фасад, два пыльных окна, подоконники с облупившейся краской и колокольчик, звенящий с секундным опозданием, но стоило переступить порог…
Сначала вас встречал запах, десятки запахов, наслаивающихся друг на друга, как коржи торта: лаванда и мёд, чернила и апельсиновая цедра, дождь и старый плющ, виски, грёзы, и что-то ещё неуловимое, как нота, на которой оборвалась музыка, но вы её всё равно слышите. Пол скрипел так, словно вёл разговор с каждым шагом. Полки, а их было много, вздымались до самого потолка, исчезая в тенях. На них покоились банки с этикетками вроде «Последний тёплый вечер лета», «Плач ребёнка, которого больше нет» и «Невысказанная благодарность». Некоторые банки слегка дрожали, как будто внутри что-то шевелилось.
На задней стене висело зеркало, которое не отражало того, кто перед ним стоял, но могло показать, кем он стал бы, случись ему в один момент сделать другой выбор. Эдгар в него никогда не смотрел.
В углу стоял граммофон. Сам по себе он не играл, но если в магазине появлялось что-то, связанное с музыкой, мог включиться. И однажды сыграл сонату, которая была написана только в чьём-то сне, еще в 1911 году. На мгновение всё в магазине замерло, даже крысы, которые, кстати, имели свои полки. У Моппа нижние, с крошками, печеньем и кладовкой, которую он строго охранял, у Флика же верхние, откуда он мог наблюдать и ехидно комментировать происходящее. Флик не спускался без веской причины. Мопп не поднимался, потому что, по его словам, «калории надо беречь».
– Ты опять завариваешь этот с ромашкой? – Флик свесился с полки, как осуждающая горгулья. – Это чай для тех, кто сдался.
– Это чай для тех, кто не хочет устроить себе инфаркт до полудня, – отозвался Эдгар, разливая готовый напиток.
Мопп, не теряя времени, уже забрался на стол и толкал пузиком банку с надписью «Хруст булочки, которую тебе не дали».
– Мопп, ты что делаешь?! Это крайне хрупкое воспоминание! – Флик подпрыгнул на полке.
– Проверяю свежее ли. Может, откусить чуточку…
Эдгар вздохнул и отпил чай. В этот момент, в верхнем правом углу, слегка задрожали стёкла. Это означало, что где-то в Лондоне кто-то вспомнил то, что не должен был помнить.
– Мы сегодня ждём кого-то? – спросил Флик, прищурившись.
– Всегда ждём. Просто не всегда знаем, кого.
Через какое-то время чай уже подходил к той стадии, когда его вкус лучше всего описывался бы словом «уравновешивающий», а Мопп начал делать вид, что засыпает прямо в чашке, уткнувшись носом в ободок. Именно в этот момент не просто звякнул колокольчик, а запел, натянуто, тревожно, как если бы его ударили не пальцем, а злостью. В воздухе качнулся слабый аромат: острый, как лимонная кожура, и тонко-пыльный, как страница, которую слишком долго боялись перелистнуть. Вошел незнакомец.
Он был одет с безукоризненной аккуратностью: светлый плащ с тёмной подкладкой, перчатки в руке, шляпа чуть смещена будто иронический акцент. Его ботинки были настолько чистыми, что пол магазина тихо заскрипел необычным тоном, словно стесняясь своего вида. Лицо незнакомца было правильным, симметричным, как узор в обоях, от которого через пять минут начинает болеть голова. Волосы и глаза светлые, даже слишком, как бумага, на которой собираются писать что-то важное. А улыбка… была совсем не тем, чем казалась.
Мопп, хоть и был официально недоверчив только к вещам без вкуса и запаха, тут же замер, уткнувшись мордочкой в край стола. Флик напротив, резко спрятался за банку с надписью «Поступок, за который до сих пор стыдно».
Зеркало дрогнуло, совсем чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы по полкам пробежал тонкий звон, будто все воспоминания одновременно вздохнули.
– Доброе утро, – сказал незнакомец, оглядывая магазин с видом человека, для которого ни одно чудо не является сюрпризом. – Кажется, у вас мог остаться зонт моей бабушки. Она оставила его… мм, лет сорок назад. Такой с вишнёвой ручкой. У неё была привычка забывать его, где попало.
– Очень распространённое проклятие у зонтов, – кивнул Эдгар, как ни в чём не бывало. Он не шевельнулся, только поправил чашку перед собой.
– Вы не против, если я осмотрюсь? – спросил гость, не дожидаясь ответа.
Блондин прошёл мимо полок жадно скользя по ним взглядом. И смотрел он не так, как обычные посетители, замирающие перед полками, а так будто знал, что именно здесь спрятано, и проверял всё ли ещё на месте.
– Что-то не нравится мне этот тип, – шепнул Флик, выглянув из-за банки. – Он смотрит, как мышеловка.
Мопп тихо дёрнулся и накрыл лапками свою чашку.
Незнакомец подошёл к банке с этикеткой «Голос, который однажды спас» и чуть наклонился, словно принюхиваясь.
– Мда, у вас тут… коллекция.
– Стараемся не выкидывать полезное, – ровно ответил Эдгар, вставая.
Гость подошёл ближе, плавно, без звука, как будто всё помещение слегка наклонилось в сторону разговора.
– Может, вы вспомните ещё что-нибудь про зонт вашей бабушки?
– Ах да… Кажется, он шептал в дождь. Хотя, может, это был ветер. Знаете, как иногда бывает… – Он улыбнулся снова и на долю секунды улыбка треснула словно керамическая глазурь, обнажая под собой металл.
Эдгар не отреагировал.
– Мы поищем. Это может занять… некоторое время.
– О, я не спешу. – Незнакомец обернулся к зеркалу. – Здесь ведь вечно утро, не так ли?
Зеркало вздрогнуло сильнее. На миг в его глубине отразилось не лицо незнакомца, а… что-то со слишком длинными пальцами и глазами, в которых шевелились цифры.
Эдгар незаметно поставил между гостем и полкой банку с надписью «Твёрдая уверенность, что ты дома», это была его старая мера предосторожности, которая иногда помогает.
– Чай, мистер..? – спросил Хорн.
– Мерсье… Анри Мерсье и спасибо, нет. Я предпочитаю что-нибудь, кхм… покрепче.
На секунду в магазине повисла тишина.
– Тогда прошу, чувствуйте себя как дома.
– Очень мило. Я, пожалуй, задержусь ненадолго. Возможно, найду что-то ещё, что принадлежало моей семье.
Гость повернулся, чтобы продолжить «осмотр», и в этот момент Эдгар впервые позволил себе мельчайшую, почти невидимую морщинку тревоги на лбу.
– Он не ищет зонт, – прошептал Флик.
– Я знаю, – прошептал Эдгар.
Мерсье ушёл так же, как и пришёл: безмолвно, почти вежливо, словно действительно всего лишь интересовался старым зонтом. Только вот воздух за ним изменился. Он не пах табаком, дождём или кожей перчаток. Он пах чистотой, ненормальной, скрипучей, обезжиренной. Колокольчик захлебнулся на прощание, и тишина вернулась в магазин, тяжёлая, как мокрая шаль.
Эдгар стоял посреди комнаты, как фарфоровая статуя: белый, гладкий. Его пальцы играли с краем шляпы, но мысли уже шарили по кладовым его памяти.
Флик шмыгнул обратно на полку.
– До чего же мерзкий и не просто по запаху. Всё в нём было… что ли не то.
– Как огурец, нарезанный линейкой, – добавил Мопп, осторожно облизывая уцелевшие крошки с чашки.
Эдгар не ответил, он уже понял, кого видел. И имя в данном случае не важно, потому что такие существа меняют имена как перчатки, однако, всегда выполняющие одну и ту же функцию. «Архивный Обрядник. Мерсье. Уборщик реальностей. Человек, для которого чудо это лишь ошибка представления.»
Хорн понял это, когда Мерсье остановился у полки с предметами, не поддающимися категоризации, той самой, что Флик звал «скучная и странная», а Мопп «опасная и несъедобная».
«Пыль чужих грез», запечатанный артефакт, вещь, ставшая явлением, ошибка, которую нельзя повторить. Эдгар помнил, как спрятал её. Банка выглядела ничем не примечательно, на ней была приклеена этикетка:
«Музыкальный аккорд, ставший легендой», потому что так Эдгар отвёл глаза не от сущности, а от сути. Он не хотел, чтобы кто-то догадался, что внутри больше, чем казалось.
Хорн бросился вглубь магазина, мимо полок и тихо шепчущих банок, вглубь той части, где пол становился мягче, а воздух гуще. Туда, где фонари были не газовыми, а стояли в банках, мерцая, будто в них мерцали пойманные звёзды.
Эдгар нашёл полку, затем банку, открыл ее и замер. Внутри было пусто. Словно кто-то с любовью снял крышку, вдохнул все содержимое и унёс его, оставив только стеклянный звон потери.
– Флик. Мопп. – голос Эдгара был спокоен, как перед бурей, – Что-то ушло, раньше, чем должно было.
Флик уже спускался с полки, морща нос.
– Я не слышал ничего: ни писка, ни вздоха.
– А ты уверен, что оно ушло насовсем, а не просто… вышло погулять? – Поинтересовался Мопп с опаской.
Эдгар молчал, в его руках была банка, а в ней больше не было пыли, но осталось эхо, тихое, зыбкое, почти неуловимое… но сам Хранитель уловил. Он увидел смазанный образ кого-то с тонкими руками, того, кто украл Пыль.
– Этот белобрысы не забирал её. Я бы услышал, если бы кто-то трогал эту полку, – прошептал Флик, качая головой.
– Может, оно само ушло? – хмыкнул Мопп. – Бывает, когда банке скучно.
Эдгар не ответил. Он смотрел на пустую банку, и в его глазах что-то менялось. Обычно в его взгляде было многое: знание, усталость, любопытство, иногда легкая ирония. Но сейчас там появилась сталь.
Пыль чужих грез была куда больше, чем артефакт. Она была компромиссом реальности, признанием в том, что границы существуют, потому что их нарушили. Эта Пыль рождалась в пересечении трёх снов, трёх судеб, трёх миров, а она была не просто связующей. Она была потенциальной катастрофой. Если использовать Пыль, можно сшить любые миры, даже те, что никогда не были связаны или же развязать существующие связи, оставив пустоту. Кто бы ни взял песок – он знал, что берёт. И зачем.
Эдгар осторожно, почти церемониально, закрыл банку, а потом повернулся к крысам.
– Мы не знаем, кто это был. – Он сказал это тихо, но голос звучал так, как будто сам магазин замер во внимании. – Но я узнаю.
Флик отвёл взгляд. Мопп уронил печенье.
– Надо найти песок. Пока кто-то не решил за нас, каким станет следующий мир.
Глава 2
Глава
II
Место, где жил Лорд Теберриус, не имело адреса. У него не было даже координат, по крайней мере, тех, что распознавались обычными картами. Оно не существовало во времени в привычном смысле: дни не сменяли ночи, потому что ни те, ни другие не были здесь особенно желанными гостями.
Усадьба называлась «Внутренний Предел», потому что по легенде выйти за него можно было, только потеряв часть себя и никогда ту, которую выбираешь сам.
Здание возвышалось в тумане, как корабль, забывший, что был построен на суше. Его стены дышали. Иногда, если долго прислушиваться, можно было различить вздохи в древесине, будто дом помнил своих строителей.
Зал, в который вошёл Мерсье, был тихим, как классическая библиотека в мире полностью цифрового будущего. Пламя в камине горело синеватым, на грани исчезновения, оно не давало тепла, только подсвечивало тени, делая их длиннее, чем они должны были быть. Именно в одной из таких теней стоял он.
Лорд Теберриус был человеком, только если прищуриться. С первого взгляда – высокий, статный, в чёрном костюме с оттенком полночного синего, будто сшитом из самих вопросов. Его аристократическое лицо, почти красивое, но не в смысле глянца. Красота заключалась в контроле: ничего лишнего, никакой дрожи, только холодная точность и движения, будто поставленные режиссёром слишком старого театра. Он повернулся, когда шаги Мерсье перестали быть шагами и стали присутствием. Его голос прозвучал, как щёлчок запирающегося замка:
– Где она?
Мерсье не торопился с ответом. Он аккуратно снял перчатки.
– Пыли нет, милорд. Ни звука, ни следа, ни дрожи в воздухе. Я бы ее почувствовал.
– Ты уверен? – спросил Теберриус. В его голосе не было угрозы, в его случае достаточно было лишь паузы.
– Абсолютно. Я знал, что он должен быть в банке с отвлекающим названием. «Музыкальный аккорд, ставший легендой». Очень изящно, типичный Хортон. Но банка была пуста.
Мерсье подошёл ближе, пока не оказался в пределах взгляда, в этот момент тень на полу чуть дрогнула, как от толчка ветра, только в комнате царил полный штиль.
Теберриус плавно отвернулся, будто его внимание – это ускользающий луч. Он подошёл к окну, за которым не было улицы, только внутренний мир, будто вся усадьба смотрела внутрь себя, не интересуясь внешним.
– Значит, Хортон солгал.
– Не думаю. – Мерсье позволил себе тонкость. – Он был слишком неподдельно спокоен. Если бы он знал, что пыли там нет… то попытался бы скрыть это.
– Ты хочешь сказать… кто-то уже взял ее.
– Да, милорд.
Теберриус смотрел в глубину окна. Там, в отдалении, смутно мерцали очертания лестницы, ведущей не вверх и не вниз, а в сторону, как мысли, о которых стараешься не думать, чтобы не сбылись.
– И ты не знаешь, кто.
– Нет, милорд.
– И я… не знаю.
Эти слова прозвучали не громко, но зал словно сжался. Книги на полках под потолком зашевелились. Камин погас, как человек, которому стало стыдно. Теберриус не знал. Это не было простым фактом, скорее нарушением структуры, так как обычно знание – это то, что удерживало миры. Он чувствовал чужие сны, прежде чем они сбывались, предугадывал шаги врагов, ещё до того, как у них возникала причина стать врагами. Он всегда знал, а теперь нет. Лорд отвернулся от окна.
– Значит, у нас появился игрок. Один из тех, кого нет в записях.
Он медленно и тонко улыбнулся, как человек, которому только что сообщили, что его любимая игра началась заново, но теперь уже совершенно без правил.
– Интересно.
Мерсье не пошевелился, зная: если бы кто-то другой произнёс то же слово этим тоном, оно значило бы «любопытно», у Теберриуса это значило «теперь всё иначе».
***
Лавка сновидений
Лавка сновидений находилась не на улице и не в здании, скорее, в промежутке между двумя забытыми мыслями. Найти её можно было только случайно, или если вы потеряли что-то во сне и шли обратно по следам. Табличка на двери всё время менялась: сегодня она гласила «Мастерская невозможного отдыха», вчера была «Сон-тут-бывал». Завтра, возможно, исчезнет совсем.
Внутри всё было мягким: воздух словно кашемир, пол, как сон, в который не успели погрузиться. Вокруг полки, на них пузырьки, баночки, ткани, перья, золотистый песок, кружащий в колбах, и сгустки тумана, шевелящиеся под стеклом. Каждая ёмкость – чужая ночь. Каждая полка – хроника того, что не случилось наяву, но всё же осталось.
За прилавком стояла Мадам Лимора – женщина с глазами, в которых отражались только сны. Её лицо было всегда чуть размытым, как после слёз, но она никогда не плакала. В её волосах спал маленький кот, сшитый из ночной тьмы.
Флик, отправленный на разведку информации Хортоном, запрыгнул на прилавок, стряхивая с себя сырость улиц.
– Ты всё знаешь, Лимора. Говори.
– Я знаю только то, что мне снится, – ответила она, но взгляд её стал резким, как стекло, – и этой ночью я проснулась.
Мопп вошёл следом, тихо, почти извиняясь и сразу потянулся к полке с «Фрагментами снов о пудинге», но тут же замер. Атмосфера в лавке была натянута, как струна, которую кто-то дёрнул.
– Здесь были они, – прошептала Лимора. – Посланники Теберриуса. Один за другим, в разное время, но с одним вопросом.
Она провела рукой по воздуху и тот рассыпался на клочки золотого песка.
– «Пыль чужих грез». Они искали ее, унюхивали след, словно охотники за последней возможностью.
Флик прищурился.
– И ты им сказала, что не здесь?
– Я не лгу, а лишь искажаю углы. И да, я сказала им, что Пыли тут нет. Она действительно была не здесь.
– Но ты знаешь зачем он им? – тихо спросил Мопп.
Лимора замолчала. Звук замерцал. Один из пузырьков с мечтой о любви потрескался и шепнул что-то жалобное.
– Он хочет стереть грань, – наконец сказала она. – Между тем, что во сне, и тем, что наяву. Сломать барьер, сделать всё одним миром. Чтобы сны были вечными и реальность не мешала, и чтобы желания не заканчивались пробуждением.
Женщина подняла глаза, крошечный кот в её волосах проснулся и замер, вытянувшись по всей длине.
– Ты понимаешь, что значит вечный сон? Без начала. Без конца. Без выбора.
– Он хочет править этим сном. – сказал Флик, и в его голосе не было сарказма. Только сталь.
– Да. Он будет богом: создателем и редактором. И сможет переписывать реальность как черновик. А мы все станем… персонажами, застывшими, подчинившимися, слепыми.
На мгновение весь магазин задышал тревогой. Бутылочки задрожали, песок в колбах метался. Ткань сновидений потемнела.
– Вы думаете, он жесток наяву, – сказала Лимора. – Но поверьте, в его снах он не сдерживает себя.
Мопп сел, как тяжёлая груша, упавшая на пол. Флик выглядел старше.
– Значит, у нас мало времени.
– Меньше, чем вам кажется. – Мадам Лимора подошла к полке, достала тонкий флакон с вязким, тёмным сном. – Передайте Эдгару. Это отголосок сна о том, что случится, если он не успеет. Не давайте ему смотреть слишком долго.
Флик взял флакон. Он был холодным и пульсировал, как крошечное сердце.
– Он не остановится, Лимора. Теберриус.
– А кто сказал, что мы будем его останавливать? – тихо ответила она. – Мы лишь разбудим тех, кто ещё может сопротивляться.
***
Эдгар держал флакон в ладонях, словно чашу с огнём. Слишком тёплый для стекла. Слишком тяжёлый для жидкости, а внутри не просто сон, скорее предупреждение.
Флик, сидевший на подоконнике, тихо сказал:
– Лимора просила не смотреть слишком долго.
– Я не собираюсь смотреть. – ответил Эдгар. – Я собираюсь понять.
Он сел на табурет у тёмного письменного стола, выдвинул нижний ящик, откуда достал маленькую чашу из зеркального камня. В ней уже спали обрывки старых снов, шелестя, как сухие листья, они отступили к краям, уступая место новому.
Хортон открыл флакон и мир замер. Песчинка сна, густая, почти вязкая, как тьма, в которую капнули забвение, потекла в чашу. И тогда сон развернулся.
Эдгар закрыл глаза. Теперь он был внутри. Сначала послышался звук: низкий, ровный, как дыхание огромного зверя, который не спит, но делает вид. Потом проявились цвета, все тусклые. Мир вокруг будто покрыт налётом, как старая плёнка. И ни одного яркого пятна. Даже кровь и то выцветшая. Он стоит на улице, только это видение, на самом деле это не улица. Дома без дверей, окна, за которыми ничего. Улица не ведёт никуда. Она просто повторяется. Замыкается.
Люди вокруг все странные, улыбаются точно, выверенно, будто они роботы, а улыбка лишь встроена в их базовые настройки. Они проходят мимо, и никто не смотрит в глаза, потому что, если присмотреться, у них нет глаз. На их лицах лишь нарисованные чёрные круги и в каждом пустота. Тёплая, влажная. Голосами они говорят одно и то же: «Ты проснулся. Значит, ты не здесь.»
Эдгар идёт вперёд, его ноги прилипают к мостовой, как будто та сделана из вязкой навязчивой мысли. Он знает: здесь всё сон, даже его тело. Но страх настоящий. Хортон заходит в здание, оно похоже на школу, в которой учились малыши-воспоминания. На доске выцветшая формула:
Реальность = сон ÷ воля. И под формулой подпись: Теберриус. Учитель. Архитектор. Повелитель.
Класс пуст, но парты буквально физически дышат. Одна из них оборачивается. Нет, не парта. Человек, встроенный в дерево. Он открывает рот и оттуда выходит тишина, настолько громкая, что трещит пол, стены текут.
Эдгар убегает. Сквозь сны других. Он видит мужчину, обнимающего марионетку и плачущего, как будто это его дочь. Женщину, кричащую в зеркало, которое отражает её только сзади. Дети, играющие в песочнице, полной зубов. Они смеются. И всё это по расписанию. Теберриус создал идеальный сон: без боли, без хаоса, без пробуждения. Только всё это не по твоей воле. Ты не живёшь, а переживаешь задуманный сон, где всё выверено. Даже ужас и счастье. И ты никогда не проснёшься. Потому что сна больше не будет. Он стал миром вокруг.
Эдгар вырвался из видения, тяжело дыша. Чаша треснула, стол покрылся инеем. Флик и Мопп прижались к стене и оба молчали. Эдгар медленно встал, глаза его были темнее, чем обычно, и холоднее.
– Он не просто желает править сном, а хочет, чтобы никто больше не мог выбрать явь.
Хортон посмотрел на треснувшую чашу и на остатки сна, стекающие в щель, как мрак между страниц книги.
– Если он добудет Пыль… реальность станет сном. – Он поднял взгляд. – И он напишет этот сон сам.
***
Эдгар сидел в кресле у окна, но не смотрел наружу. Там, за стеклом, шёл дождь, аккуратный, учтивый, как будто извинялся за беспокойство. Улицы были пусты, за исключением пары теней, которые проходили, не касаясь земли.
На столе перед ним лежала старая карта. Не географическая. Психогеографическая, она показывала не улицы, а пересечения воспоминаний, шрамы на времени, узлы боли и трещины в восприятии. Такими картами пользовались только Хранители. И только когда что-то пошло не так. Он чертил на ней линию, тонкую, почти невидимую. От лавки сновидений, туда, где дрогнули границы и где прошёл тот, кто унёс Пыль.
Мопп принес ему старый зонт, не как знак, а как ключ. У некоторых вещей были функции, о которых не знал даже их владелец.
– Ты уверен, что хочешь идти туда? – тихо спросил Флик. Он сидел на лампе, болтая лапами в воздухе. – Это же «серая зона». Там даже воспоминания отказываются жить.
– Именно поэтому он мог спрятаться именно там, – ответил Эдгар.
Он надел своё пальто, то самое, в карманах которого жили кусочки лунного света, три письма, никогда не написанных. Взял зонт. Карта дрожала в его руке. Это был след, хрупкий, как отпечаток пальца на замерзшем стекле, но он был.
Хортон шел через улицы Лондона, которые видели больше, чем им хотелось бы помнить. Проходил мимо домов, в которых двери помнили старые жизни, мимо витрин, где отражались лица, которых уже нет. И наконец, оказался в Стихии Пустого – так называли этот перекрёсток. Здесь когда-то стояло здание, но оно исчезло, не сгорело, не рухнуло. Просто перестало пропало. На его месте зияла пустота, воздух дрожал, свет словно моргал. Даже дождь обходил это место стороной, как кошка лужу.
Эдгар закрыл глаза и позволил памяти говорить вместо него. И тут он почувствовал это. След. Не просто магический. След личности. Кто-то, кто умел открывать банки изнутри. Кто-то, кто не просто украл Пыль, а понял, как ею пользоваться.
Эдгар вытянул руку и зонт развернулся. Внутри купола была не ткань, а зеркало, в нём отразилось лицо, которого он не знал. Это был юноша. Очень молодой, с глазами, как у тех, кто однажды видел слишком многое. Он стоял в пустоте, держа банку с Пылью, не улыбаясь. Он даже не знал, что его видят, а просто смотрел в сторону, где миры ещё не соединились.
И в этот момент Эдгар понял: Тот, кто взял Пыль – не служит Теберриусу. И это… ещё опаснее. Потому что это значит, что у Лорда был план, а у этого мальчика просто мечта.
Эдгар закрыл зонт, отражение исчезло.
– Мы ищем не слугу. Мы ищем идеалиста, – пробормотал он. – Идеалисты всегда опаснее тиранов. Потому что они верят, что делают мир лучше, даже когда сжигают его дотла.
И в этот момент, где-то в другом конце Лондона, юноша с банкой в кармане уже переступил границу между сном и явью. И начал строить новый мир.
