Два брата, две России. Том 1. Раскол
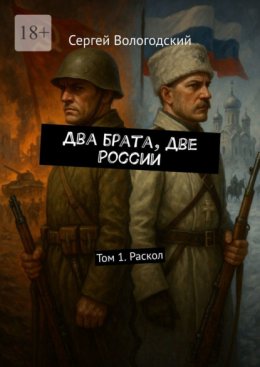
Редактор Чат GPT
Иллюстратор Иллюстрацию создал чат GPT
© Сергей Вологодский, 2025
© Иллюстрацию создал чат GPT, иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0067-4328-1 (т. 1)
ISBN 978-5-0067-4329-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Том 1: Раскол
Часть 1: Первая мировая война (1914—1917)
Глава 1. Август 1914. Тишина перед бурей
Зной, густой и неподвижный, окутывал всё вокруг. Воздух над полем дрожал, марево искажало очертания дальних перелесков. Августовское солнце стояло высоко, безжалостно паля, выжигая последние соки из земли. Стоял дурманящий, чуть горьковатый запах скошенной ржи, смешанный с ароматом полыни с межи. В деревне Ковыли жизнь шла своим чередом: звенели косы, скрипели телеги, перекликались редкие голоса, негромкие, чтобы не нарушать царившую тишину.
Иван, девятнадцатилетний, крепкий, широкоплечий, с потемневшим от солнца лицом, работал усердно, не покладая рук. Он ловко орудовал граблями, сгребая солому и колосья в тугие, аккуратные снопы. Двигался быстро, порывисто, с той неуёмной силой, которая бьёт ключом в молодости. Работа была ему в радость – понятная, зримая, дающая ощущение причастности к вечному круговороту жизни: посеял, вырастил, убрал.
Рядом с ним, работая более размеренно, но не менее споро, двигался Николай. Двадцать три года, худощавый, но жилистый, с сильными, привыкшими к труду руками. Он работал вдумчиво, не спеша, но каждый его жест был выверенным, точным. Николай окончил уездное училище, что выделяло его среди деревенских парней. Он читал книги, выписывал газету «Русское слово», которая приходила из города с опозданием. В разговорах он был обстоятелен, тщательно подбирал слова, чем заслужил уважение старших и лёгкое недоумение сверстников. Сейчас он, чуть прищурившись, смотрел на солнце, определяя время.
– К вечеру бы с этим клином управиться, – проговорил Николай, поправляя картуз. – Погода стоит, надо брать.
– Справимся, Коля, куда мы денемся, – отозвался Иван, перекидывая сноп через плечо. – Завтра возьмёмся за тот, что подальше.
Они работали молча, привычно. Каждый думал о своём. Иван – о том, как хорошо будет вечером, после бани. Николай – о чём-то своём, о чём он нечасто говорил с братом.
Вдруг со стороны околицы раздался крик. Не крик о помощи, а какой-то взволнованный, резкий. Работники на поле замерли, прислушиваясь. Крик повторился, ближе. Кто-то бежал к полю от деревни, размахивая руками.
– Что там? – спросил кто-то.
К ним приближался парнишка из конюшни, запыхавшийся, в синей рубашке.
– В церковь! Все велят идти в церковь! Срочно! Указ привезли! – кричал он, переводя дух.
По полю пронесся гомон. Работа разом прекратилась. Люди, вытирая руки о штаны, поспешили в деревню. Указ царя, да еще и в церкви, означал нечто из ряда вон выходящее.
Иван и Николай бросили снопы и тоже пошли вслед за всеми. Любопытство и тревога подгоняли их.
Перед церковью уже собиралась толпа. Мужики, бабы, дети. Все встревоженные, переговариваются вполголоса. Запыхавшийся староста с покрасневшим лицом расталкивал людей, пробираясь к дверям храма. У входа стоял отец Василий, настоятель, с просветленным и в то же время суровым лицом. В руках он держал большой лист бумаги.
Люди входили в церковь, стараясь не шуметь. Запах ладана, полумрак после яркого света, иконы, глядящие со стен. Непривычная обстановка в будний день усиливала ощущение важности момента. Иван и Николай остановились у входа, не решаясь пройти дальше.
Отец Василий поднялся на амвон. Толпа затихла. Звук его голоса разнёсся под сводами храма, гулкий, торжественный. Он начал читать. Не спеша, чётко, но с таким выражением, что каждое слово било в самое сердце.
Это был манифест. О войне.
Иван слушал, и внутри у него всё сжималось. Война? С кем? Священник читал о защите Сербии, о кознях врагов, о призыве к верным сынам Отечества. Слова были возвышенными, полными призыва к единству, к жертве. «Призываем верных подданных наших… встать на защиту земли Русской…»
Иван выпрямился. По спине побежали мурашки. Долг! Защита! Родина! Он вспомнил уроки Закона Божьего, рассказы о святых воинах, об Александре Невском. Вот оно! Время подвига!
Он мельком взглянул на Николая. Тот стоял неподвижно, как изваяние, лицо его было сосредоточенным, глаза устремлены на священника. Ни тени мальчишеского восторга, только глубокая сосредоточенность.
Когда священник закончил читать, в церкви повисла абсолютная тишина. На этот раз – не от испуга, а от глубокого потрясения. Никто не плакал в голос. Слышались лишь тихие, сдавленные всхлипывания, глубокие вздохи, шуршание платков. Мужчины стояли, плотно сжав губы, и смотрели в пол. Бледные женщины стояли с плотно сжатыми губами, прижимая к себе детей, их руки дрожали. Это было не бурное проявление горя, а та глухая, затаённая скорбь, которая присуща людям, привыкшим смиренно принимать удары судьбы.
Иван огляделся. Увидел мать. Она стояла чуть в стороне, сгорбившись, лицо ее было изможденным, но слезы не текли ручьем, лишь редкие капли медленно ползли по морщинам. Она беззвучно шептала молитву одними губами. Рядом стоял отец. Его всегда невозмутимое лицо казалось высеченным из камня. Он смотрел прямо перед собой, руки были сжаты в кулаки вдоль швов штанов.
– Мобилизация… Будут приносить списки… – тихо проговорил кто-то позади.
Священник сошел с амвона. Люди молча, словно боясь нарушить тишину, стали выходить из церкви. Воздух на улице показался еще жарче и тяжелее, чем до того, как они вошли.
Иван шёл рядом с Николаем, молча переваривая услышанное. Утренняя жара сменилась какой-то внутренней вибрацией, напряжением.
– Значит… война, – тихо сказал Иван, когда они отошли от церкви.
Николай кивнул.
– Нас возьмут, Коля! – уже с меньшим восторгом, но твердо сказал Иван. – Мы пойдем.
Николай посмотрел на него. Взгляд был серьезным.
– Пойдем, Ваня. Если призовут – пойдем. Долг есть долг.
Вечером сидели на завалинке. Солнце село. На деревню опустилась новая тишина, не мирная, а тревожная. Мать молча готовила ужин, тихо вздыхая. Отец сидел рядом с сыновьями, курил, глядя на звёзды, которые проступали на темнеющем небе.
– Значит, завтра из волости принесут списки, – наконец сказал отец. Голос у него был глухой, низкий. – Сначала, говорят, тех, кто служил… Запасных.
– Меня призовут, – сказал Николай. Его голос был ровным, спокойным, как будто он говорил о чём-то обыденном. – Я после училища, после курсов… прапорщик запаса.
Отец кивнул. Он знал об этом. Это было предметом гордости, а теперь – источником невыразимой тревоги.
– А я? – спросил Иван.
– Тебя… как царь решит, – ответил отец. – Ты еще молод. Не служил. Но война, говорят, большая…
Мать вышла из дома, поставила на завалинку крынку с молоком. Присела рядом. Протянула руку, погладила Ивана по голове, потом Николая. Жест был сдержанным, но полным такой глубокой любви и боли, что Иван почувствовал, как у него защипало в носу.
– Сыночки… – тихо сказала мать, ее голос был едва слышен. – Господь с вами… Куда пошлёт… Только… вы там… держитесь друг за дружку… не забывайте, что вы родные…
Николай перехватил руку матери, прижал к губам.
– Мама. Не беспокойся. Я присмотрю за Ванькой. Даю тебе слово. Куда бы нас ни занесло…
– Я не маленький! – чуть обиженно сказал Иван, хотя слова матери и жест Николая тронули его.
– Знаю, не маленький, – мягко ответил Николай, не отпуская руки матери. – Но в первый раз… А я там был. На сборах. Видел, как там всё… устроено.
Он посмотрел на Ивана серьёзным, пронзительным взглядом.
– Война – это не жатва на поле. Это… другое. Слушайся, Ваня. И… если что… ищи меня.
Отец поднялся. Положил руку на плечо Ивана, потом Николая. Жест был тяжелым, отеческим.
– Долг есть долг, – повторил он слова священника, но без пафоса, просто как истину. – От Царя, от Господа… И от семьи. Вы – Род. Помните об этом.
Он ушел в дом. Мать посидела еще немного, потом тоже встала.
Иван и Николай остались одни в тишине, наполненной стрекотанием сверчков. Звезды смотрели на них с равнодушного неба. Где-то далеко, за пределами их маленького мира, уже гремела война. А здесь, на завалинке, между двумя братьями уже пролегла первая незримая трещина, порождённая грядущей бурей.
Глава 2. Сбор
Утро после чтения Манифеста в церкви было непривычно тихим. Зной не спадал, но в воздухе висело напряжение, давящее и осязаемое. Уборочные работы продолжались, но споростью не отличались. Мужики работали молча, перебрасываясь лишь самыми необходимыми словами. Женщины хлопотали по двору с тревожными лицами. Дети, чувствуя перемену, жались к матерям.
К середине дня по пыльной дороге со стороны волости показались всадники. Двое. На вороных конях, в форменных темно-зеленых мундирах с портупеями. Урядники. С ними – волостной старшина и писарь, уже без вчерашней суеты, но с деловой, сухой серьезностью.
Остановились у здания правления. Собралась вся деревня. Не так многолюдно, как вчера у церкви, но все, кто не был занят срочной работой. Урядники слезли с коней, поправили шашки. Вид у них был внушительный, напоминал о власти, которая теперь требовала свою долю.
Волостной старшина достал список. Писарь держал чернильницу и перо.
– По высочайшему повелению… – начал старшина, и каждое его слово звучало официально и неумолимо. – Призываются на службу в запас…
И дальше – фамилии. Мужиков, уже отслуживших свой срок в армии, вернувшихся домой, создавших семьи, пустивших корни в землю. Звучали имена, и с каждым именем по толпе прокатывался вздох.
– Фёдор Матвеевич Ковалёв, Пётр Игнатьевич Зотов, Василий Петрович Кашин.
На каждое имя кто-то выходил из толпы. Крепкие бородатые мужики, уже отвыкшие от строя. Лица у них были сосредоточенные, покорные судьбе. Их жёны стояли поодаль, держась за руки, их губы беззвучно шептали молитвы. Не было громких рыданий – только тихое, горькое причитание, едва слышное сквозь официальные голоса. Крестьянское горе было глубоким, но не показным.
Иван стоял рядом с отцом и слушал. Его имени не прозвучало. Имени Николая – тоже. Как и ожидалось. Он почувствовал укол – не страха, а какой-то неопределённости. Вчера он был готов бежать на фронт, а сегодня его даже в списках нет.
Отец Ефим, крепкий невысокий мужчина с обветренным лицом, молча стоял, скрестив руки на груди. Его глаза внимательно следили за происходящим. Взгляд был тяжелым, мудрым взглядом человека, который знает цену хлебу и человеческой жизни.
– Все… по закону…, – тихо проговорил отец, когда оглашение закончилось. – Первую партию забрали.
Запасным велели собраться завтра утром с необходимыми вещами у правления. Дали последние наставления. Урядники, коротко попрощавшись, вскочили на коней и, подняв пыль, ускакали обратно в волость. Вместе с ними ушла часть привычной жизни деревни.
Следующие дни прошли в сборах и прощаниях. Уходящим помогали запастись всем необходимым: шили новые холщовые мешки для вещей, собирали немудреную еду в дорогу – сухари, сало, вяленую рыбу. Каждая жена, каждая мать, каждая сестра вшивали в одежду, в ладанки обереги: кусочек родной земли, крестик, записку с молитвой, вышитый платочек. Дети бегали вокруг, не совсем понимая, что происходит, но чувствуя общую тревогу. Деревенские собаки, обычно ленивые, были возбуждены и лаяли, реагируя на непривычную суету и сборы.
В субботу вечером, накануне отправки первой партии, в церкви служили молебен «О даровании победы русскому воинству и о сохранении жизни воинов, на брани сущих». Церковь была полна. Люди стояли плотно друг к другу, молились горячо, истово. Слова молитвы, усиленные эхом сводов, казались единственной защитой перед надвигающейся грозой. Иван стоял рядом с отцом и слушал. Чувство долга и патриотизма, охватившее его в первый день, смешалось с тревогой и каким-то новым, незнакомым чувством общности с этими людьми, которые молились за своих мужей, отцов, сыновей.
Утром в воскресенье, под мерный звон церковных колоколов, первая группа мобилизованных из Ковылей, человек пятнадцать, покинула деревню. Они шли пешком до волости. Родня провожала их до околицы, а потом долго стояла, глядя им вслед, пока фигуры не исчезли в мареве пыльной дороги.
Прошла неделя, другая. Жизнь в деревне вошла в новый, тревожный ритм. Уборка, которую пришлось заканчивать оставшимся, давалась тяжелее. Работали женщины, старики, подростки. Мужские руки были нужны везде. Доходили обрывочные слухи: новости из города, пересказы писем с фронта (пока редких и коротких), газеты из волости. Говорили о кровопролитных боях, о сотнях тысяч убитых и раненых (слухи преувеличивали, но страх рос).
Иван работал в поле, старался ни о чём не думать, но образ уходящего по дороге брата, лица плачущих женщин – всё это не выходило у него из головы. Он чувствовал, что и его черед придёт. Это было не просто желание совершить подвиг, это стало неизбежным, судьбой.
Однажды, ближе к сентябрю, когда уже чувствовалось дыхание осени, к их дому снова пришёл посыльный от старосты.
– Николай Ефимович? Повторный вызов.
Оказалось, что первую повестку отправили в волость, а Николай уже был в городе. Это была скорее уточняющая бумага, подтверждающая его отправку.
Но через несколько дней пришла другая бумага. Прямо на имя Николая Ефимовича. Форма призыва – прапорщик запаса. Явиться такого-то числа прямо в уездный город, на сборный пункт для офицеров.
Мать снова побледнела. Отец нахмурился.
– Вот он, Коля, твой черед, – тихо сказал отец.
Николай кивнул. Он выглядел собранным, готовым.
– Нам нужно собраться, – просто сказал он.
Сборы проходили в тишине, в отличие от суеты первой мобилизации. Николаю собирали офицерский чемоданчик, а не узелок. Мать приготовила белье, платки, несколько рубашек. Отец молча достал из сундука старый, видавший виды кожаный бумажник – еще дедовский. Протянул Николаю.
– Держи. Пригодится. И… помни, что я говорил, – голос отца был низким и сильным.
Мать, сдержанная, как и подобает крестьянке, всё же не могла скрыть своего горя. Она приготовила для Николая ладанку с родной землёй, зашила в подкладку гимнастёрки крестик. Собрала в маленький узелок горсть сухарей и кусочек сала – на первые дни.
– Ты там… Коленька… осторожнее, – шептала она, прижимая к себе его чемоданчик. – Ты ведь… офицер… тебе будет тяжелее. Но и ты… не забывай…
Она не договорила, но все поняли. Не забывай нас. И брата не забывай.
Вечером перед отправкой Николай долго сидел с отцом. Разговаривали вполголоса. О земле, о хозяйстве, о том, как будут жить без него. Отец давал сыну наставления не только по хозяйству, но и по жизни. Учил его мудрости и стойкости. Иван сидел рядом, слушал, чувствуя себя лишним в этом разговоре двух мужчин – отца и старшего сына, уходящего на войну.
Потом отец ушел спать. Братья остались вдвоем.
– Значит, завтра… – сказал Иван.
– Завтра, – подтвердил Николай.
Он достал из кармана старую, поцарапанную гармошку-двухрядку. Не ту, что продают в городе, а простую, деревенскую.
– Вот, – сказал Николай, протягивая гармошку Ивану. – Возьми. Говорят, в окопах время тянется долго. Пригодится.
Иван удивленно взял гармошку.
– Да я не умею… Ты же играешь.
– Научишься, – ответил Николай. – Времени будет много. Лучше, чем всякую дрянь слушать или водку пить. – Он посмотрел Ивану в глаза. – Это тебе от меня. На память. И… чтобы было что держать в руках, когда… тяжело станет.
В этом простом подарке было больше смысла, чем в долгих разговорах. Иван кивнул, крепко сжимая гармошку.
– Я… спасибо, Коля. Ты там… береги себя. Правда.
Николай положил руку на плечо Ивана.
– И ты. Слушайся старших. Не геройствуй понапрасну. Найди меня, если что.
Рано утром, под ещё тёмным небом, Николай прощался. У калитки стояли только родители и Иван. Прощание было сдержанным, полным той глубокой, невысказанной боли, которая была у крестьян. Мать обняла его, сжавшись в комок. Отец обнял крепко, жёстко. Николай поклонился им в ноги по старинному обычаю.
– Прощайте, родные. С Богом, – он обнял Ивана. – Ну, Ваня. Твой черед придет. Помни о Роде. И о матери.
– Я помню, Коля. И ты помни.
Николай взял чемоданчик. Не оборачиваясь, зашагал по дороге в сторону уезда. Шел быстро, словно боясь потерять решимость.
Прошло ещё почти два месяца. Осень окончательно вступила в свои права. Унылые дожди, грязь на дорогах. Доходили письма с фронта – короткие, полные недомолвок. От Николая писем ещё не было. Слухи становились всё тревожнее: о тяжёлых потерях, о том, что война затягивается.
Иван работал, помогал отцу. Деревня опустела, многие мужчины ушли. Он чувствовал, что его время приближается. Это было не страшно, не радостно – просто неизбежно.
Однажды утром, когда они собирались на работу, снова пришёл посыльный. В руке – повестка. На этот раз – на имя Ивана Ефимовича. Рядовой состав. Явиться такого-то числа в волость.
Иван взял бумагу. Подержал в руках. Понюхал – она пахла типографской краской и казармой. Все. Настал его черед.
Отец молча взял повестку, прочитал. Кивнул. Взгляд его стал ещё тяжелее, чем прежде.
Мать, стоявшая рядом, уронила руки. Ее лицо сморщилось, но она не заплакала. Только тихо, прерывисто вздохнула. Остался один сын.
Сборы Ивана были такими же, как и у Николая, но в них было меньше офицерского лоска, больше солдатской простоты. Узелок, шинель (еще отцовская), запасное белье, сухари. Мать тоже зашила в узелок горсть земли, а в ворот рубашки – крестик.
Вечером перед отправкой отец долго говорил с Иваном. Не о хозяйстве – о жизни. О чести, о совести, о том, как остаться человеком на войне.
– Держись, сынок, – сказал отец, обнимая его перед сном. – Помни, кто ты есть. Из какого рода.
Утром, перед самым рассветом, прощание. У околицы стояли отец и мать. Остальные соседи.
Отец обнял его.
– С Богом, Ваня. Возвращайся.
Мать обняла его последней. Крепко-крепко, словно пытаясь впитать его в себя. Ее лицо было мокрым от слез, но она не рыдала.
– Ванюша… сынок… – шептала она, прижимая его к себе. – Ты там… держись. И Колю ищи. Он тебе брат. Один ты у меня теперь… И он один там… Найди его, Ванюша. Прошу тебя.
В ее голосе было столько мольбы, что Ивану стало невыносимо. Он кивнул, не в силах говорить.
Он поклонился родителям. Взял свой узелок и гармошку, спрятанную в вещах. Повернулся. Зашагал по пыльной дороге. По той же дороге, по которой ушли все мужчины из деревни. По которой недавно ушёл брат.
Шел быстро, старался ни о чем не думать, ничего не чувствовать. Впереди – уездный город, сборный пункт, эшелон, фронт. Где-то там – Николай. И обещание матери. Найти брата.
Глава 3. Учебная команда
До уездного города шли двое суток, почти шестьдесят верст под осенним солнцем, по пыльной, разбитой дороге. Деревенские парни, вчерашние работники, сбились в молчаливую, усталую толпу. Впереди на лошади ехал старший урядник, позади шёл пеший с нагайкой, сухощавый, с выцветшими усами, постоянно сплёвывая сквозь зубы и насвистывая одну и ту же простенькую мелодию. Шли, не оглядываясь, каждый погружённый в свои мысли. Иван чувствовал, как горят ступни, как ноет спина под узелком. В нём, завёрнутая в чистую рубаху, лежала гармошка брата – её тяжесть ощущалась не только физически.
Уездный город встретил их гулом, лязгом металла, запахом махорки и какой-то новой, тревожной энергией большого скопления людей. Их привели на сборный пункт – огромные бывшие конюшни, на скорую руку приспособленные под казармы. Первое, что их ожидало, – осмотр и медицинские процедуры.
– Раздевайся! Живо! – гремели окрики сержантов.
Медицинский осмотр был быстрой и унизительной процедурой. Голые тела, выставленные напоказ перед равнодушными взглядами медиков и надзирателей. Ощущение себя скотом на бойне. В потоке людей осматривали быстро, без сантиментов. Щупали, слушали, заставляли приседать. Делали прививки – короткий укол, который ощущался не как боль, а как вторжение.
Шприц вонзился в плечо. Иван скрипнул зубами – не от боли, а от унижения. Медик, не глядя, вытер место укола грязным рукавом, запах спирта смешался с запахом пота, и крикнул: «Следующий!»
Наспех одетые, они двинулись дальше. Выдача обмундирования. Грубого, колючего, не по размеру. Шинель висела мешком, сапоги жали или болтались, гимнастёрка натирала шею. Но это была форма. Серая, одинаковая. Она стирала все различия. Теперь он был рядовым Иваном Ковалёвым. Его имя стало дополнением к званию. Он стал одним из тысяч в этом сером потоке.
– В строй! Шагом марш! Левой! Левой! Равнение на середину! Смирно! Вольно! – гулкие, непривычные команды разносились по плацу.
Их учили ходить, поворачиваться, выполнять команды быстро, без раздумий. Часами, до боли в мышцах, до одури в голове. Учили подчиняться. Иван чувствовал, как из него, крестьянина, привыкшего к осмысленной работе, выбивают эту осмысленность, превращая его в послушный механизм.
Вечером в казарме, душной, пропахшей потом и махоркой, им выдали медальоны. Маленькие цинковые капсулы на шнурке.
– Имя, фамилия, отчество! Вероисповедание! Откуда призван! – объяснял фельдфебель, и его голос гремел. – Записать! Носить на шее! Потеряешь – трибунал! Это чтобы потом знать, кто есть кто, если…
Он не договорил, но всем было ясно – «если убьют».
Иван взял медальон. Холодный, казенный. Нацарапал на бумажке, которую вложил внутрь: «Рядовой Иван Ефимович Ковалев. Православный. Призван Уездной комиссией Саратовской губернии». Ощущение было жуткое. Будто он уже готовится к смерти. Будто становится просто единицей, которую нужно опознать. Он надел шнурок на шею, спрятал медальон под гимнастёрку. Холод металла коснулся его кожи, напоминая о его новом статусе и новой перспективе – быть опознанным в случае гибели.
На сборном пункте были разные люди. Мужики из деревень, рабочие с заводов, мелкие служащие из городов. Городские держались немного обособленно, говорили иначе, курили папиросы вместо махорки. Во время обучения Иван столкнулся с одним из них.
– Чего копаешься, деревенщина! Пошевеливайся! – рявкнул тощий паренёк в очках, которого Иван узнал – он пытался отобрать у него лопату в первый же день. Это был один из «городских», слабый в работе, но бойкий на язык. Он называл Ивана «лапотником», «земляным червём», «деревенщиной».
Иван молча выпрямился. Он был сильнее, выносливее, привычнее к труду, но здесь это не давало ему особого преимущества.
На полосе препятствий, где нужно было вскарабкаться на бревенчатую стену, тот же очкарик никак не мог забраться наверх. Он срывался, барахтался.
– Ну что, городская штучка, не лезет? – усмехнулся кто-то из крестьян.
Очкарик злобно посмотрел на него. Инструктор заорал.
– Быстрее! Не копайся! Ковалев! Помоги!
Иван молча подошёл, подставил плечо и помог очкарику взобраться. Тот, тяжело дыша, не сказал ни слова благодарности, только злобно посмотрел исподлобья. В этот момент в Иване смешались разные чувства: и глухая неприязнь к этому хилому, но наглому «городскому», и смутная жалость к его немощи, и злость на самого себя за то, что помог. Всё это смешалось в тяжёлый комок где-то под ложечкой.
– Здесь все равны! Понятно?! – орал сержант, наблюдавший за этим. —Ни городских, ни деревенских! Теперь вы солдаты! Быдло подневольное! Забудете, кем вы были! Запомните, кто вы есть!
Через несколько дней их партию, состоявшую из двух сотен человек, погрузили в теплушки – грязные, вонючие, набитые людьми. Ехали несколько суток. Днём было душно, ночью холодно. Скрип колёс, стук на стыках, храп, кашель, стоны. Ели сухари и баланду на редких остановках.
В их вагоне ехал старый солдат Сидор. Коренастый, неразговорчивый, с лицом, изрытым оспой. Он был из запасных, воевал в Японскую. Курил, зажигая спичку о шрам на щеке – след от японской шрапнели. Этот шрам пересекал его щеку от виска до подбородка, и когда он тёр о него спичку, казалось, что из самой плоти высекаются искры. Его мутный глаз слезился на ветру, но смотреть он мог только в одну точку – туда, где, казалось, до сих пор стоял Порт-Артур, где он пережил свой ад.
– Ну что, касатики, на немца идёте? – спрашивал он своим скрипучим голосом. – Дело государево. Кровавое.
Иван слушал его рассказы, отрывочные, скупые на эмоции, но полные страшных подробностей. О голоде, о болезнях, о том, как замерзали в окопах, о атаках, в которых от роты оставалась горстка людей. Никаких парадов, никакой славы.
– А немец… – говорил Сидор, попыхивая цигаркой. – Упрямый он. И техникой силён. Не то что японец. Там… там совсем другая война.
Его слова о «другой войне» и «технике» звучали как приговор. Иван смотрел на него – на этого человека, уже прошедшего через ад и снова идущего туда. Слова ветерана тяжестью ложились на медальон под гимнастёркой.
Помимо строевой подготовки и тактики, были занятия по санитарии. Как перевязывать раны себе и товарищу. Как остановить кровотечение. Санитар, проводивший занятия, был сухорук и говорил быстро, по-деловому.
– Раненого, если нужно тащить, бери за воротник! – учил он. – А не под мышки! Так ему легче, и тебе сподручнее!
– А если подворотничок порвётся? – спросил кто-то из задних рядов.
Санитар равнодушно посмотрел на него.
– Значит, такая у него судьба. Тянуть всё равно придётся. За что схватишься.
«Такова судьба». Эти слова, сказанные буднично, без эмоций, прозвучали страшнее любого крика. Они не были людьми с судьбой. Они были материалом.
Учебная команда готовила их быстро. Месяц-другой – и на фронт. Учили разбирать винтовку (тридцать секунд – норма!), чистить её (это твой главный друг!), прицеливаться, стрелять. Первый выстрел из «трёхлинейки» – оглушительный грохот, резкая отдача в плечо, запах пороха. Иван смотрел на пробоину в мишени. Это не охота, не стрельба по воронам. Это умение убивать. Чужое, страшное умение. Момент инициации.
Он видел офицеров учебной команды. Молодых, в новенькой форме, пахнущих одеколоном, а не махоркой. Один из них, с тросточкой в руке, поправлял перчатки, пока их, солдат, учили рыть окопы в промёрзшей земле. Они жили отдельно, в тепле, в столовой были белые скатерти, еда пахла сытнее. «Господа прапорщики», «господа подпоручики» – так их называли за спиной с оттенком зависти и неприязни. Это был мир Николая. Мир, в который ему, рядовому, путь был закрыт.
Иван думал о брате. Где он? Учится ли стрелять по мишеням? Или уже на фронте? Вспоминает ли о нём? Сдержит ли своё обещание, данное матери? Гармонь лежала на дне вещмешка, придавленная скатанной шинелью. Тяжёлая. Иногда по ночам, когда соседи храпели, а холод пробирал до костей, Иван нащупывал рукой её угловатый бок. Но играть не решался. Как будто звуки могли разбудить того, кого уже не было, – Ивана из Ковылей. Остался только рядовой в чужой форме, который должен был учиться убивать и ждать своей судьбы, отмеченной лишь номером в списках и холодным металлом медальона.
Глава 4: Путь Николая. Офицерская школа
Николай отправился в уездный город на попутной телеге – это был более быстрый и удобный способ передвижения по сравнению с пешим переходом Ивана, но не менее тягостный из-за необходимости покидать дом. Он сидел рядом с чиновником из земской управы и слушал его рассуждения о логистике мобилизации, о предстоящих трудностях. Разговоры были деловыми, далёкими от деревенских опасений, но Николай ловил себя на мысли, что суть тревоги одна и та же.
В уездном городе их пути разошлись. Чиновник направился в присутственные места, а Николай – по адресу, указанному в повестке для прапорщиков запаса. Здание оказалось бывшей гимназией, приспособленной под нужды учебной команды. У входа дневальный, молодой солдат, вытянулся по стойке «смирно» – уважение к мундиру, даже еще не надетому, чувствовалось сразу.
– Прапорщик запаса Ковалев прибыл! – громко доложил дневальный.
Дежурный офицер, пожилой капитан с обветренным лицом, принял у него документы. Все было быстро, без лишних слов, но с той четкостью, которая сразу отличала этот мир от хаоса сборного пункта для рядовых.
– Проходите, прапорщик. Размещение – комната тринадцать. У старшины роты получите обмундирование. К занятиям приступите завтра.
Ему показали комнату – небольшую, на троих, с простыми кроватями и тумбочками. Чисто, аккуратно. Двое соседей уже были там. Поручик запаса Владимир Романов с университетской бородкой читал книгу. Штабс-капитан запаса Георгий Смирнов, сдвинув пенсне на лоб, что-то чертил в блокноте.
– Позвольте представиться, – Романов отложил книгу и поднялся. – Юрист по мирной профессии. Очень рад знакомству.
Николай пожал руку.
– Прапорщик запаса Ковалев. Из крестьян. После реального училища.
– Смирнов, историк, – отозвался второй, тоже протягивая руку. – Крестьянин-прапорщик – редкость. В наше время – ценность. Вижу, армия становится по-настоящему народной.
В его словах не было иронии, скорее искренний интерес.
Вскоре принесли обмундирование. Качественное, сшитое по мерке. Гимнастерка с золотыми погонами прапорщика, галифе, высокие сапоги из мягкой кожи, портупея, ремень, кобура для револьвера. Все новое, пахнущее кожей и сукном. Николай переоделся. Форма сидела ладно. Он поправил ремень, затянул шнурки на голенищах сапог – это требовало сноровки, но давало ощущение подтянутости. Пристегнул кобуру. Тяжесть револьвера на бедре была непривычной, но в то же время ощутимой. Николай стал другим. Не сыном крестьянина, а офицером. Ответственность этого статуса легла на его плечи вместе с портупеей.
Офицерская учебная команда – это не казармы призывного пункта. Здесь не было толкотни, криков, унизительных процедур (кроме обязательных прививок, как и у всех). Занятия проходили в светлых классах, с картами и схемами. Учили тактике – как развернуть роту в цепь, как выбрать позицию для обороны, как организовать разведку. Учили читать топографические карты, ориентироваться по компасу. Учили основам фортификации – как строить блиндажи, где рыть окопы. Учили стрелять из винтовок и револьверов, обращаться с шашкой.
Преподавали строевые офицеры, седые полковники и капитаны, прошедшие мирную службу и теперь готовившиеся к настоящей войне. Они обращались к слушателям с уважением – «господа прапорщики», «господа офицеры».
– Ваша задача, господа, – говорил на одном из занятий полковник с аккуратной бородкой, указывая указкой на схему атаки, – не только выполнить приказ штаба. Ваша задача – сохранить людей. Если вы грамотно управляете ротой, если бережёте солдат там, где это возможно… считайте, что из десяти ваших солдат хотя бы шестеро вернутся из боя. Это хороший показатель.
Шесть из десяти. Не все. Николай слушал эти цифры, и они врезались ему в память. Не романтические речи о славе, а холодный расчёт потерь. Его готовили не к подвигам, а к тяжёлой, кровавой работе командира. К ответственности за жизни людей.
Занятия чередовались с практикой на полигоне. Учились чётко и громко отдавать команды. Учились вести себя под условным огнём. Николай, с его крестьянской сноровкой и силой, быстро осваивал все прикладные навыки. Его природная наблюдательность помогала понимать тактические задачи.
По вечерам, после ужина в офицерской столовой (еда была простой, но чистой и сытной, не то что солдатская баланда), они собирались в комнате или общей гостиной. Курили (качественный табак, а не махорку), читали газеты, спорили. Романов рассуждал о том, как изменится Россия после войны. Смирнов анализировал уроки прошлых войн, проводил параллели с наполеоновскими кампаниями.
– В этой войне победит тот, кто лучше сможет управлять своей машиной, – говорил Смирнов, протирая пенсне. – Машиной армии, машиной промышленности. И машиной пропаганды.
Николай больше слушал. Его кругозор расширялся. Он видел, насколько сложнее устроен мир, чем казалось из деревни. Его образованность помогала ему понимать эти разговоры, но жизненный опыт, полученный на земле, давал ему иное, более приземлённое видение.
Он часто думал об Иване. Где он? Призвали ли его или нет? Если призвали, то на каком сборном пункте, в какой теплушке едет? Как с ним обращаются? Вспоминал свой медосмотр, формальности, относительный комфорт. А Иван? Там, наверное, крики, грязь, давка. Его наивная вера в героическую войну, наверное, уже столкнулась с реальностью. Как его найти в этой огромной, уже грохочущей на рельсах армейской машине? Полк за полком уходят на запад. Искать иголку в стоге сена? Или иголку в лавине? Обещание матери тяготило её сердце.
Однажды, спустя несколько недель, Николаю пришла почта из деревни. Письмо от матери, написанное корявым почерком писаря. Николай дрожащими руками вскрыл его. Мать писала о деревенских делах, о том, как закончили уборку, о редких вестях от ушедших земляков (не все, увы, были радостными). И, конечно, об Иване.
– Ванюшу нашего призвали, Коленька, – писал писарь под диктовку матери. – Увезли в город на сборный пункт. Как ты поехал, той же дорогой. Ты там, сынок, его ищи. Присмотри. Он ведь один… И ты там один. Вы ведь братья. Помогите друг другу.
Письмо пахло сушёными травами и родным домом. Николай несколько раз перечитал слова о брате. Значит, Иван уже в армии. Где-то здесь. В этой огромной, безжалостной машине. Новость о призыве Ивана была одновременно и облегчением (он жив, он где-то рядом, по крайней мере, в этой стране), и новым, острым уколом тревоги. Теперь ответственность за брата казалась ещё более непосильной.
Он вспомнил гармошку, которую отдал Ивану. Простую, деревенскую. Символ их общей мирной жизни, символ связи, которая теперь должна была пройти проверку войной. Гармошка у Ивана. Револьвер у него. Разные инструменты для разных судеб.
Николай сжал письмо в руке. Найти брата. Присмотреть за ним. Теперь это не просто обещание матери, а его главная личная задача на этой войне. Найти в этой «машине», которая учит офицеров считать потери («шесть из десяти») и превращает солдат в «подневольное быдло». Найти и помочь, если это хоть сколько-нибудь возможно.
Глава 5. Окопная жизнь – первый взгляд
Два месяца в учебной части пролетели быстро и мучительно. Бесконечная муштра, стрельбище, полевые занятия. Иван научился разбирать и собирать винтовку с закрытыми глазами, окапываться так, чтобы за несколько минут уйти под землю, ползать по-пластунски под колючей проволокой. Он привык к командам, уставу, жесткой дисциплине, казенной еде и запаху казармы. Его тело стало ещё крепче, жилистее, а лицо приобрело ту бесстрастную угловатость, которая отличала солдата от штатского. Юношеский пыл окончательно сменился усталой покорностью и готовностью выполнять приказ. Вся прежняя жизнь, деревня, родители, брат Николай – всё это отошло куда-то на задний план, стало почти нереальным. Реальным было только оружие в руках, суровое лицо фельдфебеля и спина товарища впереди.
После последнего смотра и получения новых подсумков с патронами их группу, около тысячи человек, погнали на станцию. Снова теплушки. На этот раз вагоны были ещё грязнее, а люди – мрачнее и молчаливее. Учебка закончилась, впереди ждал фронт. Разговоров было мало. Слушали стук колёс, курили махорку, смотрели в узкие окошки. Пейзаж за окном постепенно менялся. Леса и поля сменялись разрушенными деревнями, покосившимися телеграфными столбами, воронками на полях.
Приближение фронта чувствовалось задолго до прибытия. В воздухе появился новый запах – не привычный дым костров или печей, а едкий, горьковатый запах пороховой гари, смешанный с чем-то тошнотворно-сладковатым, тяжёлым – запахом разложения. И звуки. Сначала далёкий, глухой гул, похожий на раскаты грома, потом всё громче – артиллерийская канонада. Непрерывная, монотонная, давящая на уши и нервы.
Они прибыли на какую-то узловую станцию далеко от больших городов. Царил хаос. Эшелоны с войсками, эшелоны с ранеными, санитарные поезда, горы ящиков с боеприпасами. Суета, крики, стоны. Иван спрыгнул с подножки теплушки. Земля под ногами дрожала от взрывов где-то далеко впереди. Воздух был холодным, влажным, наполненным теми самыми новыми запахами – гари и тления.
Их построили. Дали командира – молодого подпоручика, бледного, с нервно подергивающимся глазом. Он тоже, видимо, был из запасных, как и Николай, только попал на фронт раньше.
– Рядовые! Вы прибыли в распоряжение Шестого полка! Сейчас мы выступаем на передовую! Держаться в строю! Не отставать! Шагом марш!
Пошли. По разбитой дороге, мимо сожжённых деревень, мимо полей, изрытых воронками, мимо обломков какой-то техники. Попадались навстречу обозы, санитарные повозки с ранеными. Раненые лежали на соломе, прикрытые шинелями, лица их были серыми, неподвижными. Вид этих бедолаг заставлял Ивана отводить глаза.
Они шли несколько часов. Канонада становилась всё громче. Запах тлена – сильнее. Наконец дорога свернула в лес. Здесь тоже всё было изранено войной: деревья с перебитыми стволами, ветки, обломанные снарядами. В лесу их встретил человек в грязной выцветшей шинели, с землистым лицом и нездоровым блеском в глазах. Фельдфебель.
– Значит, пополнение, – прохрипел он, равнодушно оглядывая их. – Ладно. За мной. И смотрите под ноги.
Он повел их по узкой тропинке, затем свернул куда-то в сторону, и Иван понял, что они идут по дну какой-то канавы. Стенки ее были неровными, земляными, кое-где укрепленными бревнами. Грязь под ногами хлюпала. Это были окопы.
Первое впечатление от окопов было ошеломляющим. Это был целый подземный город. Узкие ходы, землянки, ниши для отдыха. Все пропитано запахом сырой земли, табачного дыма, пота и чего-то ещё – острого, неприятного, от чего сводило желудок. По стенам ползали жирные мухи. Вездесущая грязь.
– Не отставать! Головы не высовывать! – шипел сопровождавший их фельдфебель. – Немцы наблюдают!
Иван шёл по узкому проходу, стараясь не задевать стены. Иногда приходилось пригибаться. Над головой свистели пули – негромко, но зловеще. Внезапно рядом что-то с грохотом взорвалось, землю тряхнуло, посыпался грунт.
– Мина! – крикнул кто-то сзади.
Все пригнулись. Ждали следующего. Тишина. Потом снова пошли. Сердце Ивана колотилось где-то в горле. Это не учения. Это по-настоящему.
Их привели на позицию. Длинный ход, расширяющийся в некоторых местах. Там сидели люди – солдаты. Многие в грязных, рваных шинелях, с небритыми лицами, с усталыми, равнодушными глазами. Это были «старые» солдаты – те, кто уже сидел в этих окопах неделями, а то и месяцами. Они смотрели на пополнение без особого интереса, как на новую партию мяса.
– Вот ваше место, – сказал фельдфебель, подводя Ивана и еще нескольких парней к участку траншеи. – Это первая линия. Противник – вон там, – он махнул рукой куда-то вперед, за бруствер. – Вам покажут, где пост. Где блиндаж.
Подошёл старый жилистый солдат с лицом, похожим на печёную картофелину. Его глаза были узкими и цепкими.
– Значит, новенькие? – прохрипел он, осматривая их. – Ладно. Я тут старший. Пётр. Слушайте меня. Вот твой участок, – он ткнул пальцем в стенку окопа. – Будешь стоять здесь. Голову не высовывать! У фрицев есть снайпер – сразу срежет. Смотреть вот сюда, – он показал на узкую щель в бруствере. – И слушать.
Петр быстро и деловито объяснил, что к чему. Где можно ходить, где нельзя. Где «ничейная земля» – полоса перед окопами, опутанная колючей проволокой, изрытая воронками. Вонь тления усилилась. Иван понял, что воронки там не от взрывов. Там… там лежали те, кто не добежал.
– Вот тут, – Петр указал на небольшой выступ в стенке окопа, – можно присесть, если тихо. А тут – блиндаж. Если сильный обстрел – туда. Но он маленький, на всех не хватит.
Иван слушал, стараясь запомнить. Каждый совет ветерана казался бесценным. Этот человек знал, как выжить здесь.
Наступила ночь. В окопах стало ещё тревожнее. В небе висели осветительные ракеты, окрашивая «ничейную землю» в мертвенно-бледный цвет. Где-то стрекотал пулемёт. Чаще и громче била артиллерия. Звуки были постоянными, они не прекращались ни на минуту.
Ивана поставили на пост. Стоять у бруствера, смотреть в щель, слушать. Холод пробирал до костей, несмотря на шинель. Страх был острым, физическим. Казалось, что каждый шорох впереди – это немец. Каждая тень – враг. Он крепко сжимал винтовку, палец лежал на спусковом крючке.
В какой-то момент он увидел впереди, на «ничейной земле», что-то тёмное. Неподвижное. Пригляделся. Понял. Человеческая фигура. Лежит неестественно. Русский солдат. В такой же шинели, как у него. Мёртвый. И таких там было… много. В воронках, под проволокой. Они лежали там, где их настигла смерть. Никто тела не убирал. Запах разложения… исходил оттуда. От них.
Ивана чуть не стошнило. Он отвернулся от щели, прислонившись спиной к холодной земляной стене. Это не картинки из книжек. Это не слава. Это смерть. Лежащая там, прямо перед тобой. И завтра она может прийти за тобой. Или за тем парнем рядом. Или за Петькой, который спит в блиндаже.
Шел дождь. Мелкий, моросящий. Окоп наполнился хлюпающими звуками. Грязь разжижилась, липла к сапогам. Холод усилился. Вши, которые завелись еще на сборном пункте и в теплушке, теперь почувствовали себя вольготно. Зудело невыносимо.
Еда в окопах была скудной. Сухарики, консервы, жидкая каша. Вода – из фляги, пахнущая болотом. Туалет – яма в конце хода. Всё это вместе создавало невыносимый запах, который, казалось, въедался в кожу и одежду.
Иван слушал разговоры старых солдат. Без всякого пафоса. О еде. О холоде. О том, когда пришлют смену. О том, что «там», в тылу, «не понимают». Никто не говорил о долге или Отечестве. Говорили о выживании. О том, как дожить до следующего дня.
– Эх, сюда бы балалайку… или гармошку, – вздохнул как-то Петр. – Душу бы отвел. А то тут только один мотив – «ту-тух!» да «тррр!»
Иван вспомнил про гармошку в вещмешке. Лежит там никому не нужная. Играть он все равно не умел. Да и какое дело до музыки? Здесь только смерть и грязь.
Его прежние представления о войне рухнули в одночасье. Учения в учебке теперь казались детским лепетом. Никакого строя в атаке, никакого маневрирования, как на схемах. Только сидение в этой вонючей яме и ожидание. Ожидание смерти. Или ранения.
Он думал о Николае. Где он? Наверное, ему легче. Он же офицер. Живёт не в такой грязи. Спит не под открытым небом. Может быть, у него есть возможность узнать о нём, найти его? Но как? Как из этой вонючей ямы дотянуться до того другого мира, где служат офицеры? Кажется, между ними теперь не просто расстояние в верстах, а пропасть шириной с эту «ничейную землю», полную мёртвых тел.
Холод металла медальона на груди ощущался постоянно. Напоминание. На всякий случай.
Иван сидел на дне окопа, прислонившись к стенке, и слушал бесконечную канонаду и редкие пулеметные очереди. Юношеский энтузиазм сменился глубоким, давящим страхом и усталостью. Он стал рядовым. Частью этой машины. И теперь его единственной задачей было выжить. И, если получится, вспомнить обещание, данное матери. Найти брата в этом аду на земле.
Глава 6. Офицерский быт на фронте
Два месяца в офицерской учебной команде, два месяца жизни по уставу и по карте. Николай научился читать войну по схемам, но не знал её запаха и вкуса. Эшелон доставил их на прифронтовую станцию – гудящий, пыльный улей солдат, раненых, беженцев. Здесь их распределили. Николая направили в десятый пехотный полк, который стоял на передовой.
Штаб полка – блиндажи в тылу, вязкий запах чернил и усталых людей. Назначение – командир взвода третьей роты пятого батальона.
– Рота на передовой, прапорщик, – полковой адъютант не отрывался от бумаг. – Прибудете, примете взвод. Командир роты введёт вас в курс дела. Не теряйтесь. И… берегите людей.
Последние слова были произнесены почти неслышно, но Николай уловил их и запомнил.
Путь до передовой – на попутных машинах, пешком, мимо разрушенных деревень и полей, изрытых воронками. Все ближе грохот канонады, все сильнее тошнотворный запах гари и тлена. Наконец – окопы.
Грязные, сырые траншеи, в которых жили люди, похожие на подземных обитателей. Первое впечатление было сильным – не ужас боя, а ужас быта. Сырость, холод, вонь, постоянное ощущение опасности. Его встретил командир роты, штабс-капитан, с лицом, вылепленным из глины окопов. Он показал землянку взводного – нору с земляным полом и одной нарами.
– Взвод вон там, на фланге, – прохрипел штабс-капитан, не вставая. – Игнатьев, старший унтер, поведёт вас в бой. Человек бывалый, слушайтесь его. И… не высовывайтесь без нужды.
Николай добрался до своего участка. Встретил старшего унтер-офицера Семена Игнатьева – усатого, кряжистого, с прищуренными, оценивающими глазами. Фронт выжег в нем все лишнее, оставив только деловитость и знание жизни – той, что здесь, под землей.
– Господин прапорщик, – голос Игнатьева был сухим, без интонаций. – Взвод в порядке. Вот списки. Что осталось. – Он показал на вытянувшиеся ряды солдат в траншее. – Люди… разные. Бывалые, необстрелянные. Смирные и бедовые.
Игнатьев не давал долгих наставлений. Он просто показывал и называл вещи своими именами. Где пригнуться, где не высовываться. Где спать вполглаза. Где немцы. Про «ничейную землю» – полосу между окопами, где «никто не хозяин, кроме смерти».
– Главное – не думать много, – говорил он, закуривая махорку от фитиля коптилки. – Думать вредно. Надо делать, что велят. И ждать. Все здесь только и делают, что ждут. Или пули, или приказа.
Николай принял взвод – около сорока человек. Разных. Но всех объединяла грязь на шинелях, усталость в глазах и ожидание. Среди них было несколько лиц, которые запомнились сразу.
Фёдор, высокий, сутулый, с вечно грустным выражением лица и большими рабочими руками. Плотник из подмосковной деревни. Говорил тихо, работал быстро, казался абсолютно покорным судьбе.
Егор, наоборот, был маленьким, юрким, с хитроватым прищуром и проворными пальцами. Из воронежских, балагур и выдумщик. Умел достать табак, починить сапог, рассказать анекдот. В его глазах, несмотря ни на что, горели искорки жизни.
– Здравствуйте, братцы, – сказал Николай, обходя строй. – Я ваш новый командир, прапорщик Ковалев. Будем служить вместе. В этих… условиях. – Он не стал говорить о долге и Отечестве. Эти слова здесь звучали пусто. – Главное – выполнять приказ. И слушать меня.
Солдаты отвечали негромко, некоторые кивали. В их взглядах не было ни воодушевления, ни неприязни. Только привычная настороженность – каким будет этот новый командир? Удастся ли с ним выжить?
Быт офицера на передовой отличался, но разница была относительной. Землянка – не дворец, но своя. Офицерский котелок – еда чуть лучше, но всё та же полевая кухня. Главное отличие – одиночество командира. Он не мог сидеть и слушать солдатские байки, курить с ними махорку. Между ним и ними – невидимая стена субординации. Он должен был быть примером, опорой, тем, кто знает и решает.
Шли дни. Окопная жизнь затягивала. Привыкал к запахам, к грязи, к постоянному фону канонады. Научился различать свист снарядов, определять их калибр и направление. Научился спать под этот грохот. Взвод жил своей жизнью, размеренной, тихой.
На посту сменяли друг друга. Делились последней щепоткой табака. Рассказывали короткие истории из прошлой жизни – про дом, про жён, про детей. Фёдор рассказывал про свой плотницкий инструмент, про то, как поставил баню родителям. Егор травил байки про деревенские свадьбы и драки. Николай слушал их разговоры, проходя по траншее. Это были его люди. Его ответственность.
По ночам, при свете коптилки, Николай сидел над картой. Изучал схему позиций. Думал о своих людях. О цифре «шесть из десяти». О том, как сделать так, чтобы эта цифра стала выше.
И постоянно – мысль об Иване. Мать просила найти. Обещание жгло душу. Но как? Как найти рядового Ивана Ефимовича Ковалева в этом многомиллионном, грохочущем, постоянно меняющемся организме, который называется действующей армией?
Поиск стал его навязчивой идеей. Каждую свободную минуту он тратил на попытки узнать, расспросить. Он стал внимательнее относиться к любому прибывшему пополнению – откуда? Какие фамилии? Пытался заглядывать в документы, если удавалось.
– Семен Петрович, а вот обоз из какого полка идет… не спросить ли у них про… ну, про знакомых? – говорил он Игнатьеву.
Игнатьев смотрел на него своим цепким взглядом.
– Здесь, господин прапорщик, о знакомых не спрашивают. Здесь спрашивают о смерти. Она одна всем знакома.
Но Николай не сдавался. Он стал чаще находить поводы, чтобы пойти в полковой медпункт: сопроводить раненого солдата, отнести донесение. Медпункт – это ещё один срез войны. Стоны, крики, запах йода и крови. Раненые из разных рот, батальонов, иногда – из других полков, доставленные на перевязку.
– Откуда вы, братцы? – спрашивал Николай, проходя мимо рядов с ранеными.
– Из третьего полка. Из второй дивизии.
Он пытался расспрашивать санитаров, фельдшеров – тех, кто видел поток людей.
– Вы не встречали рядового Ковалева? Ивана Ефимовича? Из Саратовской губернии?
Санитары устало смотрели на него и качали головами.
– Ковалевых тут… каждый день. Иванов – тоже. Откуда он – кто их запомнит?
Однажды, перекуривая в перевязочном пункте, он разговорился с пожилым санитаром.
– Ищу вот брата… недавно призвали… Иван Ковалев… из Саратовской области.
Санитар, сморщенный, с белёсыми усами, взглянул на него.
– Ковалев… из Саратовской, говоришь? – он почесал затылок. – Кажется… был тут один Ковалев… дня два назад… или три? Нет, не Иван. Леонтий вроде. Тоже из Саратова. Помер, видать… Не привезли обратно.
Николай похолодел. Леонтий. Из Саратова. Не Иван. Но тоже из Саратова. Тоже Ковалев. Помер. Эта случайная, никак не связанная с Иваном деталь прозвучала как похоронный звон. Показывая, как легко здесь потеряться навсегда, как легко стать просто фамилией в списке мёртвых. Безнадёжность поисков обрушилась с новой силой. Миллионы людей. Тысячи Ковалевых. И кто-то из них – твой брат, за которого ты обещал.
Жизнь во взводе шла своим чередом. Наступали холода. Окопы осыпались. Постоянные обстрелы. Нервы были на пределе. И вот – первые потери под его командованием.
Сильный обстрел. Потом – прицельная пулеметная очередь с немецкой стороны. Задело нескольких человек. Среди них – Федор. Тот самый плотник. Он стоял на посту. Пуля попала ему в голову. Смерть была мгновенной.
Николай видел его утром. Тихий, покорный. Думал о его больших руках, которые могли бы строить дома, а не держать винтовку. А теперь…
Хоронили быстро, ночью, в воронке недалеко от окопа. Несколько человек, завернутых в плащ-палатки. Ни священника, ни молитвы. Просто земля.
Потеря Федора ударила по взводу. По Николаю ударила как первое прямое попадание. Вот она, цена. Не «шесть из десяти», а один. Федор. Плотник. Мертв. Под его командованием. Чувство вины, ответственности, бессилия – всё смешалось.
Он сидел в землянке. Коптилка коптила. Карта. Револьвер. Письмо от матери. На бумажке – номер полка на Северо-Западном фронте.
Найти брата. В этом аду, который забирает людей просто так, случайно, превращая их в фамилии в списках или в неопознанные тела на «ничейной земле». После смерти Фёдора, после слов санитара о Леонтии, поиск Ивана стал не просто обещанием. Он стал единственной нитью, связывающей Николая с его прежней жизнью, с его человечностью. Найти брата – значит сохранить что-то живое в этом мире смерти и грязи. Это была его личная, отчаянная цель.
Глава 7. Бои и потери
Недели в Шестом пехотном полку на передовой слились в тягучую, грязную безысходность. Иван, рядовой, стал частью подземного мира, населённого уставшими людьми. Он привык к сырости, вечному запаху тлена и гари, грохоту канонады. Научился спать урывками, есть мерзлую кашу, прятаться от смерти. Юношеский пыл сменился внутренним оцепенением.
«Ничейная земля» перед их позициями – полоса, испещрённая воронками, опутанная колючей проволокой. Смерть была здесь хозяйкой. Где-то в немецких окопах иногда звучала чужая гармошка. В вещмешке Ивана, рядом с котелком, сухарями и запасными онучами, лежала его гармошка. Он не доставал её. Какая тут музыка?
Старший в их отделении, Пётр, кряжистый мужик с обветренным лицом, говорил мало. Он учил выживать: как пригнуться, где залечь, как беречь патроны. Война – это кровь, грязь и удача. Иван слушал, запоминал. Мысли о брате, о Николае, приходили редко. Здесь трудно думать о ком-то, кроме себя и тех, кто рядом.
Приказ об атаке поступил под вечер. Утром им следовало захватить немецкие окопы. Никаких речей. Слухи пронеслись по траншее, вызвав глубокие вздохи и нервное курение.
Ночь перед наступлением тянулась бесконечно. Не спали. Сидели, курили, молчали. Страх был глухим, сосущим под ложечкой.
Перед рассветом – подъём. Патроны. Гранаты. Винтовки. У всех одинаково серые лица. Бледный офицер с трясущимися руками выкрикнул приказ.
– Занять опорный пункт. За царя и Отечество! – прозвучало пустой формальностью. Никто не откликнулся.
– По готовности… Первая цепь – вперед!
Ивана поставили в первую цепь. Рядом – Пётр. Его лицо как маска. В глазах – нечеловеческая собранность.
– Ну, Ваня… – прохрипел Пётр, быстро крестя его. – С Богом.
Этот жест ощущался как последняя связь с миром. Сердце Ивана замерло. Сейчас. Дрожь пронзила тело. Он сжал винтовку. Свисток. Пронзительный, долгий.
– Вперед! За мной! – крикнул офицер, выпрыгивая из окопа.
Иван выпрыгнул следом. Вверх. В серое, холодное утро.
Сразу же – ад. Немецкие «Максимы» заговорили разом. Трррр! Трррррр! Пулемёты ревели, их стрекот слился в сплошную стену огня. Пули, как бешеная стая ос, жужжали, визжали. Земля перед ним взрывалась – фонтаны грязи, камней, обрывков… Крики. Падения.
Иван бежал. Низко пригибаясь, зигзагами. Ноги вязли в грязи, спотыкались о кочки, о тела тех, кто уже упал. Кровь, смешанная с грязью.
Рядом упал человек, вскрикнул. Упал Пётр. Не вскрикнул. Иван краем глаза видел, как он рухнул, нелепо раскинув руки с винтовкой. Пробежал мимо. Нельзя останавливаться. Не оглядываться. Не смел. Бежать! Дышать! Падать! Подниматься!
Добрался до колючей проволоки – немецкого заграждения. Шипы цеплялись за шинель, за руки. Рвали плоть. Рвал ее штыком, руками. Металл царапал, колол, впивался. Упал в воронку. Лежа. Прижался к холодной земле. Над головой – вой металла, стук пуль по брустверу. Запах свежей крови, пороха. Поднялся. Побежал дальше. До немецких окопов метров тридцать. Казалось, что это конец. А за спиной – сотня метров ада, где остались лежать те, кто не добежал.
Прыгнул в немецкую траншею. Глубокая, узкая. Пустая. Пахнет незнакомо – немецким табаком, смертью. Облегчение – на секунду. Рядом, тоже в окопе, ещё несколько русских. Бледные, с безумными глазами. Из их роты – не больше десятка. Бой за вторую линию. Грохот, крики, звуки борьбы. Вдруг – крик сзади. Немецкая контратака.
Немцы шли, отстреливаясь. Ближний бой. Жестокий, беспощадный. В узких проходах – рукопашная. Штыки, приклады, ножи. Борьба за жизнь. Иван действовал как автомат. Бил штыком, стрелял в упор. Видел лица врагов – такие же перекошенные от ужаса и ярости. Ощущал тепло чужой крови.
Его ударили прикладом в висок. Он упал в грязь. Слышал крики над собой, хрипы, звуки ударов. Прямо над ним кого-то кололи штыком.
Поднялся. Отступать! Немцы наступали. Бежать! Бежать обратно – через ту же «ничейную землю». Она стала еще страшнее. Еще больше тел. Его товарищей, немцев. Перемешавшихся. Лежащих нелепо.
Добрался до своих окопов. Измученный, грязный, в крови. Живой. Чудом. Его встретили оставшиеся в живых. Рота – остатки роты. Меньше половины. Петра нет. Многих нет. Иван сидел на дне окопа. Винтовка выпала из рук. Он смотрел на свои руки – грязные, в крови. На «ничейную землю». На то, во что превратилась его мечта о подвиге.
Внутри – пустота. Ни страха. Ни боли. Только усталость. И желание, чтобы всё исчезло. Окопы, мёртвые, он сам. Чтобы вернуться туда, где не было ни этого запаха, ни этих криков. Туда, где лежала гармошка, которую он не смог разбудить.
На другом участке фронта, за сотни верст от места, где его брат Иван пережил свою первую атаку, прапорщик Николай Ковалев готовился к боевому крещению. Окопная жизнь научила его главному – командовать не по уставам, а по обстоятельствам. Он узнал своих людей: молчаливого плотника Фёдора с мозолистыми руками, бойкого балагура Егора, умевшего достать что угодно. В лице старшего унтера Игнатьева увидел истинную цену человеческой жизни. А в редкие минуты затишья – искал брата, расспрашивая всех о Шестом пехотном полку.
Этот поиск стал его личной войной. Письмо матери с туманным указанием: «В шестой полк, как мне сказали» – единственная зацепка. Официальные запросы он не подавал – понимал их бесполезность в этой военной машине. Вместо этого впитывал каждое случайное слово, каждый обрывок разговора, где упоминался Шестой полк. Это превратилось в навязчивую идею, заполнившую все мысли.
Приказ о наступлении застал врасплох. Артподготовка сотрясала землю, небо пылало заревом разрывов. В окопах – напряженное ожидание. Хуже всего прозвучали слова о расстреле отступающих – они ранили глубже, чем грохот орудий.
Николай вышел к взводу. Взглядом окинул бойцов – в их глазах читались страх и покорность судьбе.
– Братцы, – голос его звучал тверже, чем он ожидал. – Сегодня идем в атаку. Берегите друг друга.
Фёдор молча кивнул. Егор подмигнул. Игнатьев стоял невозмутимый. Кто-то из новобранцев прошептал: «Говорят, в окопах нет атеистов…» – и перекрестился. Другие последовали его примеру – кто торопливо, кто истово. Николай тоже осенил себя крестным знамением – резко, по-детски.
Пронзительный гудок разрезал воздух.
– Вперед! За Царя! За Родину!
Николай первым выскочил из окопа. Револьвер в руке. И сразу – в кромешный ад. Пулеметные очереди косили наступающих. Земля вздымалась фонтанами от разрывов. Крики, стоны, падающие тела.
Он бежал, пригибаясь, зигзагами. «За мной! Вперед!» – кричал, но голос терялся в грохоте. Видел, как поднимается взвод. Как падают бойцы. Фёдор… исчез в дыму. Егор… еще на ногах. Игнатьев – рядом, как скала.
Тридцать метров до немецких окопов показались вечностью. Николай прыгнул в траншею. Ближний бой – самый страшный. Штыки, приклады, ножи. Кровь брызгала в лицо, смешиваясь с потом. Револьвер выстрелил дважды – два немца рухнули.
Егор, юркий, как ящерица, орудовал штыком. Игнатьев работал методично, без суеты. Блиндаж. Граната Егора. Взрыв. Крики изнутри.
– Вперед! – Николай рванул к входу.
Николай ворвался в блиндаж, ослепленный резким переходом от дневного света к подземному мраку. Воздух был густым от порохового дыма, пропитанным сладковато-металлическим запахом крови. В первые секунды он различал лишь силуэты, мелькавшие в клубах дыма.
Из темноты вынырнуло перекошенное лицо немца. Николай инстинктивно выстрелил – револьверный выхлоп осветил на мгновение весь блиндаж. Вспышка запечатлела в памяти жуткий калейдоскоп: Игнатьев, прижавший штыком к земле молоденького немецкого солдата. Егор, орудующий прикладом как дубиной. Свои и чужие, сплетенные в смертельной схватке.
Лязг штыков, хруст костей, хриплые крики на непонятном языке – всё смешалось в единый кошмарный гул. Кто-то сзади обхватил Николая за шею – он почувствовал на своей щеке чужое горячее дыхание, вонь лука и табака. Локоть в живот, удар прикладом затылком – хруст, хватка ослабла.
Из угла блиндажа блеснул выстрел – пуля прожужжала у самого уха. Николай ответил наугад, не целясь. В ответ – стон и глухой удар тела о землю. Кто-то рядом захрипел, захлебываясь кровью – русский или немец, понять было невозможно.
Вдруг резкий удар в плечо – Николай осел на колени. Перед ним возникла фигура в рваной серой шинели. В поднятой руке блеснул нож. Время замедлилось – Николай увидел каждую зазубрину на лезвии, грязь под ногтями на руке, сжимающей рукоять…
Выстрел. Немец дёрнулся, как марионетка, и рухнул. За спиной Николая стоял Игнатьев, дымящийся наган в руке.
Когда всё закончилось, Николай огляделся. Цена победы – тела. Свои и чужие, перемешавшиеся в смертельном танце. Из сорока бойцов осталось пятнадцать. Игнатьев, облизывая окровавленные губы, докладывал о положении. Егор… Егор лежал у входа, широко раскрытые глаза смотрели в небо. Рядом – выпавшая из руки потрёпанная иконка.
Николай опустился на колени. Холодная кожа. Этот весельчак, этот вороватый балагур… верил. Иконка в грязи перечеркивала все слова, все лозунги. В этот момент что-то оборвалось внутри. Не статистика потерь – «трое из десяти», а конкретные жизни. Фёдор, чьи руки больше не построят ни одной бани. Егор, чьи шутки больше не рассмешат товарищей.
Ночью, в захваченном блиндаже, Николай разложил перед собой карту, револьвер, письмо матери. На клочке бумаги – «Шестой пехотный полк». Где-то там, в этом аду, был Иван. После сегодняшнего боя поиск брата перестал быть долгом – он стал навязчивой идеей, последней нитью, связывающей с человечностью.
Николай зажмурился. Где-то на фронте играла чужая гармошка. Но он знал – у Ивана есть их семейная, деревенская, пахнущая домом. И он найдет брата. В этом кровавом хаосе. Обязательно найдет.
Глава 8. После первого боя
Рядовой Иван Ковалев сидел на дне окопа, прислонившись к холодной сырой земле. Его руки, покрытые слоем грязи и засохшей крови, дрожали. Он смотрел на эти руки, на свою шинель – порванную, грязную, пропитанную запахом пороха и чем-то ещё, липким и тошнотворным. Он был жив. Выжил. Чудом. Из тысячи, что пошли в атаку, вернулось меньше половины. Его рота… остатки роты.
Вокруг сидели такие же, как он, – выжившие. Бледные, молчаливые, с безумными глазами. Смотрели в пустоту, курили или просто сидели, обняв колени. Говорить не хотелось. Слов не было. Только гул в ушах от пережитого грохота и картинки перед глазами – бросок через полосу между окопами, где земля была перепахана смертью, падение Петра, лица немцев в рукопашной, кровь, грязь.
– Ну что, браток… – прохрипел кто-то рядом, тоже выживший, с разорванным рукавом шинели. – Теперь ты настоящий солдат. Обстрелянный.
Иван поднял на него глаза. Не сразу узнал. Лицо было чужим. Или он сам изменился?
– Петр… – тихо сказал Иван.
– Петр… всё, – отмахнулся тот. – Многих… всех… Я Веня…
Разговор затих, не успев начаться. Сидели, курили. Иван никогда не курил. Солдат рядом протянул ему самокрутку. Махорка, завернутая в газетную бумагу.
– На… Закури. Отпустит.
Иван взял сигарету дрожащей рукой. Неумело прикурил от огонька, который дал солдат. Вдохнул едкий, горький дым. Закашлялся. Но не отдал. Сделал еще затяжку. Дым обжег горло, но вместе с тем… притупил что-то. Мысли стали не такими острыми. Боль – не такой сильной.
Он курил, глядя на свои грязные сапоги, на комья земли, прилипшие к шинели. Иван сам стал частью земли. Стал грязью. Он выжил в том первом, страшном бою. Пересёк полосу, где земля была пропитана кровью, и вернулся обратно. Увидел смерть лицом к лицу и не отступил (хотя и пришлось бежать). Но цена была чудовищной. Рота уничтожена. Товарищи мертвы. А внутри – пустота. Ни страха. Ни боли. Только усталость и желание, чтобы всё исчезло.
Прошло несколько дней. Роту пополнили новыми людьми – такими же зелёными, как и он сам два месяца назад. Они смотрели на «старых» солдат с робостью и любопытством. На их лицах ещё не было этой окопной печати. Иван смотрел на них и узнавал себя прежнего – того наивного парня, который рвался в бой. Жалость и какая-то холодная отстранённость.
Пришел приказ – написать письма родным. Коротко, без подробностей. Чтобы не сеять панику.
Иван достал из вещмешка бумагу, огрызок карандаша. Достал гармошку. Подержал в руках её. Тяжёлая. Немая. Убрал обратно на дно. Какая может быть музыка на войне? Здесь нет места для музыки. Сел писать. Что написать матери? «Здравствуйте, мама и папа. Жив, здоров. Служу»? После всего? После той полосы смерти, после Петра, после рукопашной?
Он начал писать, и слова сами ложились на бумагу. Горькие, тяжёлые.
«Здравствуйте, мама и папа. Пишет вам ваш сын Иван. Пока жив. Но здесь… здесь ад, мама. Настоящий ад. Земля вся перерыта, деревья сломаны. Люди мрут, как мухи. Был в атаке. Страшно, мама. Свистят пули, рвутся снаряды. Многих моих друзей убило. Петра убило, он хороший был. Земля вся в крови. Грязи по колено. Еда плохая. Холодно. Вши заедают. Война – это не то, о чём поют. Это просто бойня. Мясорубка. Непонятно, зачем всё это. Я не знаю, вернусь ли. Не ждите особо. Молитесь. За меня и за Колю. Где он, я не знаю. Но считайте, что это моё последнее слово».
Иван перечитал письмо. Слишком мрачно? Слишком честно? Но это правда. Единственная правда, которую он теперь знал. Он не мог написать, что всё хорошо. Это было бы ложью по отношению к тем мёртвым, что лежали там, на полосе смерти.
Свернул письмо. Передал фельдфебелю для отправки. Пусть знают правду. Пусть не живут иллюзиями. Пусть понимают, куда отправляют своих сыновей.
Впервые за долгое время он подумал о Николае. Где он? В каком полку? Жив ли? Или его тоже где-то «похоронили»? Найти брата… это было обещание матери. Но как искать в этом аду? В этой мясорубке? Кажется, это невозможно. Да и когда искать? Мысль мелькнула и утонула в общей усталости и пустоте. Сейчас главное – выжить самому.
Иван сидел в окопе и курил махорку, которую теперь всегда носил с собой. Он смотрел на полосу, где земля была пропитана смертью. Внутри было пусто. Он выжил. Но какой ценой?
В то же самое время на другом участке фронта прапорщик Николай Ковалёв из 10-го пехотного полка выходил из своего первого крупного боя. Он был невредим, но цена взятой позиции была страшной – почти весь его взвод погиб. Тридцать жизней за клочок земли. Фёдор, плотник. Егор, балагур с иконкой. Чувство вины и бессилия давило на него.
После боя, сидя в немецком блиндаже, ставшем их штабом, Николай думал о потерях. И о брате. Шестой пехотный полк. Ниточка, которая казалась слишком тонкой в этом кровавом тумане войны. Поиск брата стал его миссией.
Он продолжал искать информацию о брате. Не прямыми расспросами, которые давали лишь общие сведения и случайные пугающие совпадения (вроде Леонтия из Саратова), а внимательно слушая разговоры в штабе, в полковом медпункте, у обозов. Любое упоминание Шестого полка заставляло его напрячься. Николай узнал, что полк стоит на правом фланге фронта и что там идут тяжелые бои. Мясорубка. Иван там.
Прошло несколько дней после боя. Полк Николая стоял все также на занятых позициях. Жизнь вернулась в привычное русло, но потери зияли пустотами. Пополнение прибывало медленно. Николай командовал остатками взвода, приводил в порядок траншеи. Ужас пережитого боя не отступал, но его загнали глубоко внутрь.
Однажды вечером, когда сгущались сумерки и солдаты сновали по окопам, разнося ужин, начался внезапный сильный обстрел. Немецкая артиллерия ударила со всех стволов. Снаряды разрывались прямо в окопах, поднимая фонтаны земли, брёвна и человеческие тела.
Николай сидел в землянке с Игнатьевым и несколькими солдатами, ожидая свой снаряд. Взрыв! Блиндаж содрогнулся. С потолка посыпалась глина. Второй! Третий! Казалось, немцы бьют прямо по их участку.
– Крооооойся! – крикнул Игнатьев, падая на пол.
Николай тоже упал, закрыв голову руками. Оглушительный грохот. Вибрация земли. Запах взрывчатки, раскалённой стали. Вдруг – резкий, жгучий удар в ногу. Будто молотом ударили. Боль пронзила тело, острая, невыносимая.
Он вскрикнул. Попытался подняться, но нога не слушалась. Горячая липкая влага быстро растекалась по штанине.
– Господин прапорщик! – Игнатьев подполз к нему, его лицо было испуганным. – Ранен!
Быстро, деловито разорвал штанину, осмотрел рану. Осколочное ранение. Сильное кровотечение.
– Санитара! – крикнул Игнатьев.
Они наскоро, туго перевязали ему ногу. Боль была адской. Николай чувствовал, как слабеет. Его пытались поднять, но он не мог встать.
– Носилки!
Взрыв. Еще один. Земля дрожит. Крики раненых рядом. Наконец-то санитары. Два здоровенных солдата с окровавленными бинтами на рукавах. Осторожно погрузили его на носилки.
– В тыл, быстро! – приказал Игнатьев. – Офицер!
Его понесли по окопу. Его трясло. Боль отдавалась в каждой клеточке тела. Мимо мелькали лица солдат – встревоженные, сочувствующие. Добрались до полкового медпункта. Уже знакомый запах йода и крови, но теперь он воспринимался совсем иначе. Стоны раненых сливались в один сплошной хор страданий. Уставшие врачи и фельдшеры работали без перерыва. Его быстро осмотрели.
– Осколочное ранение, раздроблена голень. Сильное кровотечение. Необходима операция. Срочно в тыл!
Перевязка. Острая боль при каждом движении. Его погрузили в санитарную повозку. Трясло еще сильнее. Дорога казалась бесконечной.
В санитарном поезде, лёжа на койке в душном вагоне среди других раненых, Николай чувствовал, как его покидают силы. Боль накатывала волнами, сознание путалось. Он думал о своих солдатах, оставшихся там. Об Игнатьеве. Выживет ли он? Думал о Фёдоре и Егоре, похороненных наспех. И думал об Иване. Шестой пехотный полк. Правый фланг. Мясорубка. Он уезжал с фронта. Раненый. А брат оставался там. Совсем один. Он не выполнил обещание, данное матери. Не нашел.
В госпитале, в тишине послеоперационной палаты, когда жар и боль немного отступили, он попросил бумагу и карандаш. Нужно было написать домой. Написать матери. Что написать? Правду? О крови, о грязи, о мертвых людях, о ранении, о том, что не нашел Ивана? Нет. Нельзя пугать мать. Он начал писать, стараясь выводить аккуратные, ровные буквы:
«Здравствуйте, мама и папа. Пишет вам ваш сын, Николай. Жив, здоров. Ранен, но не тяжело, скоро поправлюсь. Нахожусь в госпитале, здесь тихо. Наш полк крепко стоит. Немцев потихоньку гоним. Бои идут, конечно, но мы держимся. Не беспокойтесь обо мне. Все хорошо».
И про Ивана… Что написать про Ивана? Что он, возможно, в Шестом полку на правом фланге, где мясорубка? Нет.
«Про Ивана пока ничего не знаю, – написал он. – Армия большая. Но я его ищу. Обязательно найду».
Он перечитал письмо. Ложь. Почти каждое слово – ложь. Он нездоров. Тяжело ранен. Немцев не гонят, а стоят в грязи окопов и мрут десятками тысяч. Бои – не просто «идут», а это ад на земле. Про Ивана – ничего не знает, кроме адреса его ада.
Но Николай не мог написать правду. Это было его бременем. Бременем офицера. Бременем сына. Сохранить спокойствие тех, кто ждёт дома. Сохранить их надежду, даже если у него самого её почти не осталось. Он свернул письмо. Запечатал. Передал сестре милосердия для отправки.
Лежал в тишине палаты. За окном – мирная жизнь тылового города. Здесь не пахнет тленом. Не слышно грохота. Но в его сознании – всё ещё фронт. Лица мёртвых солдат. Лицо Егора с иконкой. Лицо Ивана – где он? Жив ли?
Глава 9. Битва при Лодзи
Осень 1914 года. Земля Польши, окутанная серой пеленой дождей и туманов. Шестой пехотный полк, в котором служил рядовой Иван Ковалев, оказался в самом сердце грандиозного, запутанного сражения – битвы при Лодзи. Это была не окопная позиционная война, к которой Иван уже привык, а стремительное, хаотичное движение армий, попытки окружения, прорывы и отчаянные бои в лесах и на болотистых равнинах.
Дни слились в бесконечный, изматывающий марш. Шли по размытым дорогам, превратившимся в сплошное месиво из грязи и воды. Грязь налипала на сапоги, шинели, винтовки. Шли по пояс в этой вязкой жиже, под холодным осенним дождём, который пробирал до костей, не оставляя ни единого сухого места. Шинели промокли, налипли грязью, стали неподъемными, словно свинцовыми. Ноги болели от постоянного напряжения, каждый шаг давался с трудом. Но они шли, не останавливаясь, потому что приказ был идти.
Мимо проносились картины войны, врезавшиеся в память: разрушенные города и деревни, превратившиеся в дымящиеся руины, где торчали лишь печные трубы и обломки стен. Покосившиеся заборы, разбросанные вещи, убитые животные. По дорогам двигались обозы, застрявшие в грязи, лошади хрипели, выбиваясь из сил. Отступающие части, их лица были покрыты слоем усталости и отчаяния. И толпы беженцев, бредущих вдоль дорог с узлами, с детьми, закутанными в рваные платки, – их испуганные глаза, полные немого вопроса, преследовали Ивана даже во сне. Напряжение висело в воздухе, тяжёлое, как низкое небо, полное свинцовых туч, готовых в любой момент разразиться новым дождём или артиллерийским огнём.
В какой-то момент их полк, следуя приказу, углубился в лес. Густой, тёмный, сырой. Он казался живым, враждебным. Деревья стояли стеной, их кроны переплетались, не пропуская свет, создавая полумрак даже днём. Под ногами чавкала грязь, хрустели ветки, пахло прелой листвой и сыростью. Каждая тень, каждый шорох могли быть врагом, каждое дерево – засадой. Продвигались медленно, осторожно, вслушиваясь в звуки – свои шаги, дыхание соседей, стук сердца в груди и тревожную тишину впереди, которая в любой момент могла взорваться выстрелами. Где-то далеко, а иногда и совсем рядом, постоянно слышались выстрелы, короткие, резкие перестрелки, иногда – глухой, давящий грохот артиллерии, раскатывающийся по земле. Фронт здесь был не линией, не стеной, а пунктиром, рассыпанным среди деревьев, где свои и чужие могли оказаться за соседними стволами, не подозревая о присутствии друг друга до последнего мгновения.
Один из таких дней, в середине ноября, врезался в память Ивана с особенной, жуткой ясностью. Их роте, шедшей в авангарде батальона, было приказано занять перекрёсток лесных дорог – небольшой, но важный пункт, ключ к дальнейшему продвижению. Шли цепью, растянувшись среди деревьев, вглядываясь в сумрак между стволами, готовые к любому повороту событий. Винтовки были наготове. Пальцы сжимали холодное дерево приклада. Воздух был неподвижен, только капли падали с веток, и сердце тяжело и быстро стучало в груди, предчувствуя что-то страшное.
Внезапно раздались выстрелы. Близко. Очень близко. Сразу, без предупреждения, из темноты леса. Ударили немецкие пулемёты, их стрекот был резким, злым, пронзительным, не таким привычным, как рокот окопанных «Максимов». Пули свистели, как разъярённые осы, рвали ветки, отбивали куски коры от стволов деревьев с сухим, глухим стуком, словно кто-то бил молотком по дереву. Земля под ногами вздымалась фонтанами от взрывов мин, разбрасывая вокруг комья мёрзлой земли, хвою и грязь.
– Ложись! – крикнул офицер, его голос был едва слышен сквозь грохот.
Иван упал в грязь, плашмя, уткнувшись лицом в сырую землю, обняв винтовку, как единственную защиту. Сердце бешено колотилось в ушах, кровь стучала в висках. Он слышал крики раненых, стоны, предсмертные хрипы тех, кого пули настигли первыми. Люди падали вокруг него, как подкошенные косой, – один рядом, другой чуть дальше, третий – сзади. Он видел, как человек рядом с ним, совсем молодой, с нелепыми усами, подпрыгнул, закричал и рухнул, неестественно подогнув ноги. Его лицо, ещё минуту назад живое, уткнулось в хвою и грязь, застыв в маске ужаса.
Обстрел был шквальным, беспощадным. Казалось, немцы видят их всех как на ладони, хотя в этом лесном сумраке, окутанном пороховым дымом и туманом, ничего нельзя было разобрать. Лежать в грязи и ждать… Самое тяжёлое – это ждать под обстрелом, когда ничего не можешь сделать, только чувствуешь, как каждая секунда тянется целую вечность, и думаешь только о том, чтобы следующая пуля, следующий осколок не нашли тебя. Страх пронизывал до костей, парализуя, но где-то глубоко внутри уже сидела готовность действовать.
Потом – команда.
– Вперёд! В атаку!
Снова крик, призывающий подняться с этого места, которое казалось спасением, и снова броситься под огонь.
Поднялись, тяжело, неохотно. Тела были непослушными, словно налитыми свинцом. Бежали. Сквозь деревья, сквозь кусты, сквозь этот безумный пулемётный огонь. Спотыкались о поваленные стволы, падали, поднимались. Стреляли на бегу, не целясь, просто в сторону мелькающих между деревьями серых фигур противника. Слышали позади крики офицеров.
– За мной! За Царя! – но эти крики тонули в общем шуме.
Бой завязался в глубине леса. Всё смешалось – свои и чужие. Неразбериха. Вязкая, грязная, кровавая. Не было строя, не было плана. Только столкновение живых тел, вооружённых железом. Штыки, приклады, крики. Иван видел перед собой лицо немца, молодого, с тонкими усиками, с испуганными глазами. Их взгляды на мгновение встретились, и в этом взгляде было столько же ужаса, сколько и в глазах Ивана. Удар штыком – он чувствовал, как штык входит во что-то мягкое, как хрустят кости. Немец захрипел, повалился на бок, его винтовка упала в грязь. Ещё одно лицо исчезло из этого мира. Кровь на штыке, на руках, на шинели. Запах – острый, металлический, смешанный с запахом пороха и сырой земли. Пошёл дальше. Нельзя останавливаться. Нельзя думать. Только вперёд.
Схватка продолжалась. Ветви хлестали по лицу, ноги скользили в грязи, увязали в лужах. Рядом падал товарищ, его крик внезапно обрывался.
– Братцы! Обходим с фланга! – Раздался крик сзади.
Кто-то звал на помощь. Бой превратился в серию коротких отчаянных стычек среди деревьев, в кустах, за поваленными стволами. Он колол штыком, бил прикладом. Иван видел врагов в серо-голубых мундирах, в остроконечных касках – таких же уставших, напуганных, отчаявшихся. Но они были врагами.
Они прорвались через одну линию немецкой обороны, через вторую. Захватили несколько землянок – наспех вырытых, пахнущих кислым, с брошенными винтовками и пустыми гильзами, с телами убитых. Бой не прекращался. Он шёл вокруг них, накатывал волнами, то приближаясь, то удаляясь. Казалось, что немцы повсюду, выскакивают из-за каждого дерева, из-за каждого куста.
К вечеру их изрядно поредевшая рота заняла какой-то рубеж у опушки леса, перед болотом. Остановились. Упали, тяжело дыша, в спешно вырытые окопы, вжавшись в холодную землю. Рядом – выжившие. Десяток из сотни, что шли утром. Может, полтора десятка. Все грязные, измождённые, с пустыми глазами, в которых застыл пережитый ужас. Потери чудовищные. Вокруг – тела. Свои и австрийцы, немцы. Перепутаны. Лежат в нелепых, неестественных позах, уткнувшись лицом в грязь или глядя в небо, не видя его.
Иван сидел, прислонившись к стволу поваленного дерева. Руки дрожали не переставая, словно их бил озноб. Шинель была вся в грязи, в крови, в дырах от пуль и осколков. Лицо тоже было в запекшейся грязи, смешанной с кровью. Он поднял руки, посмотрел на них. Не свои. Чужие. Похожие на лапы животного, покрытые грязью и кровью. Руки убийцы.
– Отбились… – прохрипел кто-то рядом, и его голос был похож на скрежет металла по камню.
– Надолго ли… – ответил другой, сплевывая кровь с разбитой губы на землю.
Тишина после боя была давящей, наполненной только стонами раненых. Своих, чужих. Они звали на помощь, молили о воде. Никто не мог помочь им сразу. Санитаров было мало. Они ползали где-то там, среди деревьев, пытаясь найти выживших, перевязать их, дотащить до медпункта, если он вообще был где-то рядом.
Прошло ещё несколько дней таких боёв. Битва при Лодзи продолжалась. Атака сменялась обороной. Оборона – контратакой. Передвигались взад-вперёд по этому кровавому полю, по лесам, по болотам. Вязли в грязи, мёрзли под дождём, голодали, страдали от жажды. Постоянные стычки, засады, внезапные обстрелы. Ночные бои, когда стреляешь на звук, на вспышку выстрела, не видя противника. Они спали в окопах, вырытых в земле, наполненной водой, просыпаясь от холода или криков ужаса.
Однажды их батальон, или то, что от него осталось, попал в окружение. Неожиданно. Просто в какой-то момент они поняли, что немцы – спереди, сзади и по бокам. Полковые связисты пропали. Офицеры были растеряны. Полк попал в «котёл». Это было страшнее всего. Ощущение ловушки. Смертельной ловушки. Замкнутого круга ада, из которого, казалось, нет выхода.
Бой шёл почти без перерыва. Дни и ночи слились в один сплошной кошмар. Не хватало патронов – собирали у убитых, у раненых, у брошенных винтовок. Снаряды русской артиллерии не долетали или падали не туда. Еды почти не было – грызли сырые корни, кору деревьев, искали ягоды. Вода – только дождевая, из луж, мутная, вонючая. Спали в грязи, под дождём, поедаемые вшами, которых, казалось, стало в десятки раз больше. Раненых не уносили. Они лежали рядом, их стоны сводили с ума, запах гноя и смерти окутывал всё вокруг, становился частью воздуха.
Прорывались из окружения. Не всем полком сразу. Отдельными частями. Небольшими группами. Кто как мог. Бросали тяжелое вооружение – пулемёты, миномёты, обозы – чтобы идти быстрее, чтобы получить шанс. Шли напролом, сквозь немецкие порядки, сквозь огонь. Снова бой – отчаянный, на последнем издыхании, бой за выживание. Штыки, приклады, крики, выстрелы в упор. Бежали через лес, через болото, увязая в трясине, цепляясь за коряги. Теряли людей на каждом шагу – кто от пули, кто от истощения, кто тонул в болоте. Кто-то сдавался в плен – целыми подразделениями, офицеры и солдаты вместе, обессиленные, потерявшие всякую надежду. Иван видел их лица – пустые, покорные судьбе, их вели под конвоем, и они даже не сопротивлялись.
Иван не мог сдаться. В голове было только одно: выбраться. Добраться до своих. Бежать. Ползти. Идти вперед. Не останавливаться. Как загнанный зверь, который ищет лазейку, чтобы вырваться из капкана.
Пробирался через лес с группой таких же, как он, – измождённых, грязных, обезумевших. Пять человек. Из роты, из батальона… Просто те, кто оказался рядом в тот момент, кто мог двигаться. Шли несколько суток, питаясь тем, что находили в лесу, – корнями, грибами, если везло. Натыкались на немцев, натыкались на своих. Снова короткие жестокие стычки.
Они вышли. Пять человек. К своим. К остаткам своей армии, которые держали фронт. Их встретили с удивлением – они уже не ждали. Они слились с другими частями, пополнив их ряды. Снова пополнение.
Битва при Лодзи. Для Ивана это не манёвры армий, не победы и поражения на карте. Это бесконечный, непрекращающийся ужас лесных боёв. Это грязь, пронизывающий холод, голод, жажда. Это мёртвые, лежащие под деревьями, утонувшие в болотах. Это кровь – своя и чужая – пропитавшая землю. Это ощущение себя песчинкой, которую бросает из стороны в сторону в безумном водовороте. Это осознание того, что человеческая жизнь здесь ничего не значит. Просто материал для этой чудовищной машины войны.
Он стал другим. Совсем другим. Взгляд потух. Лицо стало жёстким, покрылось сеткой преждевременных морщин, стало похоже на лицо старика. В глазах застыла глухая боль и безразличие ко всему, кроме выживания. Перестал думать о чём-либо, кроме следующего шага, следующей минуты. Осталось только одно – выжить. И глухая, давящая ненависть. Ко всему этому. К войне. К немцам. К австрийцам. К своим офицерам, которые гнали их в этот ад. К миру, который это допустил.
Гармошка в вещмешке молчала. Она лежала там, тяжелым напоминанием о другом мире, который теперь казался не просто далеким, а уничтоженным. Его больше нет. Есть только этот ад. И желание выжить. Любой ценой.
Иногда, в редкие минуты затишья, когда сознание не было занято только выживанием, он думал о брате. Где Николай? Погиб? Жив ли он? А может, тоже где-то сейчас лежит в болоте и мерзнет? Нет. Скорее погиб. Если был бы жив, то нашел бы его. Он офицер, у него больше возможностей. Значит, погиб, так же в таких же лесах. Как и умерла вера во всё хорошее у Ивана.
Глава 10. Зима 1915 года
Тишина тылового госпиталя в большом городе казалась Николаю непривычной и даже пугающей после месяцев, проведённых под грохот канонады. Боль от осколочного ранения в ногу постепенно утихала, кость срасталась, но каждое движение отзывалось тупой болью, особенно на перемену погоды. Он заново учился ходить, чувствуя себя неуклюжим и слабым. Госпиталь был переполнен ранеными – средоточием боли и надежды. В палатах для офицеров было немного просторнее и тише, но стоны из соседних палат для нижних чинов всё равно доносились, напоминая о непрекращающейся бойне.
Николай проводил дни, читая газеты и разговаривая с другими ранеными офицерами. Узнавал новости с разных участков фронта. Битва при Лодзи… о ней много говорили шёпотом – о чудовищных потерях, о «котлах», о чудом выживших. Услышав о Лодзи, Николай всякий раз напрягался, думая об Иване. Шестой пехотный полк… где-то там, в этом аду, который газеты называли стратегическим манёвром.
Мысль о брате не давала покоя. Поиски в госпитале были ограничены. Можно было только расспрашивать офицеров и сестёр милосердия, с каких фронтов прибывают раненые, не слышали ли они о Шестом полку. Иногда удавалось увидеть списки прибывших, но это были списки раненых, а не живых. Надежда найти его среди живых была так же мала, как найти в окопах цветок.
К декабрю, когда рана почти затянулась, пришло время выписки. Врачи признали его годным к строевой службе. Ждать назначения не пришлось. Офицерский состав был нужен на фронте постоянно. Его направили в новый полк, который формировался в тылу для отправки на фронт. Десятый пехотный полк, его прежний полк, скорее всего, уже пополнился и стоял на другом участке.
Путь на фронт зимой 1915 года был суровым. Мороз, снег, пронизывающий ветер. Эшелоны двигались медленно. Вагоны промерзали насквозь. Снова дорога, отделяющая от мира, в котором можно было просто жить.
Новый полк прибыл на Северный фронт в январе 1915 года. Другой участок, другие пейзажи – заснеженные леса, замёрзшие болота. Холод пробирал до костей. Казалось, что сам воздух замёрз, хрустел под ногами и царапал лёгкие.
Николай получил новую роту, новый взвод. Люди были в основном из пополнения, необстрелянные. Старых окопников, прошедших осень 1914 года, было мало, но они были золотым фондом – опытными, циничными, знающими, как выжить. Старшим унтер-офицером назначили Фёдора Степановича – невысокого, коренастого, с редкими седыми усами и глазами, в которых застыла вековая крестьянская мудрость и немой укор судьбе. Он говорил мало, но каждое его слово было весомым.
Во взводе ему запомнилось сразу несколько лиц. Василий Григорьевич – пожилой солдат, уже немолодой, с изрезанным морщинами лицом и огромными, сильными, как у медведя, руками. Он прошёл Русско-японскую войну, был из запаса первой очереди. Его знали за спокойствие и умение обустроить быт в любых условиях – найти сухие ветки, выкопать землянку быстрее всех. И Михаил Сидоров – совсем молодой парень, с веснушчатым лицом и наивными, широко раскрытыми глазами, но удивительно храбрый и исполнительный. Он постоянно что-то терял – то ложку, то платок, но винтовку держал крепко и беспрекословно подчинялся приказам.
Окопы на новом участке выглядели иначе, чем в Галиции или Польше. Снег скрывал грязь, делал их чище на вид, но холод пробирал сильнее. Приходилось постоянно бороться с морозом, строить блиндажи глубже, утеплять их снегом и ветками, разводить костры под землёй, рискуя задохнуться от дыма.
Первые недели – привыкание. Изучение нового участка, знакомство с людьми. Зима на фронте – это не только бои, но и борьба со стихией. Обморожения были так же опасны, как и пули.
Николай, несмотря на недавнее ранение (нога ещё ныла на погоду), полностью погрузился в службу. Опыт, полученный осенью, сделал его более жёстким, более прагматичным. Он знал цену жизни, знал, что такое ответственность. Он заботился о своих солдатах – следил за тем, чтобы они были хорошо укутаны, чтобы в блиндажах был огонь, чтобы пайки выдавались полностью, чтобы сапоги просушивались. Он не давал пустых обещаний, не говорил красивых слов, просто делал то, что должен был делать командир.
Их полк готовили к наступлению. Цель – господствующая высота на фланге. Невысокий холм, но с его вершины просматривался весь участок, и пулемёты могли контролировать большую территорию. Взятие этой высоты было ключом к успеху всей атаки полка. Взвод Николая был в передовом эшелоне – одним из первых, кто должен был штурмовать холм. Накануне атаки полковой разведчик доложил, что немецкий фланг на этой высоте укреплён слабее, чем центр, и что у подножия холма есть неглубокий овраг, по которому можно незаметно подойти почти вплотную.
Атака была назначена на предрассветные сумерки – время, когда видимость минимальна, а нервы на пределе. Морозный воздух прорезали первые, ещё редкие выстрелы.
– Пошли, братцы, – тихо сказал Николай, проверяя затвор винтовки.
Они двинулись вперёд, стараясь слиться с тающими тенями. Шли по глубокому снегу, по оврагу. Дыхание замерзало на усах и воротниках. Каждый шаг давался с трудом, снег скрипел под ногами. Он был их врагом и союзником – замедлял, но и приглушал звуки, делал фигуры менее чёткими. Пули свистели над головой, рикошетя от замёрзшей земли, но овраг давал некоторое укрытие. Николай шёл впереди, внимательно вглядываясь в серую пелену. Василий Григорьевич тяжело, но уверенно ступал следом. Михаил Сидоров, бледный, шёл за ним, винтовка дрожала в его руках.
Добрались до подножия высоты. Залегли, отстреливаясь от редких вспышек огня сверху. Немцы явно не ожидали атаки именно здесь.
– Федя! Часть людей со мной! Взять блиндаж на вершине! Остальные – прикрыть! – Николай указывал направление, его голос был твёрд.
Поднялись. Рывок вверх по склону, сквозь снег и тонкие ряды колючей проволоки, которую немцы здесь даже не удосужились как следует натянуть. Спотыкались о кочки, падали в снег, поднимались. Стреляли на бегу.
Ворвались в немецкие окопы на вершине. Короткий, яростный бой в снегу. Штыки, лопаты, приклады. Мороз сковывал движения, а снег скрывал ямы и препятствия. Это был хаос ближнего боя.
Николай столкнулся с высоким немцем в снегу. Удар прикладом – немец упал. Рядом, у входа в блиндаж, Михаил Сидоров с криком набросился на другого немца. Ударил штыком. Немец захрипел, упал. Михаил отскочил, винтовка выпала из рук, он стоял, глядя на свои трясущиеся руки, на пятно крови на белом снегу, и его лицо было белым от ужаса, глаза широко раскрыты. Это было его первое убийство. Он дрожал не от холода, а от потрясения.
– Сидоров! К оружию! – резкий окрик Фёдора Степановича вывел Михаила из ступора.
Унтер-офицер уже деловито осматривал трофейный пулемёт, брошенный немцами. Василий Григорьевич, как будто это было самое обычное дело, вытащил тело убитого немца из-за пулемётной станины.
Высоту взяли быстро. Потери были, но не такие страшные, как могли бы быть при лобовом штурме. Тактическая грамотность Николая, внезапность атаки на слабом фланге и использование оврага для прикрытия сработали.
Нужно было закрепиться. Быстро, пока не началась контратака. Обустраивали захваченные позиции для поддержки своих огнем. Фёдор Степанович наладил трофейный «Максим».
Успех их атаки на высоту позволил основным силам полка начать наступление на более подготовленные позиции немцев. Тем временем на захваченный холм обрушились немецкие контратаки. Одна за другой. Трижды. Немцы хотели вернуть себе ключ к обороне.
Первая контратака – под прикрытием артиллерии. Свист снарядов, разрывы, дрожащая земля. Потом – немецкая пехота, цепью по снегу, пытается взобраться на холм.
– Огонь! Отсечь! – кричал Николай, стреляя из винтовки.
Стреляли всем взводом. Пулемёт Фёдора Степановича бил без перерыва, поливая склон свинцом. Трассирующие пули чертили огненные линии в предрассветном сумраке. Василий Григорьевич метко бросал гранаты, которые взрывались, поднимая снежные фонтаны. Михаил Сидоров, прижавшись к снежному брустверу, лихорадочно перезаряжал винтовку, его лицо всё ещё было бледным, но глаза горели решимостью.
Отбились. Немцы отступили, оставив в снегу десятки тел – тёмные пятна на белом.
Вторая контратака. Более яростная. Немцы наступали плотным строем, выкрикивая что-то по-своему, злобно.
– Держаться, братцы! Сдадим высоту, погибнут наши братья! – голос Николая сорвался, но он стоял на бруствере, подавая пример, с винтовкой в руке.
На этот раз дело дошло до рукопашной на склоне и у самых окопов. Отчаянный бой в снегу. Винтовки как дубинки, штыки. Снег становился красным. Василий Григорьевич, отбросив лопату, вступил в схватку сразу с двумя немцами – его огромные руки крушили черепа, он действовал с первобытной яростью. Михаил Сидоров, преодолев первый ужас, дрался теперь как дикий зверь, нанося удары штыком снова и снова, его лицо было перекошено гримасой ненависти и страха.
