Чаепитие с попугаем
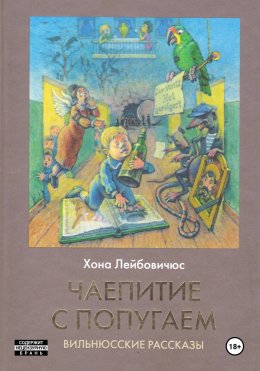
От автора
Дорогой читатель!
Представляемая вашему взору книга содержит 16 произведений словесности, которые можно квалифицировать по-разному. Рассказ, притча, фэнтези и, не побоюсь этого слова, эссе – литературные ярлыки, которыми читатель, если на то ему будет охота, пометит их сам. Я же обозначу общие признаки, которые объединяют представленные на суд читателя тексты. Прежде всего это город Вильнюс (Вильнюсские рассказы), на фоне которого или непосредственно в нём происходит повествование хронологически ведущее сквозь время 1950 – 1991 гг.. Далее общее название «Чаепитие с попугаем», где фигура попугая Маврикия как бы осуществляет связзь времён и символизирует несломленный и нерастраченный в изгнании еврейский дух. И, наконец, сам автор – ваш покорный слуга, под разными именами ведущий повествование от первого лица или представляющий себя читателю в третьем лице.
Вильнюсские рассказы являются частью моего литературного творчества, написанного в интервале 2016 – 2020 годов. Отнюдь не ставил перед собой целью писательство, никогда никак себя к нему не готовил и не был умудрён каким-либо собственным литературным опытом. Всё произошло совершенно спонтанно и в один день; на семьдесят первом году жизни выплеснулось «на бумагу» первым рассказом – «Чаепитие с попугаем». Первые несколько месяцев не знал, что с этим делать, но во мне зрели уже гроздья образов и картины воспоминаний, и пришло безотчётное, как инстинкт, страстное стремление писать. Прожитая до того жизнь явственно и отчётливо всплывала предо мной, как кино, и я стал обдумывать этот видеоряд и облекать его в слова. Пишу о том, что лично пришлось мне увидеть и пережить, и что досталось мне с родительским воспитанием и любовью к чтению.
Мне выпал счастливый жребий родиться в Вильнюсе. В этом неповторимом и изумитеьном городе проходило моё детство и юность. В городе полном детских непознанных тайн и чудесных открытий, юношеского самоутверждения и неожиданностей судьбы … И, будучи ребёнком непоседливым и весьма любопытным, я излазил его древние камни, проникал в его потаённые места, видел много разноязыких людей, слушал их речи и, получив от родителей в наследство хорошую память и склонность к образному мышлению, мне удалось сохранить это разнообразное богатство впечатлений ушедшей в прошлое жизни и принести их в сегодня. Я говорю «ушедшей в прошлое» потому, что одна из ярчайших страниц этой жизни жестоко вырвана из нашего многоликого города. Это еврейская жизнь, в кипящей пучине которой я помню чудом выживших в военное лихолетье людей и себя самого с трёхлетнего возраста. И сегодня редкая тишина старых улочек и гулких подворотен, как бы шёпотом доносят до моих ушей ту когда-то повсеместно звучавшую еврейскую речь, «маме-лошн», когда ступаю по их камням, ставшим частью меня самого. Кому-то из моих читателей книга навеет воспоминания, ассоциации и даже дежавю, другим даст некое представление о существовавшей былой незнакомой жизни, обстоятельствами и властями безжалостно вырванной из живого городского контекста.
Вместе с тем, я не считаю свои тексты мемуарами или воспоминаниями, но явлением собственно художественной литературы, хотя изложенное в них по существу не грешит против былых и возможных реалий даже там, где повествование порой переходит в область фантазий.
Ваш Хона Лейбовичюс
Чаепитие с попугаем
Сегодня, 15 августа 2016 г., в святый праздник – Благостный день Вознесения Девы Марии, c самого утра на дворе стояла тёплая солнечная погода, как, впрочем, и всегда в дни христианских праздников. По небу плыли аккуратные, будто вырезанные из текста белой книжной страницы, облака, подталкиваемые лёгким дуновением неспешного ветерка, который, подобно пальцу, уже занесён и готов перевернуть страницу, но глаза ещё годят, доглядывают.
Мы молча пили на балконе зелёный чай с восточными сладостями, и ничто не нарушало покой и тишину безмятежного утра. Стая больших чёрных ворон с шумом крыл и карканьем опустилась на растущие под балконом-лоджией белоствольные раскидистые берёзы. «Ну, раскаркались», – возмутилась было Елена, и… вороны замолкли. Лишь одна из них продолжила свою гортанную эскападу, да так выразительно и отчётливо, словно что-то рассказывала внимательно слушавшим её товаркам. Само по себе появление под окнами стаи ворон в обычных обстоятельствах лишь сиюминутно привлекло бы наше внимание, но сейчас поразило тем, что вся группа была иссиня-черна, и каждая особь превосходила, пожалуй, в два-три раза обычную. Сейчас же что-то трансцендентное в их поведении захватывало нас своими щупальцами, какая-то потусторонняя загадочная магия заставляла нас настороженно поглядывать, даже невольно задерживать внимание. Под разлившийся звон колоколов вороны замолкли, позволив нам с Еленой обменяться взглядами, выражавшими неожиданную исключительность впечатлений.
Уже отзвонили колокола, зовущие к утренней молитве, уже и сама молитва подошла к концу, и прихожане, выйдя из храмов, разменяли монотонность и скучную сосредоточенность церковной службы на радость встреч и живость общения. Попугай Маврикий тоже исполнил свой ритуал, прокричал, как обычно, свои утренние кличи, завершив латинским «Vox populi vox dei»1, и теперь молча наслаждался ласковым теплом и свежестью утра. По-видимому, мудрая птица ушла, углубилась в свои мысли, время от времени пощипывая и подчищая свой экзотический наряд, и поначалу не отвлекалась на «гримасы» окружающего мира: карканье ворон, колокольный звон…
Маврикий достался мне в наследство по мужской линии от прапрапрапрадеда реб Элиягу бен Эльханаана бен Рахмила ибн Лейба, служившего раввином в местечке Обяляй (Абел, лит. Obeliai) в Литве. Попугая привёз в Литву из Толедо через голландский Роттердам отец реб’а Элиягу. Пребывая там, в Толедо, на перекрёстке религий, цивилизаций и культур, Маврикий усвоил множество языков и впоследствии к ним добавил кое-что из окрестных «мов». Следует отметить, что Маврикий – отпрыск древнего Александрийского учёного попугая2 по имени Платон. Платон был куплен в ХIV веке на одном из невольничьих рынков Каффы3 у генуэзского купца и привезен в Толедо, о чём свидетельствовал список с «Родословного Сертификата», выданный Маврикию отделом ЗАГС Толедского Горисполкома и изъятый в 1943 г. перед боем на Курской дуге у моего отца Элиягу Лейбовичюса политотделом 16-й Литовской дивизии как космополитический атрибут. Собственно, сам «Родословный сертификат» (прилагался генуэзским купцом к товару) указывал на то, что предки Платона впервые попали в Европу с людьми Александра Македонского4 после его индийских походов. Однако, сей важный документ был то ли утерян в Роттердаме во время пожара 1563 г., или же в 1572 г. пропал во время разграбления города испанцами. При тех же трагических обстоятельствах погибли оба родителя Маврикия. Одной из пикантных «фишек» платоновой наследственной памяти было конское ржанье, которым наш попугай венчал свою победу, торжество и восторг – несомненное последствие дружбы с Буцефалом5.
Родительница же Маврикия – попугайчиха-амазонка6 Изабелла в юном возрасте была привезена людьми Кортеса7 из теночтитланской8 сокровищницы Монтесумы9 вместе с первой партией какао. Она не прижилась в доме основателя и хозяина первой в Европе мануфактуры какао города Обидуш10 сеньора Филипе Гимарайнш да Кошта Вашку ди Камойнш, родственника великого поэта Камоэнса11 и мореплавателя Васко да Гамы12. Юная Изабелла, обладавшая капризным, беспокойным и непоседливым нравом, покинула дом сеньора, но вскоре была поймана птицеловом в Толедо и передана людям Торквемады13 за то, что при поимке выкрикивала всякие неблагодозволенные лозунги, в которых угадывалось влияние крамольных настроений свободолюбивого семейства сеньора, и птицелов почувствовал было наживу. Инквизиционный трибунал опознал беглянку по метке, но был занят еврейскими делами, сулившими неизмеримо большие выгоды, и, учитывая высокий авторитет и влияние знатной семьи сеньора, решил не ввязываться, но выдал птицелову мандат на взыскание с семьи сеньора Филипе выкупа за пойманную беглянку. Птицелову, по его настоянию, была выдана бумага, скреплённая печатью и подписями трёх членов трибунала, которая была отправлена курьерской почтой в Обидуш. Однако оттуда последовало продолжительное молчание, и лишь после повторного письма пришёл ответ, в котором был заявлен вежливый отказ от беспокойной птицы за её ненадобностью, но без выражения сожалений о случившейся потере и вынужденном отказе. Видимо, в свою очередь, знание реалий и интуиция главы семейства подсказывали не впутываться далее…
Наконец, бедняжку Изабеллу, подвергнутую лишению свободы и заточённую в сырых и тёмных тюремных казематах инквизиции, измученную невниманием, нехваткой пищи и отсутствием дневного света, продали с молотка. Купил этот лот по просьбе своей жены – знатной дамы Донны Грации14, известный банкир марран дон Франсишку Мендеш Бенвениште15, который занимался также и торговлей драгоценностями, огранкой ювелирных камней, поставкой экзотических специй и пряностей. Донна Грация и подарила Изабеллу отцу реб’а Элиягу Эльханаану бен Рахмилу – большому любителю пернатых, талмудисту, полиглоту и великому знатоку еврейской мудрости, с которым в их детские годы жила по соседству в Лиссабоне на Руа Нова16. Подарок сей оказался как нельзя более кстати: ведь Изабелла и Платон составили неразлучную брачную пару и более всех, волею могущественных птицеликих богов Гаруды17 и Колаша18, пребывали в удовольствии.
Сведения о вырученных от продажи лота деньгах как-то не зафиксировались в моей памяти, будучи поведаны моим отцом в те далёкие советские времена, когда я не имел ни малейшего представления ни о какой валюте, окромя рубля, но знаю с его слов, что после продажи лота претензии птицелова были частично удовлетворены, ибо Центральный Комитет Католических Птицеловов Старого Света (ЦК КПСС) принципиально настаивал на том, что деятельность и, особенно, птицеловcкая бдительность непременно должны быть соответственно вознаграждены. Основная же сумма, что отражено в расходных документах Толедского Горисполкома, пошла на возмещение пропитых жирными армянскими и греческими монахами денежных средств, выделенных на ремонт больших центральных ворот Храма Гроба Господня во Иерусалиме, для того, чтобы ветер Иудейской Пустыни не задувал святой огонь, ежегодно добываемый седьмого января по традиции безо всяких подручных средств в кувуклии у Гроба Господня.
Волей-неволей, проведя столетия в Обяляй и, наконец, пережив там II Мировую войну у соседей многочисленного семейства Лейбовичюсов, из которого все, кроме моего отца, были невинно убиты (упоминаемыми в нашумевшей книге19 Руты Ванагайте) будущими «героями сопротивления», Маврикий дожил до наших дней. Говорили, что Маврикий всю войну промолчал, как и соседи, его приютившие, которые и поныне молчат, и настороженно глядят из чужих окон. Мой отец, Элиягу Лейбовичюс, ещё перед вероломным нападением Германии на миролюбивый и дружественный ей Советский Союз, уже жил в Каунасе и в 1941 году добровольцем ушёл на войну. Закончив воевать после четвертого ранения и лечения в английском госпитале под Калинином, вернулся в Литву и, навестив родные Обяляй, привёз оттуда единственное, что осталось от многочисленной, далеко не бедной семьи, – нашего славного попку Маврикия.
Вернемся, однако, к чаепитию и к воронам на раскидистых кронах белоствольных берёз. Время от времени пернатые своим карканьем перебивали монолог товарки, словно задавая вопросы или напоминая о чём-то. Возможно, то были возгласы одобрения, а может, напротив, реплики недовольства, хотя кто его знает, что в светлый праздничный день взбудоражило воронье сообщество. Однако в непонятном перекаркивании иногда звучали и как будто различались отдельные слова, напоминающие латинские либо греческие имена. Напрягая слух, мы ловили эти звуки, подражая услышанным, произносили: «Флавий… Ювеналий… Мария…». И, надо же, оказалось, пернатые обращались друг к другу по имени.
Маврикий, наконец, перешёл из внутреннего самопогружения в состояние сбора информации. Он заметил наше пристальное внимание на стороне и, в первую очередь, отсутствие этого внимания к себе и недовольно зацокал. Я перенёс насест к внешнему краю лоджии, попугай посмотрел вниз, вдруг застыл на жерди, будто оцепенев, и наклонил свою чубастую голову в направлении доносившейся до него вороньей беседы. «Дос из а ганце майсе», – неожиданно воскликнул Маврикий на идиш, полузабытом языке ашкенази, который нередко можно было слышать на улицах и площадях всех европейских столиц и во всех без исключения городках и местечках довоенной Восточной Европы.
На идиш в Европе говорили те невинно убиенные шесть миллионов человек; среди них была и семья, в которой родился и рос мой отец. Идиш – мой родной, мой первый язык, на котором ежедневно я общался с мамой, папой, бабушкой и соседями вплоть до сентября 1952 года, когда пошёл в школу и идиш стал постепенно вытесняться из меня русским. Этому вытеснению способствовали неловкость, смущение и стыдливость, в которые вгоняли нас, еврейских детей, дети «простых советских трудящихся» и специалистов, завезённых в Литву для внедрения в местное население дружбы народов и для развития местной советской индустрии. «По просьбе» тех же трудящихся-пролетариев, которые «соединились» с Литвой, в 1949 году в Вильнюсе была закрыта последняя еврейская школа на территории СССР. Местное население и без того не было осенено дружелюбием по отношению к нам, еврейским детям. Ощущалось это нами во дворах, в общении с местными соседскими детьми и ещё более уверенно звучало из уст детей «старшего брата» и хозяина новой жизни.
«Дос из а ганце майсе», – воскликнул Маврикий, что означает: «Это целая история», и повёл пересказ вороньей беседы с греческого диалекта вороньего на идиш, видимо, рассчитывая, что так будет недоступно для посторонних ушей, отпуская свои хриплые реплики, комментарии и снисходительно посмеиваясь. Недавняя, небольшая часть его долгой жизни пришлась на период становления и слома Империи. Вступление попугая произошло настолько неожиданно, что я не был готов записать дословно то, что в переводе донёс до нас Маврикий, и опасался пропустить что-либо в поисках бумаги и карандаша. Сейчас, вечером, вспоминая и осмысливая утренние птичьи речи, постараюсь передать на бумаге в русском изложении то, что Маврикий пересказал на идиш. Жаль только, что он, будучи занят внутренним созерцанием, начал пересказ не сразу, не от начала.
Наши вороны, небесные путники, вели разговор, вспоминая то, что видели и слышали они и их предшественники, передавшие потомкам свои наблюдения и молву людскую. Молва людская, что волна морская, катится по шарику, угасает, исчезает, вновь возникает дополненная, приукрашенная или утрачивает какие-то мелкие подробности, возможно, проливающие нежелательный свет. Нередко молва оживает, возникает спустя годы и века в местах далёких и вне той среды, в которой зародилась.
Ворон Флавий вёл свой рассказ. А вспоминал он передаваемую в его семье из поколения в поколение историю про то, как его далёкий предок Титус, всегда сопровождавший богов и героев, отдыхал от этой почётной обязанности в тени дерев Гефсиманского сада. Отдых достопочтенного и разлитое в воздухе спокойствие были нарушены воем и хохотом сбежавшихся гиен и шакалов. Твари божии осаждали небольшую пещерку, манившую их диковинным благоуханием, доступным исключительно их тонкому обонянию. Титус собрался было покинуть облюбованное место, как его внимание привлекла группа блаженных и юродивых, шествовавших с цветами и песнопениями к той же пещерке. Испуганные толпой приближающихся людей животные разбежались. Бесноватые иудеи, принявшие вой и хохот животных за пение ангелов, стали водить хороводы вокруг грота и посыпать его цветами. Осторожный Титус не стал себя обнаруживать, но продолжил дотемна скрытое наблюдение за мистерией и, посещая Гефсимань, в течение последующих двух дней созерцал непрекращавшийся хеппенинг. На третий день явился один озабоченный субъект, которого, как удалось Титусу расслышать сквозь вопли, шум и пение возросшего числом контингента бесноватых, звали Теома. Последний утверждал, что прибыл издалёка, и ещё в пути дошел до него слух о том, что третьего дня преставилась мать его наперсника и учителя Иешуа, некогда провозглашавшего себя пророком и царем иудейским и казненного за это по приговору римского суда. Настаивал, что тело её, погребённое в пещерке, похищено «под шумок» злокозненными иудеями, пока обезумевшие от горя последователи учителя священнодействовали: одни воскуривали травку, психодельничали, иные уже впали в нирвану. Недоверчивый Теома стал плакать подле камня, потребовал открыть пещерку. Далее произошло невероятное. Когда, отвалив камень, пещерку открыли, то пришли в ужас: тела там не было – остались одни только погребальные пелены. Контингент стоял в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшиеся погребальные покрова, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело.
Пока вороны обсуждали «евангелие от Флавия», Маврикий, хрипло посмеиваясь, отпустил совершенно неожиданный для еврейского уха комментарий: «Известное дело, жиды… На протяжении веков христианские апологеты кропотливо и досконально изучавшие их историю, религию, культуру и психологию, пришли к выводу, что если даже евреи кровь христианских младенцев в мацу и не кладут, то так или иначе они – евреи – злокозненны, ибо стремятся к овладению всем миром, к господству над землями и народами. Ну, а похищение Приснодевы, если не первое, то одно из первых и самых значительных еврейских злодеяний в цепи жидомасонского заговора, принесшего неисчислимые бедствия людям русским, и совершенно естественно, что именно передовая российская исследовательская мысль на стыке различных наук внесла в его разоблачение неоценимый вклад, что нашло блестящее отражение в «Протоколах Сионских Мудрецов»20.
Затем Флавий, как мы узнали из пересказа Маврикия, передал праздничную эстафету ворону Ювеналию. Ювеналий поведал благодарно внимающему вороньему сообществу о том, что слышал от вороньих старцев подобную, но несколько отличную «майсу»21. «Хотя в Священном Писании нет ничего о кончине Пресвятой Девы Марии, однако от моих предков, из древнего предания, передаваемого из уст в уста, мы знаем, что во время ухода её в мир иной святые апостолы, которые были рассеянны по Вселенной для спасения народов, в одно мгновение по воздуху были собраны во Иерусалим и, когда уже были поблизости, им явилось видение ангелов и стало слышно Божественное пение высших сил. Так с божественной и небесной славой предала она свою святую душу в руки Б-жии неким неизреченным образом. Её тело, вынесенное и погребённое с ангельским и апостольским пением, было положено во гробе в Гефсимании. И на этом месте три дня продолжалось непрерывное ангельское пение. Когда же через три дня ангельское пение прекратилось, апостолы открыли гроб, поскольку один из них, до того отсутствовавший и прибывший после третьего дня, пожелал поклониться телу Девы. Но тела на этом месте не оказалось, так что, найдя лишь лежащие погребальные одеяния, они закрыли гроб. Пораженные чудом таинства, апостолы только и могли подумать, что Б-г, благоволивший воплотиться и вочеловечиться от неё и родиться во плоти, а после рождества сохранивший невредимым её, сам благоволил и после отошествия почтил её чистое и незапятнанное тело нетлением и перемещением к себе на небеса».
Здесь Ювеналий многозначительно и загадочно замолк, видимо, желая придать только что прозвучавшему повествованию особый духовный смысл, подчеркнуть мистическую составляющую. Вороны раскаркались наперебой. Не дав возникнуть стихийному митингу, Флавий подытожил всё своим зычным «Cras», что на латыни означает «завтра», и стая шумно снялась на поиски пищи материальной.
Мы наконец перешли к следующей чашке заваренного Еленой зелёного чая. Маврикий наконец получил свой второй «Мамэдывь» (попугаячья переделка названия конфеты «Nomeda» на манер кавказской фамилии), но прежде, чем приступить к её поеданию, пустился в обсуждения и комментарии к рассказу Ювеналия. «Это способ пленить сущность, чтобы та не смогла родиться во плоти заново, не стала призраком или не ускользнула туда, где ее никакой волшбой не достанешь»22, – изрёк Маврикий и пояснил нам, зачарованно слушавшим его домочадцам, что Единый Великий Всемогущий забрал её к себе в эмпирей (позднее описанный Данте в «La Commedia»), чтобы больше никого и никогда не рожала, чтобы не плодились идолы и не создавали люди себе кумиров, и не поклонялись им. На этой пронзительной ноте Маврикий принялся терзать «Мамэдывь».
Завершая чаепитие и подытоживая услышанные речи и рассуждения, позволю и я себе заметить в дополнение к последнему пронзительному откровению: Сей очаянный акт Господа был призван в помощь, но, увы, не помог спасти Человечество.
В 571 г. от Р. Х. родился Мухаммад23.
Алиф. Лям. Мим24.
2016.08.16
Барчук
«Ну, мой дорогой, беги на воздух, погуляй во дворе, поиграй с детьми!» – сказала бабушка внучку, и шестилетний человечек сорвался со всех ног во двор навстречу ждущим его приключениям, получив вдогонку: «Не забывай, что ты обещал маме!». Дворовая компания была ему не очень-то интересной – там среди сверстников преобладали девчонки. Их спокойные игры в дочки-матери, имитировавшие их домашние семейные уклады с непременным женским диктатом, были ему скучны. Ему были нужны движение, полёт, мальчишеские проказы. Его манил сквер напротив двора, на другой стороне улицы, – весь в больших высоких тополях, каштанах и кустарнике, среди которых сохранился нетронутым бомбёжками и пожарами военного лихолетья длинный двухэтажный дом розового цвета, бывший до войны то ли приютом, то ли монастырём евангелистов-реформатов, сейчас служивший общежитием для строителей. Можно было забираться на чердак под двухскатную красной черепицы крышу, наблюдать оттуда через слуховое окно за происходящими внизу событиями и стрелять из рогатки по голубям. А ещё ему нравилось у распахнутых внутрь окон в высоченной светло-жёлтой стене, упиравшейся в улицу Комьяунимо (лит. Komjaunimo), наблюдать за работой типографских машин и разговаривать с рабочими-печатниками. Стена во всю высоту и ширину была голой и возвышалась на некотором расстоянии слева от розового дома. Из слуховых окон его не был виден, заслонённый живым забором высоких кустов акации, единственный в стене ряд окон типографии с решётками и широкими подоконниками, невысоко над землёй уходившими вглубь стены. Справа от розового дома тянулся длинный крутой склон, простиравшийся вплоть до улицы Калинаускаса (лит. Kalinausko). Зимой детвора съезжала с него на лыжах и санках, а летом съедала не успевавший созреть крыжовник с кустов, когда-то ровными рядами высаженных монахами вдоль всего верха. Когда-то это был монастырский сад, вероятно, обнесённый изгородью, от которой остался невысокий заборчик из штакетника, отделявший его от улицы Театро (лит. Teatro). За розовым домом и слева от него змеились рукава проходных дворов, выводивших к старому оперному театру и на улицу Басанавичюса (лит. Basanavičiaus). Здесь было волшебное детское пространство шестилетнего карапуза и его сверстников, где к тому же хорошо играть в прятки и догонялки или притаиться в высокой траве, вдруг выскочить на тропинку и дёрнуть за косичку смазливую соседскую девчонку.
Одна беда – мама нашего карапуза строго-настрого запрещала ему перебегать через проезжую часть улицы, а также бодяться неизвестно с кем по «норам и помойкам» этого сквера. Она трудилась в дамской парикмахерской справа от подворотни их дома. Из окон салона хорошо обозревалось ближнее, не скрытое деревьями пространство сквера и отрезок проезжей часть улицы вдоль него. Мама могла видеть, как её любимый сыночек Йонa стрелой из подворотни несётся в сквер, а если не она, то кто-нибудь из сотрудниц докладывал: «Мадам Лейбедев, Ваш пострел только что перебежал через дорогу…». За это наш пострел бывал наказан. На день-два, а то и на три Йону лишали прогулок, и бедный мальчик искренне обещал не выбегать со двора. Однако стоило ему только уйти из-под родительской опеки, оказаться на «свободе», он тут же чистосердечно забывал о своих обещаниях и грядущих наказаниях, и вольный ветер овладевал его буйным впечатлительным характером, и вот он уже опять несётся со двора к «нежелательным» друзьям и запретным детским забавам. Девочки «пришли» потом, позднее, в тот же скверик, но уже кто-то другой наблюдал с чердака облезлого розового дома, из слухового окна под потрескавшейся, местами чернеющей черепичной крышей за происходящими внизу в кустах и высокой траве захватывающими событиями.
В те печальные дни, когда Йонa находился под домашним арестом, он накручивал довоенный ВЭФ25, стоявший в родительской спальне у изголовья на маленьком резном секретерчике. Он слушал диковинную музыку, которая целиком заполняла и зачаровывала его, он неподвижно застывал в папином кожаном кресле, прикрывая глаза, и в голове проплывали причудливые образы и видения, объяснить себе которые он не мог. Его охватывала эйфория, которая держалась в нём долгое время, скрашивая домашнее заточение и являясь как бы замещением утраченной свободы. Ещё карапуз любил листать большие книги с картинками, переложенными тонкой полупрозрачной бумагой, и вычитывать подписи, в которых разным непонятным словам он давал своё толкование. Родители готовили Йону к школе, и регулярные занятия с ребёнком дали результаты – Йона умел читать. Он садился на кухне у окна, смотревшего с высоты третьего этажа на внутренние проходные дворы, простиравшиеся от улицы Траку параллельно Комьяунимо, мимо закрытой и заброшенной церкви евангелистов-реформатов, до улицы Клайпедос (лит. Klaipėdos). Вместе с Маврикием26 они вглядывались в утренний развод конной милиции, и Йонa c любопытством и детской непосредственностью истязал учёного попугая всякими «почему?» и разными «зачем?». Мальчонку привлекал располагавшийся на Клайпедос Эскадрон конной милиции, куда он собирался наведаться, когда мама с папой уедут в Цхалтубо. Издалека они разглядывали конюшни, лошадок, милицейских тёток в мундирах и кузню, двухстворчатые ворота которой бывали отворены, и в её темной глуби полыхал красными языками пламени кузнечный горн. Для дистанционного наблюдения Йона извлекал трофейный цейссовский бинокль из секретерчика, где рядом с запонками, военными наградами, наградными документами и записными блокнотиками была россыпь жёлто-серых пакетиков с какими-то кружочками из тонкой резины, растягивавшимися в продолговатый цилиндрик, а Маврикий и без того всё различал своим зорким птичьим оком. Малыш прочёл надпись на одном из пакетиков, но воспроизвести слово не получалось. Самый кайф был, когда развод эскадрона происходил в сопровождении духового оркестра. Тогда оба наблюдателя приходили прям в праздничное возбуждение. Йонa ликовал.
Сегодня же, когда истёк срок очередного заточения, бабушка, открыв все дверные запоры и сопроводив соответствующим напутствием, выпустила из домашней клетки кудрявого белокурого толстячка. На волю! В пампасы! Но в этот раз не ринулся толстячок сломя голову через дорогу. Он избрал гораздо более длинный и, как подсказывал детский пытливый и изобретательный ум, менее опасный путь. Наш хитрован понял, что если пройти через всю кишку длинного двора и выйти из него через узкую деревянную дверь у реформатской церкви, либо завернуть в параллельный двор, выходящий на Клайпедос, и оттуда налево пересечь дорогу в сквер, то этого никто из парикмахерской не заметит. Отбывая наказания, сидя на кухне у окна, он рассмотрел в бинокль возможные стратегические направления и важные пути отступления и сейчас полный решимости двинулся в параллельный двор. Выйдя из ворот на Клайпедос, Йонa вспомнил эскадрон и с новым импульсом любопытства завернул в его массивные, дубовые, окованные чугуном ворота. Первое, что бросилось Йоне в глаза, был стоявший за воротами у грохочущей механическим молотом кузни, Зюнька27 Косой. Это не вызвало у Йоны никакой радости, скорей щекотливое предчувствие. Не в его манере было ретироваться, отступить – был он упрям и не труслив. Он хотел пройти мимо, да не тут-то было…
Зюнька, его брат Мечка28 и их родители – дворницкая семья, жившая в полуподвале дома напротив Йониной подворотни и дамского салона Шейны Лейбедев, мамы нашего карапуза. Йонa помнил этот дом обгоревшим: обожжённый фасад без крыши, с зияющими чернотой глазницами окон. Сейчас проёмы обоих окон их жилища уходили в тротуар, с которого три ступени вели вниз, в дверь между этих окон, откуда всегда дурно пахло, где сквозь запылённые немытые стёкла Зюнька с Мечкой заглядывали под юбки проходящих дам. Зюнька Косой был на год старше Йоны, а Мечка – лет на пять-шесть. Мечка, будучи довольно крупным подростком, являлся банальным дворовым, уличным хулиганом, относящимся к шайке «бани», кучковавшейся между общественной баней улицы Комьяунимо, спортплощадкой Артиллерийского училища и Вингряйскими источниками (лит. Vingrių šaltiniai). Зюнька постоянно пасся в сквере один, как киплинговский кот, но не потому, что был независим и самодостаточен, а просто потому, что никто не хотел с ним водиться из-за его скверного характера. Он задирал соседских детей, которые побаивались вступать с ним в спор. Чаще всего он приставал к тем, кто не обращал на него внимания. Глаза дворницких братьев загорались лютой люмпенско-пролетарской ненавистью при виде аккуратного пухленького «барчука» в белой рубашечке, коротких штанишках на шлейках и белых до колен гольфах с помпончиками. «Жидовское» происхождение «барчука» усиливало, как видно, выплеск люмпенско-пролетарского гнева и шипяще-свистящих звуков польско-тутейшеских проклятий. Зачем мы убили ихнего Езуса (Jezus)? Йонa этого ещё не знал, не понимал и ответить не мог.
К ответу призывали всё чаще и чаще по мере того, как белокурый пухленький «барчук» подрастал и появлялся в «обществе» без родительского присмотра. Вот и в этот раз Косой задел его рукой, дёрнул и сказал что-то обидное. Йонa хотел отмахнуться от него, как от назойливой мухи, и резко повёл рукой. Зюнька в этот момент подался немного вперёд, как будто намереваясь ударить, и Йонa нечаянно кончиками пальцев попал ему в его косой глаз. Зюнька истошно завопил, прикрыл глаз рукой и, как взбешенный тореадором разъярённый бык, кинулся на ненавистного «барчука». Схватка была у них не первой. Обычно в сквере они навешивали друг другу тумаков, но победителем оставался Йонa, поскольку телом был крупней и руки у него были длиннее. Йонa упал в грязь рядом с лужей, вывернулся, словно уж, поднялся и ногой ударил по шее лежавшего лицом вниз Косого, который от удара клюнул лицом в лужу. В этот момент в воротах эскадрона появился Мечка. Он с разбегу кулаком нанёс нашему карапузу удар по уху, от которого зазвенели перепонки и посыпались искры из его зелёных глаз, и пнул его ногой. Йонa упал. Он почувствовал вдруг, как кто-то навалился всем телом и давил на горло. Он стал задыхаться, зажмурился, открыл вдруг глаза, дёрнулся и попал головой в нос Зюньке Косому, тут же поникшему от удара. Ощутив, что давление и тяжесть ослабли, и нащупав правой рукой какой-то твёрдый предмет – камень или кусок металла, он заехал этим в лицо наклонившегося к нему Мечки. «Ааа-ххх, сссукаа!» – то ли вопил, то ли стонал Мечка, держась руками за лицо. Йонa вскочил на ноги и увидел Зюньку, стоявшего на коленях с текущей из носа красной струйкой, и Мечку, прикрывавшего рукой левую часть лица. Мечка посмотрел на тряпку, которую убрал от разбитого лица, и «барчук» заметил, что удар пришелся по левой щеке и глазу. Глаз заплыл, щека опухла, между глазом и ухом краснела ссадина – удар получился скользящий. Тут вышел из дверей кузнец, который вынес братьям какую-то заказанную ими для дворницких целей поковку, и не дал пришедшим в себя пролетарским братцам взять реванш, уводя «барчука» вглубь кузни. Плечистый кузнец в десантном берете с добрым лицом со светлыми глазами и квадратным подбородком с ямочкой ветошью вытер Йоне ручки и жидовское пухлое личико, испачканные грязью и окроплённые христианской кровью, выглянул из кузни, окинул взглядом двор эскадрона и со словами: «Дуй давай и не попадайся!» – выпроводил мальчика. Йoнa поплёлся домой, сохранив, однако, боевой дух и обретя спокойствие.
Неожиданное приключение малыша Йoны в эскадроне не осталось незамеченным. Добрый старый друг Маврикий, чей насест стоял на широком кухонном подоконнике, видел, как Йонa дворами шёл в эскадрон, и когда началась драка, пришёл в неистовое возбуждение, свистел, как хулиган с галёрки, и воинственными криками призывал к торжеству патриотических скреп: «Pro Aris et Focis! Igni et Ferro! (лат. «За алтари и очаги! Огнём и мечом!»)». Это немедленно привлекло внимание бабушки, возившейся у плиты на кухне, и, увидев начало спектакля, она помчалась спасать любимого внучка от злобных обидчиков. Бабушка что есть мочи спешила к месту трагедии, но Finita la comedia – опоздала. Кузнец, порядочный человек, рассказал ей концовку, которую ему случилось видеть, и заверил бабушку, что с её внучком всё в порядке и что внучок пошёл домой. Бабушка поспешила назад, и когда вернулась, увидела грязного, в перепачканной кровью и глиной одежде, обожаемого нарушителя спокойствия и в сердцах всё всплёскивала руками: «Az oh en vei! Vos tutzekh? An umglik af zeyere kep!»29 Утром рано прискакали дворники – родители Зюньки с Мечкой. Был большой скандал с привлечением «барчука» в качестве ответчика и братцев в качестве потерпевших, демонстрировавших увечья, нанесённые им ответчиком. Гадминские требовали денег на лечение своих чад. Было уплачено. И до того стычки между ними не раз бывали, и в дальнейшем «классовая» вражда не утихала. Мальчик Йонa вплоть до армейского призыва отбивался от этих заядлых забияк – озлобленных подвальных ублюдков. В этот раз наказание было очень длительным и особо суровым, но наш барчук уже привык никогда не унывать, всегда находить себе развлечение и радоваться жизни.
2017.06.06
Тризна
Сумрачное утро пятницы 6 марта 1953 года ничем не отличалось от череды таких же утр тогдашней ранней весны. Меня, как обычно, разбудили возня и жужжание радиоприёмника, проникавшие из родительской спальни. Скрип двери, шуршание одежды и шорох шагов родителей, на цыпочках крадущихся мимо моей кроватки к завтраку, окончательно вывели меня из зыбкого дремотного состояния. Я тихо лежал и думал, как не хочется идти в школу, и вспомнил о «Генеральном Конструкторе», подаренном мне перед сном накануне вечером. Зазвонил будильник, бескомпромиссно приказав подниматься. Я нехотя выскользнул из тёплой постельки, включил свет в нетопленной комнате, поёжился от прохлады, заставившей быстрей одеться, и любовно провёл ладонью по коробке лежавшего у постели подарка. В январе мне исполнилось семь лет, и долгожданный подарок папиного приятеля, земляка и однополчанина, дяди Семёна Берзаса, наконец, добрался до меня вместе с ним, находившимся где-то в длительном отъезде. По утрам меня, ученика 1Б класса, ждала 9-я средняя школа на спуске улицы Калинаускаса (лит. Kalinausko) к улице Пилимо (лит. Pylimo), что недалеко от нашего двора, подворотня которого на улице Пилимо 22, разбивала первый этаж дома на два важных объекта: хлебный магазин Гобермана (по имени его директора – одноногого, на костылях, ветерана войны) слева подворотни и дамская парикмахерская артели «Пирмунас» (лит. «Pirmūnas»), где работала мама – справа.
Дождавшись, когда родители уйдут на работу, и убедившись, что никто не видит, по пути на кухню я успел незаметно отхлебнуть из бутылки крымского Кокура30, хранившейся в орехового дерева буфете. Кокур вместе с множеством других напитков скрывали большие дверцы буфета, запертые на ключик, извлекаемый мной из потайного, как считали мои родители, места на верхней полке. Заветный «золотой ключик» прикреплялся пластилином к впалому дну серебряной чаши посреди празднично сиявшего богемского стекла, хрусталя и фарфора. Всё это великолепие содержалось за стеклянными заслонками с матовыми кистями винограда по краям и резными камеями с головой Бахуса на бронзовых ручках. Я воображал, будто бы я – Буратино, доставал заветный Золотой Ключик и отведывал глоток божественного напитка. Быстро вернув всё на место, осторожно и боязливо ощупывал свой нос и, стараясь не взглянуть и отворачиваясь от зеркала на двери ванной комнаты, прошмыгивал на кухню.
Вот и в то утро, производя правой рукой неуклюжие пассы, словно норовил поймать что-то неуловимое, схватить в воздухе нечто ускользающее возле лица, я влетел из коридора на кухню и плюхнулся на стул. Как всегда, на кухонном столе меня ждал собранный бабушкой завтрак. Но сама она, в отличие от обычного утра, не ждала меня, а возилась в ванной комнате. Левой рукой поднеся к губам маленький серебряный бехер с яйцом, я не без лёгкого торжества обнаружил, что нос туда не опустился. В тот самый миг, когда я не уткнулся в яйцо сохранившим свою форму и длину носом, я услышал голос Маврикия31, нашего попугая. Его слова были из всех первыми, что в тот день мне пришлось услышать. Как объявление по вокзалу о приходе поезда, прозвучал с насеста на широком подоконнике его возглас: «Der VOntz hot gepEigert»32. Он протрубил это горлом, ударив на О и после секундной паузы на второе Е, и прозвучали они как донесение – коротко, ёмко, безапелляционно. Кому это было сказано? Сообразив, что нахожусь на кухне один, я кинулся к мусорному ведру выкинуть, пока не появилась бабушка, нелюбимый мной тошнотворный желток, и второпях, пропустил смысл возгласа попугая мимо ушей. Вошла моя добрейшая милая бабушка, в которой души не чаяли все мои друзья, подёргала меня, как водится, чтобы не мешкал – пора в школу. Я послушно кивал и, доедая обезжелточенные яйца всмятку, выказывал готовность немедленно бежать. Появление бабушки немного меня смутило, чуть было не застало врасплох и помешало расспросить Маврикия.
Шагая в школу, я размышлял о «подохшем», как сказал Маврикий, загадочном Vоntz’е, упоминавшемся иногда в разговорах родителей, в репликах соседей и гостей, но никто никогда не рассказывал мне про него историй и сказок, и стихов о нём не читал. Привычный мне мир всё ширился, ставил всё больше вопросов, и я, «почемучка», обо всём расспрашивал и, конечно, о Vоntz’е. В школу меня «устроили» с трудом, потому что тогда принимали в первый класс детей не младше семи лет, но мои родители неуклонно пытались меня скорей туда водворить. В послевоенное время школ в городе не хватало; в нашей 9-й были пять первых классов, занятия в школах проводились в две смены. Отдать ребёнка в школу раньше достижения им семи лет было почти невозможно. Моему преждевременному устройству в школу поспособствовал старик Гурдус, служивший старшим инспектором ГорОНО33 – знакомый моих родителей и частый наш сосед по съёмной даче, куда братика Мишку, меня и бабушку родители вывозили на летний «выпас». Там, в Поспешкес или в Валакумпии, мы с братом резвились в лоне необычайной красоты пейзажей Вильнюсских предместий, вместе с чистейшим воздухом впитывая волшебную ауру чарующей литовской природы. Бабушка кормила нас деревенской едой, свежими овощами и фруктами из хозяйского сада-огорода, а родители появлялись там в субботу вечером после работы. Они привозили кучу городской еды и всякие новости, забавлялись со мной и братишкой и покидали нас в воскресенье вечером либо в понедельник рано утром – спешили на работу. Мой папа работал главбухом Вильнюсского ликёро-водочного завода, и в ореховом буфете имелось всё, на что завод был горазд, и образцы того, что закупали за границей в целях составления купажей, отработки технологий и уж, знамо дело, начальству на стол.
С самого раннего детства родители читали мне книжки и учили читать и считать. Я принимал это со всей детской увлечённостью и часто сам просил почитать мне. Свою первую большую книжку я принёс домой из школьной библиотеки, хотя домашняя, собираемая папой, едва ли была меньше, да и «Золотой ключик или приключения Буратино» занимали на полке свое почётное место. Перед постижением «Буратино» были сказки разных народов, «Чук и Гек»34 и выдержки из газет, которые давал мне папа. Он велел мне читать газету вслух. Я читал, запинаясь, непонятные мне тексты, папа с мамой слушали и смеялись. Я тоже начинал смеяться и дурачиться, намеренно коверкая слова. Бабушка сначала недовольно ворчала, что родители вместо того, чтобы учить ребёнка чему-то толковому, «делают комедию», но в процессе и сама таяла в улыбке. Из всего массива прочитанного у меня складывалась дуалистическая картина: полный неизведанного, влекущий, таинственный мир – яркий и романтичный, и другой: реальный и осязаемый мир дома, двора, школы – ежедневный, одинаковый, серый, постылый. Незатухающий интерес к персоне Vоntz`а усиливался и частично был утолён папой. Он рассказывап, что это такой сотрудник у него на работе, с такой фамилией, и мне, еврейскому ребёнку, встречавшему среди папиных друзей-приятелей, бывших подпольщиков и однополчан, такие фамилии, которые означали «портной», «кузнец», «водяной», «железо» и «рыба», фамилия Vоntz не казалась из ряда вон выходящей. Папа объяснял, что Der Vоntz к нам не приходит потому, что очень занят, что он вообще у них на работе самый большой начальник. Ведь папа часто рассказывал маме: Der Vоntz сказал то, Der Vоntz сказал это, велел, приказал и т. п., а ведь так ни о ком другом не говорили. Папа выслушивал мои расспросы и рассказывал: «Он следит за тем, как мы живём, и окружил нас заботой и вниманием: и наш завод, и мамину парикмахерскую, и школу, и делает всем людям всё». Я начинал осознавать великость и величие Vоntz`а. Он стал представляться мне гигантом с бровями густыми и длинными, одинаковыми вертикальными губами, окаймлёнными одним сплошным густым усом, свисавшим далеко, ниже широкого с ямкой подбородка. Он виделся мне антиподом жадного и злого Карабаса-Барабаса, который грозил, что если я буду лазить в буфет, то у меня вырастет длинный, как у Буратино, нос, а Дуремар будет ставить на мой нос пиявки, и я в страхе чуть ли не кожей ощущал эту боль. Страх перед наказанием, видимо, не был столь силён, чтобы отвратить меня от неодолимого соблазна лизнуть ароматный Кокур, тем более, что по прирождённой легкомысленности своей натуры, помноженной на возраст, я вспоминал о возможной каре уже только после того как… Ну, а Макрикий и Vоntz помалкивали: не видели, не знали, а может быть, видели и знали, но молчали.
Картинки воображаемых миров как бы сливались, перетекали из одного в другой и калейдоскопически видоизменялись в моей голове, попеременно выдвигаясь на авансцену детского полусомнамбулического сознания. Однако головушка моя работала исправно: ещё до школы я умел читать, писать, считать, а в первом классе мог тут же слово в слово повторить по памяти две книжные страницы прозы, прочтённые всего один раз, или в ещё большем объёме стихи, и родители похвалялись этим перед друзьями-знакомыми. Бывало, они заставляли меня демонстрировать свои способности, кои со временем сильно притупились под влиянием культа Бахуса, принятого и почитаемого мной в молодости также рано, как был перенят на эаре цивилизации греками у фригийцев35. Как говорили родители, я «всё хватал на лету» и быстро вникал в суть, но временами впадал в некий транс, застревал в своих мыслях и образах, не замечая происходящего вокруг и не отвечая на вопросы и оклики, словно они были не здесь, не сейчас и не ко мне. Вытащить меня из такого состояния, хотя зависал я ненадолго, можно было только болевым приёмом, шоковой терапией, иначе приходилось дожидаться моего воплощения. Такие состояния преследовали меня лет до двадцати двух. В армии это создавало неожиданные ситуации, не раз конфузя меня в течение моего трёхлетнего срока солдатской службы и принося неприятности. Задолго до призыва мой друг, студент медицинского вуза, убеждал меня давить на это обстоятельство перед призывными медицинскими комиссиями. Типа «синдром Каннера»36 – с таким дефектом не берут. Я пытался… Не могу сказать, что настойчиво, да и родители мои считали, что идти служить надо. Туда меня и послали на «излечение». У нас в полку не служили разве что только сумасшедшие: призывали и хромых, и косых, и заик, и язвенников, и сердечники попадались, а часть здоровых становилась таковыми.
Так, на автопилоте, находясь в своём лёгком забытьи, в которое меня, подобно улитку в раковину, заставляла невольно вползать неприятная навязчивая среда улицы, брёл я в школу, где уроки первой учебной смены начинались с половины девятого. Было темно, сыро и зябко, пахло гарью и дымом чадящих печек. Словно через мутное, запотевшее от дождя, стекло автобуса я видел необычно много прохожих по обе стороны улицы, которые на ходу надевали или поправляли нарукавные повязки – красные с чёрным и ещё вроде бы с зелёным, напоминавшим цвета флага Литовской ССР. Люди как бы причитали, прядая головами, как лошади, что-то бормотали, будто молились, заражали детей своим довлеющим над дёгтем утреннего сумрака плачем, переходящим в детский рёв. Все спешили… Мои органы чувств частично фиксировали размытую картинку, не вполне реагируя на общее движение. В голове моей, как на полотнах сюрреалистов, происходило постоянное перевоплощение, хаотическое «сложение и вычитание» занимавших меня мифических персонажей интермедии, постановщиком которой был не я. Словно по мановению волшебной палочки подкралась ко мне догадка, что фраза про Vоntz’а, изречённая Маврикием, была услышана им от папы. За завтраком папа пересказывал маме и бабушке новости того утреннего радиосеанса, когда слушал довоенный ВЭФ37, будивший меня своим жужжаньем из родительской спальни.
Утренний сомнамбулический трансфер заканчивался – я переступил порог школы. Яркий электрический свет ударил в глаза и повёл меня длинными коридорами с классными комнатами, одна из створок двухстворчатых дверей которых была везде отворена. С обычными выкриками и шумом носились туда-сюда ученики младших классов. Старшеклассники кучковались у своих дверей, возле учительской рядом с моим 1Б, у лестницы, делившей коридор на две равные части, и у высоких до потолка окон в обоих торцах второго этажа. Едва успев бросить свои школьные принадлежности, состоявшие из коричневого кожаного портфеля с двумя замками-защёлками, мешочка с чернилкой-непроливашкой и стеклянной банкой с синими чернилами, коричневого матерчатого мешка с одеждой для физкультуры, затянутого белым шнурком с пистончиками и узелками на концах, я тут же был схвачен за рукава пиджачка. Одноклассники тащили меня, и я оказался вовлечённым в «кучу малу». Впрочем, я и не сопротивлялся: эти «рыцарские турниры» проводились почти на каждой переменке. В классе оставались за редким исключением только девчонки.
Звонка всё не было. «Куча мала» шла в полном разгаре и после второй атаки переместилась к центру коридора немного левее лестницы, заняв плацдарм в четырёх-пяти метрах от группы старшеклассников. Находясь в середине кучи, пытаясь выбраться из её гущи наверх, я слышал крики проносившихся мимо детей. Первоклашки по всей длине коридора играли в догонялки. Они кричали наперебой: «Сталин умер? Сталин умер! Сталин умер? Сталин умер!» – и эти крики несмышлёных первоклашек, повторяясь то как вопрос, то как утверждение, звучали как нелепая дразнилка. «Куча мала» же продолжала жить своей жизнью, и я, сражаясь в ее глуби, рвался наверх. Из других классов дети высыпали в коридор, крики стали множиться, всё стало ходить ходуном, голоса набирали силу и складывались в сфорцандо38 звучащий хор: сталин-вождь-умер-умер-отец… Я выдрался из гущи тел наверх, скатился к подножию кучи разгорячённый, потный, чёлка взъерошена. Отряхнулся, застегнул пуговицы сорочки и пиджака, огляделся. Взгляд мой упал на группу развязных старшеклассников, среди которых верховодил некий Витька. Наши глаза встретились. «Ну, ты, жирный, ходи сюда!» – услышал я Витькин грудной фальцет, и его зовущий жест рукой как бы подтверждал, что звуки исходят из его пасти. Встреча с Витькой обычно не сулила мне ничего хорошего, и сейчас я смотрел на него глазами варёного судака, соображая, что делать. Вышла пауза. «Ходи сюда, я сказзззал», – издал фальцет, растягивая в гармошку «з». Увидев, что я не двигаюсь, он сделал некий повелительный жест, и несколько «всегда готовых» молниеносно подтащили меня к нему. Дав мне оскорбительного болезненного леща39, Витька презрительно процедил: «Ну, ты, жирный фуцин40…». Не успел он закончить, как рядом с нами школьная техничка Ядвига Болеславовна зазвонила большим, сверкающим, как несъеденный яичный желток, латунным колокольцем. Улучив момент, я пнул Витьку ногой, вырвался и стремглав бросился в класс.
Стриженый бобриком, худой и долговязый Витька, немного сутулый, не вынимая рук из карманов чёрных клёшеных шкер41, курил «Беломор»42, дымок которого, поднимаясь, отражался козырьком темно-синей матерчатой кепки-восьмиклинки с пуговкой на макушке. Флотский ремень и тельняшка под расстёгнутой чёрной матерчатой на молнии курткой с двумя нагрудными коричневыми карманами, прикрытыми фигурными клапанами с язычками, застёгнутыми на чёрные пуговицы… Латунная молния по замыслу должна была сочетаться с курткой и ботинками цвета бронзы на светло-жёлтой резиновой подошве на кривых тонких ногах, которые вразвалочку вышагивали из послевоенных обшарпанных проходных мусорных дворов на улице Кедайню (лит. Kedainių), напротив бывшего Францисканского костёла, в те годы разграбленного и загаженного, в разрушении внутреннего убранства которого принимали деятельное участие и мы, дети окружающих его улиц и дворов.
«Витьки» выходили из своих, как говорил наш дядя столяр-краснодеревщик Си́мен, «катухов»43, группировались в небольшие шайки по 3–5 пацанов, которые грабили школьников: отнимали у них выделенные родителями на расходы и школьные обеды копейки. Ограблению подвергались в основном малыши, а из тех, кто постарше, не умевшие за себя постоять. Окружали одного или двоих, требовали копейки, если же жертва утверждала, что их нет, заставляли попрыгать, чтобы услышать звон монет. И тогда… Они не лезли в карманы и портфели, но заставляли запугиваниями и побоями самим отдавать, в худшем случае могли вырвать из рук. Отнимали значки и монеты, спичечные этикетки, почтовые марки и целые кляссеры у юных нумизматов и филателистов. Подобные экспроприации надолго стали частью школьной жизни, к концу 1950-х став экстерриториальными, и продолжались вплоть до 1961–1962 гг., когда я выпал из круга возможных жертв, закончив среднюю школу.
Витькино хищное лицо, помеченное следами оспы вокруг глубоко посаженных маленьких коричневых глаз под тёмными резко очерченными бровями, тронутое ехидно-подловатой улыбкой, открывавшей верхний ряд прокуренных и пожелтевших от чифира зубов, выдавало в нём отпрыска люмпенской семьи, каких много до и после войны завезли в Литву и, собственно, в Вильнюс для разбавки и русификации местного населения и внедрения дружбы народов. Мне никогда не доводилось встречать его в одиночестве: он всегда бывал в сопровождении корешей, одетых в том же стиле, но попроще. Бывали нередко с ними и «старшие товарищи» – блатняки, которые их наставляли и «крышевали». К этому времени, исполняя тогдашний «модный приговор», молодёжь стала на фоне чёрных и синих клёшей, ватников и курток одеваться в ином, непривычном для совтрудящихся стиле, носить совершенно другую одежду: яркую, многоцветную, явившуюся для власти новым жупелом с запада. Носителей такой одежды называли «стилягами». Власти ожесточённо боролись с новой западной идеологической диверсией, могущей подорвать устои и скрепы и безвозвратно выхолостить высокую духовность, в изобилии принесённую в Литву «старшим братом». Не доходя тридцати метров до здания школы, в глаза бросался объёмный красочный стенд «Окно Сатиры». В «Окне» наряду с «империалистической человеконенавистнической» политикой США, Великобритании и блока НАТО средствами изобразительного искусства высмеивались так называемые стиляги. Их малевали на высоченных каучуковых подошвах, в брюках-дудочках, широкоплечих пиджаках, пёстрых сорочках и галстуках. Своими причёсками «кок», в неестественных позах с искажёнными лицами, они скорей пугали, чем смешили. Такие же стенды власти располагали и в других людных местах города, что несомненно давало дополнительный заработок художникам, возможно, одетым в той же манере. Вот такие ребятки, как Витька с «витьками», преследовали пресловутых стиляг, устраивали на них нешуточную охоту, провоцировали потасовки и поножовщину. Среди стиляг было немало спортсменов, крепких городских ребят, и инциденты, хотя и бывали кровавыми, зачастую заканчивались не в пользу «витьков», что впоследствии было исправлено местной милицией, прибегнувшей к негласному использованию хулиганов и мелкого криминала для непосредственной зачистки поля и дополняло идеологическую борьбу. «Советская «малина» врагу сказала: – Нет!»44.
Толстый мальчик с волнистыми до плеч светлыми волосами, зеленоглазый карапуз, я был любим и обожаем своими родителями и бабушкой, которые всё же меня особо не баловали. Они не потакали чудачествам и капризам, тем более, что мой братик Мишка, в то время двухгодовалый, требовал больших забот и внимания. Тем не менее мама находила время ухаживать за моими пышными локонами, наконец состриженными перед началом моего первого учебного года. Округлая голова приобрела причёску «под бокс», что, по моему разумению, должно было положить конец выпадам обидчиков, норовивших дразнить меня девочкой. Моя мама, исходя из понятий красоты и эстетики детской одежды, вынесенных в день стремительного немецкого наступления из приграничного Таураге и не растерянных во время бегства на восток, одевала меня в рубашечки с жабо или рюшечками, короткие штанишки на шлейках и белые гольфы до колена на завязках с помпончиками. Видимо, эта одежда придавала мне полноты и как бы делала меня младше и женственнее, что ли, вызывала насмешки сверстников, презрение и агрессию таких «витьков». Хххолллёный, барчук, жжидёнок (если знали) – таково было, так звучало их «интернациональное» пролетарское восприятие. Однако тучность моя не мешала мне быть резвым подвижным мальчиком: я не трусил, мог и в глаз дать и вообще был непоседой, проказником и правдоискателем. Получаемые от родителей копейки никогда не отдавал, не говорил, что их у меня нет, говорил, что не дам и сразу же получал в свою «жидовскую морду» от ошеломлённых моей наглостью раскулачивателей. Я дрался, как мог, с превосходящими силами противника, ходил в синяках и никогда не жаловался, не ябедничал.
С Витькой мне пришлось встречаться и раньше и испытать на себе его колючий взгляд (но тогда нашлись другие жертвы, и всё обошлось) ещё до школы – летом 1952 года за чугунной оградой скверика Францисканского костёла, совсем недалёко от нашего двора. Всего лишь пройти до перекрёстка, повернуть за угол на улицу Траку (лит. Trakų) мимо атлантов, держащих карниз портика над входом в здание артиллерийского училища. Атланты, в полном согласии с дежурившими на входе курсантами, бесплатно пускали нас, окрестных детей, смотреть кино, которое по воскресеньям крутили в актовом зале училища. «Витьки», лузгающие семечки, норовящие втихаря курнуть где бы то ни было и склонные к эксцессам, туда не допускались. Их сопровождавшиеся хрипловатым матерком визгливые выкрики о том, что «впускают только жидов», что все они (жиды) воевали на «Ташкентском фронте» и купили на базаре ордена и медали, хотя и встречали понимание и сочувствие дежурных курсантов, однако, сдержанное и пассивное. Витьки знали Who is who: кто я и откуда, кто мама, кто папа. «Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой…»45. Нас «держали на мушке» люди с обеих сторон правопорядка.
Напряжённость накапливалась. Нагнетаемая с утра, она не давала забыть стычку с Витькой. Я понимал, что мне с ним не потягаться, остро и болезненно чувствовал, что на меня будет охота, что дерзость моя так просто не пройдёт и грядущего «аутодафе» мне сегодня не избежать.
Наша классная Мария Марковна пришла не сразу после звонка. Пока её не было, детвора вела «разбор полётов» «кучи малы», и также на языках было облетевшее школу известие о смерти отца народов. Я уже отдышался, собирал брошенные вещи, а рядом дети говорили про внезапную смерть любимого вождя и друга всех детей Ёсифа Висарёныча. Висевший над классной доской портрет вождя оказался одетым в чёрную траурную раму, резче выделявшую его на фоне стены. Мой взгляд отсканировал его как-то совсем иначе, чем прежде, и мысль, как молния, сверкнула – «усы». Паззл неторопливо, как в замедленном кино, складывался из, казалось бы, несовместимых фрагментов, не могу сказать, что мне всё стало ясно, однако среди расплывчатых фигур формировавшегося кадра я увидел картину убийства: Карабас-Барабас убивает Vоntz`а. Слайды накладывались один на другой, совмещая Vоntz’a как бы в одно и то же лицо с нашим любимым товарищем Сталиным, и мне стало грустно, обидно и жалко, что убили того, кто «следит за тем, как мы живём, и окружил нас заботой и вниманием и папин завод, и мамину парикмахерскую, и школу, и делает всем людям всё». «Аполитичная» и скоротечная моя детская печаль была прервана приходом Марии Марковны. Сдерживая всхлипы и пошмыгивая носиком, белевшим на фоне проступающей из-под пудры красноты под её добрыми глазами, успевшими до общения с детьми частично оплакать кончину вождя и учителя, Мария Марковна объявила, что уроков сегодня не будет, будет траурный митинг в гимнастическом зале, после него разойдёмся по домам, а те, кого в школу и домой из школы водят, должны будут ожидать своих сопровождающих в школьной библиотеке. Повелев ожидать звонка к началу митинга в классе и никуда не уходить, Мария Марковна удалилась. Минут пять-семь тишины были прерваны пьяной бранью в адрес врагов народа, погубивших вождя всего светлого человечества, донёсшейся через распахнутые форточки, и широкие низкие подоконники тотчас были облеплены теми детьми, кто сидел в ближнем ряду. Весь класс сгрудился у окон. Тихая траурная пауза взоралась пьяным зрелищем: разлился смех и улюлюканье и неудержимый всплеск детской непосредственности. Озорные мальчишки, непоседы стали зазывать в догонялки и «кучу малу». Вместе с ними я выскочил в коридор, но почувствовав желание есть и, не в последнюю очередь, из опасения быть пойманным Витькой, свернул к лестнице и спустился в буфет.
Щедро источавший запахи ирисок, сосисок и картофельного пюре, буфет располагался на первом этаже напротив гимнастического зала, который готовили к митингу. Я доедал жареный пирожок с джемом и плодово-ягодным киселём… Когда звонок оповестил о сборе на митинг, я пересёк коридор и вошел в ещё не заполненный зал. Во главе зала у шведской стенки стояли два стола, убранные красной материей, два графина, по одному на каждом, граненые стаканы возле графинов, латунный колокольчик, письменный прибор чёрного мрамора, стопочка относительно белой писчей бумаги. Венчал всё большой портрет лучшего друга всех октябрят, пионеров и школьников. Бронзового цвета раму по углам пересекали ленты чёрного бархата и завязывались пышным бантом в нижней части портрета. За окнами занимался светлый, солнечный, но ветреный и неласковый весенний денёк. И в ещё не заполненном зале пахло ранней весной, которая вдохнула в распахнутые перед началом митинга окна свои еще несмелые ароматы и сейчас стремила прохладные струи сквозь отворённые форточки. Из рупора радиорубки с шипеньем струилась траурная музыка, дополняемая посвистом ветра, доносившимся сквозь неплотно пригнанные оконные рамы, и заполняла неприятными звуками коридор и гимнастический зал. Я пристроился на скамейке у окна, выходившего в пришкольный сад, который по осени одаривал нас яблоками и сливами, где стараниями учительницы ботаники Валентины Фёдоровны росли и созревали огурцы и помидоры, горох и фасоль, редиска и зелень. Сейчас он – чёрный призрак, насквозь пробиваемый лучами акварельного солнечного света, зловеще ждал детского смеха и возни с началом весенних работ и манил, и втягивал меня в струящиеся лучистые переливы, ласкающие стволы деревьев, готовя мрачный апофеоз. Густая толпа школьников и персонала набила зал своим слезоточивым телом, выпустив в коридор шелестящий шепотком хвост замешкавшейся детворы. Завуч, маленькая серая усатая бабёнка на высоких туфлях-танкетках, имени и фамилии не помню, с собранными сзади в узел волосами в облегающем коричневом платье с V-образным вырезом и сердцевидным кулоном на короткой шее, что-то вещала. После этого директор и гроза всей школы товарищ Маркелова, мощнейшая копна зачёсанных назад тёмных волос, в длинном бордово-белом вязаном жакете с ромбовидными узорами, рослая дородная матрона, напоминающая лицом Петра I, встала, что-то говорила, а я плавно уходил в забытьё у окна после пирожка с киселём. Она уставила на меня свой громадный императорский перст, и двое стоявших рядом взрослых бросились ко мне, подняли со скамейки. Как в тумане, видел я Марию Марковну; она взяла меня за руку, и отбуксировав в конец зала, прислонила в углу возле дверей. Выйти из зала оказалось невозможным. На смену директрисе выходили другие ораторы, и словно сквозь вату доносились до моего замутнённого сознания угрозы в адрес врагов народа, чужаков-космополитов, наймитов и замаскировавшихся агентов мирового империализЬма. Я слышал слова, смысла которых не понимал. Самые слова эти были мне, семилетнему еврейскому ребёнку, жившему в провинциальной Литве, неизвестны и в силу того, что я ещё очень плохо знал русский язык. До школы основным моим языком был идиш, на нём и думал я, и общался с бабушкой, почти не владевшей русским, и родители мои научились русскому лишь на войне: отец – на передовой, мать – медсестрой в прифронтовом госпитале. Мне представлялось, что сегодня всё, что творится вокруг меня на улице и в школе, является неким притворством, игрой, как говорили дети во дворе, «понарошку», возможно, спектаклем, подобно тому, что видел я в драмтеатре и опере, куда, бывало, меня брали с собой родители, или как на митинге по случаю открытия памятника генералу Черняховскому, который при большом стечении народа, с цветами, венками и музыкой я наблюдал с высоты папиного плеча. Мне виделось, словно я прихожу домой, где меня встречает любимая бабушка, поглаживает по головке, протягивает ржаной сухарь, щедро намазанный брусничным повидлом, и, его пожёвывая, я буду с подоконника поглядывать на цепь ближних дворов, поглаживать нашего Маврикия и разговаривать с ним. Совершенно явственно я ощутил во рту вкус ржаного сухаря с повидлом, повеяло ароматом и теплом кухонной плиты, на которой сушились бабушкины сухари из вкуснейшего ржаного литовского хлеба, покупавшегося в магазине Гобермана не без нашей с братом помощи, каковая состояла в том, что наше присутствие в магазине давало бабушке возможность закупать хлебца и муки втрое больше: давали на троих. Сухари сушились партия за партией, они от времени старились, черствели, крошились и отдавались на съедение. Сушилась новая партия, однако, попытки полакомиться свежим и тёплым пресекались. Бабушка говорила, что тёплые нельзя, а то будет «завороткишок», и хотя мы не знали про «завороткишок», наши претензии не прекращались. Бабушка обещала, что мы их непременно получим, но это «на потом». А «на потом» – мы из неё наконец-то выудили, что это будет, когда скоро станет теплей и нас «повезут». Я уже и не спрашивал, куда нас повезут, ибо радости моей не было предела, оно было вроде само собой понятно – на дачу. От сухарей я мысленно переносился к будущему выезду на дачу. Мне виделось, как приедет «полуторка» с двумя дюжими хмурыми «поерим»46, говорящими по-польски, каждое третье слово которых – «жИды». Они погрузят наши «пожитки», и мы в кузове поедем в Поспешкес, где нас встретят радушные хозяева дачи: Зига Моркулис и его родители, любившие меня с братом и бабушку и целую зиму ожидавшие нашего приезда и других евреев-дачников, и не в последнюю очередь – аванса за половину летнего сезона.
Тем временем толпа за дверью зала рассосалась, выход открылся, благо, митинг закончился, и меня растормошили одноклассники. С Юрой Фризелем, соседом по двору, мы вместе вышли из зала и наткнулись у входа в буфет на Яшу Яжбина, который жил на Траку в доме, соседствовавшем с атлантами Артиллерийского училища, и Жору Геншеля, который жил в самом большом и красивом библиотечном дворе на той же улице, напротив скверика Францисканского костёла, где мы с Жориком сбивали каштаны с высоченных деревьев. Они пошли в буфет, а я вместе с Фризелем направился в туалет в конец коридора. Мы миновали буфет, медпункт, зубной кабинет, библиотеку, радиорубку, раздевалку, комнату техперсонала, и в ноздри ударил смрад дешёвого курева, жжёной бумаги и хлорки с фекалиями.
В туалете типа «сортир», с отверстиями «очко» в бетонном полу, курили старшеклассники, там, бывало, распивали спиртные напитки, преимущественно «чернила». Фимка Чёс, сверкнув металлом портсигара, постукивал о него папиросой «Казбек»47, готовясь прикурить которую вертел комбинацией пальцев правой руки так, чтобы перстень на безымянном пальце не ускользнул от вашего взгляда. Когда пришли времена рок-н-ролла и его короля Элвиса Пресли, я вспоминал Фимку, лицом как две капли воды похожего на Элвиса. Он был одет в тёмно-зелёные спортивные шаровары со светлыми лампасами, куртку того же тёмно-зелёного цвета с такими же лампасами вдоль рукавов и большим накладным карманом слева на широкой груди, щегольские кеды «All Star»48, на голове зелёная тюбетейка. Фимка был намного старше своих десятиклассников. Поговаривали, что их семья была репрессирована, мать и он вернулись в Литву не сразу после войны. Его отец после демобилизации поехал за ними куда-то в Сибирь, куда они были сосланы, и там был убит ножом в драке, а жили они там в глуши, где не было школы. Я часто видел его летом на спортивной площадке Артиллерийского училища, играющим в городки или футбол, где старшие ребята иногда и меня принимали поиграть за одну из команд. Спортплощадка не была обнесена оградой. Ближняя сторона начиналась сразу от тротуара улицы Пилимо, дальняя её сторона ограничивалась небольшим валом, поднимавшимся на заболоченную местами террасу, заросшую кустами акации, из тонких зелёных стручков которой мы, дети, делали свистульки. Там, за кустами, на сухих незаболоченных островках так называемых Вингряйских источников, от которых сегодня не сталось следа, где, по преданию, Наполеон, отступая, зарыл клад, Фимка покуривал план, играл в карты и кости, его движения были округлы, изящны, артистичны, напоминали жесты фокусника. В хорошем расположении духа, он всегда был в сопровождении двух-трёх смазливых девиц, на которых никогда не вис, а обхватывал руками их талии и мог так посмотреть на человека, что одного его взгляда бывало достаточно, чтобы тот сник и стушевался, а прозвище «Чёс» получил за свою бурную сексуальную жизнь. Фимка всегда приветливо относился ко мне и там, на площадке, никогда не давал в обиду. Вот и сейчас он, заметив меня, лукаво улыбнулся, подмигнул и спросил: «Vos hertzekh, Yonke?»49 Я приветственно салютовал ему рукой: «Adank, Fima, nishkose»50. Он был в авторитете…
Выйдя из туалета, мы направились назад по коридору мимо школьных кабинетов, и я увидел в радиорубке Витьку, стоявшего спиной к входу. Витька стоял на щербатых деревянных ступеньках, начинавшихся сразу за порогом, заслоняя тех, кто находился внутри. Любопытный Фризель приостановился рассмотреть происходившее внутри, я же, как ужаленный, к удивлению моего Фризеля, пулей метнулся прочь. Внезапно захлёстнутый океанской волной неосознанного страха, я дёрнул по коридору к лестнице и взмыл на второй этаж, совершив вынужденную посадку у не затворённой двери нашего 1Б, где меня задержали жующие ириски Геншель и Яжбин. Они предложили и мне выломать одну или две из плитки, какие лежали в школьном буфете большими коричневыми листами популярного детского лакомства. Выломав две штучки, вернул плитку, тут же протянутую подошедшему Фризелю, я стал жевать липнущие к зубам твёрдые, как гранит, коричневые квадратики.
Возбуждён и встревожен, беспокойно озираясь, я сделал шаг вперёд и повернулся так, чтобы видеть весь коридор. Меня одолевало смутное чувство надвигающейся беды, погружавшее вовнутрь себя, и то ли хотелось видеть, то ли казалось, что в дальнем конце коридора замаячили силуэты моих родителей, как бы плавно скользивших мне навстречу и манивших меня жестами, но я не смог сойти с места, споткнулся, упал. Мне помогли подняться одноклашки, вспоминавшие сегодняшние «рыцарские турниры» и смеялись, обсуждая произошедшие курьёзы, и я подумал, что они смеются надо мной, моей неуклюжестью. От падения мои зубы ещё сильней вонзились в ириски, видение родителей растворилось в сумрачной кишке полутёмного коридора, и вместо них материализовался Витька со своею сворой. Витька не парил, не скользил, как родители, а приближался тяжёлой медленной поступью, акцентируя каждый шаг и словно зависая на миг перед следующим. Я застыл, как серебряные и бронзовые лицедеи на Rambles51, ужас и безысходность целиком завладели мной, сковав движения и подавив первый порыв удрать в класс, дверь в который была отворена – и никаких препятствий. Зубы мои не стучали от страха только потому, что завязли в прилипших, сковавших челюсти ирисках. А Витька уже неотвратимо приближался с оглушительностью пассажирского поезда, мчащегося к раскрытому окну твоего купе, и – ой, гевалт! – мерзкие щупальца приближавшейся фантасмагории вцепились мне в шею и плечи, я зажмурился, съёжился, втянув голову в плечи, и получив болезненного «леща», услышал брань фальцета: «Доигрался, жидяра, завтра вас всех свезут, паршивый жидовский выблядок». Мои ноги одеревенели, не двигались. «Витьки» поволокли меня, «подбадривая» пинками, один из которых оказался особенно болезненным, попав мне промеж ног, отчего я завопил. Я силился закричать, кликать Фиму Чёса на помощь, но издавал лишь негромкое мычание.
На втором этаже у двери кабинета завуча меня поставили на ноги, слегка поддерживая, одернули пиджачок, поправили воротник и, постучав в дверь, подтолкнули в кабинет. Приведённый в полное сознание болевой и шоковой терапией, cпоткнувшись от толчка, я впал в кабинет, и ясно слышал преамбулу моего обвинения, озвученную Витькиным соло в сопровождении нестройного морморандо своры: «Этот холёный еврейский барчук играл и выё… (чуть не проговорился он) веселился в коридоре, и говорил: „Хорошо, что Сталин умер“». Завуч от неожиданности выпучила глаза, обвела всех усталым недоумённым взглядом. Воцарилась звенящая тишина, нарушенная её глотающим горловым звуком. «Ты это говорил?» – выдавила она из горла. Я промычал что-то невнятное, мой рот продолжал быть скованным сладкими, вязкими ирисками, из него сочилась слюна, подступал кашель, и завуч, с высоты своего педагогического опыта, поняв физиологию, приказала мне выплюнуть, но будучи затюканным и неспособным подавить внутренний тремор, сделать этого я не смог, и она послала в медпункт за фельдшером. Тем временем Витька «со товарищи» бубнили: «Да-да, он говорил, он смеялся, кривлялся внизу, мы видели, слышали, они враги народа…». Пришла работница медпункта, завуч поблагодарила Витькину шайку за бдительность и предложила быть свободными. Они вышли, давая выйти и стихающим выхлопам своего деланного «справедливого гнева». Завуч послала за Марией Марковной, медработница быстро вычистила мне рот, сунула под нос ватку с нашатырным спиртом, отчего лицо оросилось слезами, и спустя минуту-другую я почувствовал себя уверенно и спокойно. Гнетущее ожидание опасности миновало, плюс прирожденная легкомысленность моей натуры позволяла быстро забывать о своих детских невзгодах. Я ещё не умел оценивать ситуацию: они только начинались. Пришла Мария Марковна, медработница посадила меня на стул у входа в кабинет и удалилась, а я наблюдал за стоявшими между окном и письменным столом педагогами, говорившими полушёпотом, но не смог ничего уловить. Завуч велела мне подойти и указала на стул. Передо мной села Мария Марковна, по другую сторону стола завуч заняла своё рабочее место. «Ты говорил „хорошо, что Сталин умер“?» – «Нет». – «А что ты говорил?» – «Я ничего не говорил, я устал, я хочу домой и хочу сухарик с брусникой». – «Какой ещё сухарик?» – завуч перевела взгляд на классную и снова на меня. – «Что бабушка сушит на плите, вкусный». – «Ты говорил что-нибудь про Сталина – вождя нашего?» – «Нет, это они кричали про Сталина». – «Что они кричали?» – «Они говорили, что Сталин умер». – «А кто это – они?» – «Те, кто бегал по коридору». – «И кто бегал по коридору?» – «Все бегали». – «Ты тоже бегал?» – «Нет, я играл в „кучу малу“». – «Ну, а почему Квачёв привёл тебя и что он тебе сказал?» – «Витька сказал, что я фуцин и „жиблядок“ и скоро нас повезут». – «Куда повезут?» – «На дачу. Когда потеплеет, бабушка сказала. В Поспешкес». Мария Марковна сидела, как в кино, словно стараясь смотреть поверх головы впереди сидящего, выпрямив спину и вытянув высокую белую шейку. Длинные, с ярко-красным маникюром растопыренные пальчики рук тянулись от опущенных плеч и прикрывали коленки. Она не произнесла ни одного слова. Её лицо стало непроницаемым и неподвижным, лишь тронутым неким подобием улыбки сумасшедшего, который сам себе на уме. Завуч встала, перенесла стул и села между мной и моей учительницей. «А что вообще сегодня случилось? Кто умер,» – задала она наводящий вопрос, – «ты знаешь?» – «Знаю». – «Ну, так скажи!» – «Умер Der Vоntz». – «Кто? Повтори!» – «Der Vоntz». – «Это кто же такой?» – «Это тот, кто следит за тем, как мы живём, и окружил нас заботой и вниманием, и папин завод, и мамину парикмахерскую, и школу, и делает всем людям всё». – «Кто тебе это сказал?» – «Маврикий». – «Маврикий? Это ещё кто?» – «Наш попугай. Я знаю, – добавил я, – что Vоntz`а убил Карабас-Барабас». У нашей Марии Марковны открылся ротик, обнаживший ровненькие белые зубки, дыхание спёрло, она не могла вымолвить ни полслова, взгляд блуждал. Завуч опять поперхнулась, повторив горловой глотающий бульк. «Иди в класс», – сказала она сдавленным голосом, – и жди Марию Марковну». Я пошел в класс и сел за свою парту. В классе никого не было.
Мария Марковна пришла не скоро. В ожидании её я вынул из портфеля книжку Шарля Перро «Мальчик с пальчик» и стал рассматривать картинки в ней. Видимо, это занятие длилось недолго, я задремал, утомлённый ворохом событий. Меня разбудил не приход Марии Марковны, а стук мётел, швабр и вёдер входящей в класс старой пани Яньки – Янины Гвидоновны, уборщицы, которая любила пообщаться со школьниками в риторической манере, не ожидая ответа сказать несколько фраз на тутейшем наречии. Впрочем, и ответить-то ей далеко не каждый мог, поскольку дети не понимали эту мову. Вот и на этот раз, завидев меня, пани Янька, подойдя, выдала следующую тираду: «Тен паскудны, бжидки Вицька, цо ён тобие зробил? Може ты цось такиего мувил? Тераз вшисткие виедзон цо сие стало з тобон. И вшисткие розмавион о тым. Я мышьле, же ты ниц ние мувил, бо ние можешь дзиецко ниц о тым знаць. Але вы жИды бендзиете мяли клопут»52. Я в общих чертах, кроме последней фразы, где мне уже было достаточно известно слово жИды, понял, что сказала Ядвига Гвидоновна, потому что польская речь ежедневно была на слуху в нашем дворе и вокруг дачи в Поспешкес, где жили в основном поляки и тутейшие. Мария Марковна слышала последние слова пани Янькины, ибо в этот момент входила в помещение, протянула мне дневник, пропажу которого я не заметил, и, укоризненно взглянув на уборщицу, сказала, чтобы я не слушал пани Янькины глупости, хотя эту речь, кроме слова «жИды», вряд ли понимала и она. «Собирай книжки, Йона, я отведу тебя домой!» Я положил дневник и «Мальчика с пальчик» в портфель, повесил на плечо мешки с причиндалами, и мы отправились в недолгий путь. Всю дорогу Мария Марковна молчала, довела меня до подъезда и лишь там спокойно так сказала: «Иди, Йона, домой, отдыхай! А я зайду к твоей маме на работу». – «До свидания, Мария Марковна!» – «До свидания, Йона!»
Дома меня встретила бабушка, едва удержав: покормила меня картофельными блинами, посыпанными сахаром, напоила чаем, и я побежал играть в конструктор – подарок дяди Семёна Берзаса. Бережно вскрыв коробку, я обнаружил в ней множество различных по форме, длине и ширине дырчатых реек, пластинок, кругляшек, шайбочек, гаечек и винтиков, которые были разложены по своим отсекам, и тонкую книжицу, в которой давались примеры возможных сборок, и с головой погрузился в новый интерес: в освоение игры, которая ждала меня со вчерашнего вечера…
Субботним утром 7 марта проснулся я рано. Вчера за игрой в конструктор уснул и не помнил, как меня укладывали в постель. Мама и папа собирались на работу. Продолжая нежиться в постели, не открывая глаз, я ловил голоса, доносившиеся из родительской спальни, где разговор шёл на литовском, которым папа и мама пользовались в повседневности так же, как идиш, и переходили на литовский, чтобы «дитя не поняло». Они поцеловали меня перед уходом, папа сказал, чтобы я сидел дома, никуда не ходил, что в школу сегодня не надо, и бабушке наказал смотреть, чтобы я «куда не выскочил». Ни в понедельник, ни во вторник, ни в последующие дни я в школу не ходил. Мама и папа сказали, что я исключён из школы за плохое поведение, и теперь они не знают, когда я пойду снова. Известие сие меня нисколько не опечалило. Будучи домашним ребёнком, до школы не ходившим в детский сад, я не стремился в большие сообщества сверстников, моей компанией всегда были дети двух соседних квартир третьего этажа нашего дома. Однако дети нашего двора почти все были моими ровесниками-первоклашками и, видимо, науськанные родителями и учителями, бойкотировали меня, что сегодня, оглядываясь в прошлое, не кажется непостижимым – все тогда жили в страхе и тревоге. Я не был инфицирован детской патриотической бациллой: не Мальчиш-Кибальчиш, равно как и не Мальчиш-Плохиш. Меня считали упрямцем, непослушным учеником, шалуном, нарушителем дисциплины, но учился я на хорошо и отлично, поэтому все были удивлены обнаруженным в дневнике двойкам и единицам.
Потом приходил «какой-то дяденька», гладкая лысая голова которого была отполирована и сияла настолько, что отражала свет электрической лампочки, тем самым не делая необходимым применять слепящий свет рефлектора, обычно используемого «дяденьками» в беседах. Похаживая в скрипучих сапогах взад-вперёд по комнате, он вопросительно косился на Маврикия, но мудрая птица гордо хранила молчанье, лишь внимательно фиксировала своим древним мигающим оком «поставленные» папе с мамой вопросы. Поскрипывая, держа руки сложенными за спиной или затягиваясь папиросой «Герцеговина Флор»53 с золотым ободком на гильзе, он распространял вместе с имперской непоколебимостью сильный запах тройного одеколона и табачного дыма. Моё внимание особенно привлекли победоносные дяденькины густые чёрные с лёгким зеленоватым отливом усы, видать, крашеные не совсем свежим контрабандным «Титаником»54, которые топорщились во все стороны света, не оставляя сомнений в том, что могут смертельно жалить. Угадывались какие-то будто знакомые черты, они подсказывали мне, будоражили моё детское воображение, я напрягал память, но чего-то недоставало… Меня отослали в родительскую спальню, где мне нечем было себя занять, и плотно притворили дверь. Я не мог там слышать разговора взрослых, включил и стал накручивать шкалу ВЭФ’а, из которого полилась чарующая музыка, и тёплый хрипловатый голос пел что-то непонятное, окутывая меня своим «зефиром»55. Однако «боль, что скворчонком стучала в виске»56, не стихала, нарастала – и внезапно озарение снизошло: из яйца моей интуиции вылупился, как птенец исполинской сказочной птицы Рух57, образ оборотня, который сейчас вёл беседу с моими родителями. Я понял, я узнал его! Это же Карабас-Барабас, стриженный бритый и переодетый! Это была его победа, победа Карабаса над «Vontz`ем». Но мне уже не было страшно, я перевалил через этот хребет… Между тем родители решили отправить меня с бабушкой к сапожнику, мастерская которого на улице Траку была неподалёку, за углом, напротив атлантов. Мы вышли из дому вместе с родителями и державным порученцем. Сопровождаемая скрипом, запахами и сиянием Советской Родины тройка стала стучаться в двери Шаевичей – семьи наших соседей и друзей, жившей за стеной. Потом папа говорил, что дяденька приходил из домоуправления по поводу ремонта нашего подъезда…
Стараниями инспектора ГорОНО старика Гурдуса я был водворён в ту же школу, в тот же класс – по его принципиальному настоянию. На решение этой задачи ушло всего два месяца, в течение которых родители занимались со мной дома, чтобы я не отстал от школьного курса. Триумфальное «возвращение Радамеса»58 состоялось 4 мая 1953 г.
2016.09.10
Cвадьба дворника
Свадебный кортеж тронулся от ЗАГСа и медленно приближался кo двору молодожёнов. Разгоняться-то было некуда… Отдел ЗАГС на углу улиц Пилимо (лит. Pylimo) и Палангос (лит. Palangos) был на другой стороне улицы – прямо напротив 9-й школы, учениками которой были почти все детишки нашего двора, высыпавшие из дому и с нетерпением ждавшие прибытия свадебного кортежа. Если выйти на проезжую часть и смотреть в ту сторону, то видны и школа, и ЗАГС. Близко, ну, совсем рядом…
Без кортежа невозможно было никак, ибо он являлся важнейшим атрибутом свадебного протокола, и состоял из трёх автомобилей «Победа»59, украшенных гирляндами цветов и лентами. В первой, украшенной белыми лентами «Победе», на капоте которой среди белых цветов сидела «коронованная» розовощёкая светловолосая кукла, на заднем сиденье располагались молодые. Впереди, в белой рубахе, с белой бутоньеркой в петлице чёрной тройки, рядом с водителем важно восседал свадебный Сват, стержневой задачей которого были заботы о кушаньях и напитках, должных быть своевременно поданными к столу, соблюдение ритуала, очерёдности свадебных церемоний и присмотр за общим порядком. Второе и третье авто, также в цветах и лентах, везли свидетелей, дрýжек60 и ассистентов, участвовавших в церемонии в составе свадебной свиты, и остальных сватов, каковыми бывали и родители молодых, в отличие от свадебного Свата, выбиравшегося чаще всего из числа дядьёв или старших братьев жениха.
Весть о предстоящей свадьбе облетела двор ранним утром. Её принесла домой моя бабушка, вернувшись из магазина со свежими халами61, и рассказала об этом за субботним завтраком. После завтрака родители поспешили на работу, а я, погладив чубастую головку нашего любимца попугая Маврикия62, поболтал с ним, покормил его с руки хлебными крошками. Уже выходя из дому, слышал, как наш красавец, тоже слышавший весть, хоть и не был знаком с новобрачными, пел свадебную эпиталаму63.
Родителей невесты и жениха давно не было в числе живых. Они погибли в военное лихолетье или от голода и болезней после войны, но не были забыты сватами в тостах свадебного застолья. Сваты старательно готовили помещение, расставляли лавки и сервировали столы, покуда свадебная кавалькада объезжала Доминиканский костел и ЗАГС. В роли сватов задействовали тёток и дядьёв, делегированных деревенским кланом. Свадебным Сватом был старший брат нашего Юзика Гэнюсь.
Гэнюсь ростом на голову превосходил приземистого и широкоплечего весняка64 Юзика, большущая голова которого громоздилась на тонкой шее и была увенчана смело торчавшими ушами-лопухами. Вместе с носом картошкой они не портили его приветливую улыбку, редко покидавшую широкое деревенское лицо, напоминавшее кастрюлю или походившее на известного кукольного персонажа Гурвинека65, члена Клуба Весёлых человечков. Но улыбка… «Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится…»66. Нетрудно понять и представить себе, что подкупал он этой своей обаятельной улыбкой и невесту свою взял именно ею.
Молодая же, в сравнении с сорока-сорокадвухлетним женихом, была таковой в прямом смысле слова. Ей было на вид лет двадцать шесть–двадцать восемь. Возможно, она, если вглядеться, просто сохранила первозданную свежесть и эдакой бесовской огонёк больших зелёных глаз, сочетавшихся с игривой грубоватостью её повадок и движений и никак не вязавшихся с обликом простушки, не наделённой вящей привлекательностью. Гэлька готовилась стать молодухой, прожив со своим состоявшим в чине дворника неугомонным Юзиком в незарегистрированном браке около двух лет, усердно помогая ему на равных.
Жили они предельно скромно, почти ничего не покупали в магазинах и питались исключительно привезёнными из деревни Рукойни (лит. Rukainiai67) продуктами семейного агропрома. Сало, деревенские ветчинка и колбаски, картофель, лук, чеснок, белый творожный сыр и творог, яблоки и сливы, – всё это было своё – вкусно и неприхотливо. Соленья и маринады, повидла и варенья, домашнее «плодововыгодное» (так в народе с усмешкой называли плодово-ягодное) вино и мутноватый самогон с родины нередко дополняли и разнообразили их стол. Видать, копили они денежку на свадьбу; Юзик много работал, был весел и общителен и чаще всего улыбался. Казалось, что ему всегда хорошо. Всё в жизни встречал он с улыбкой.
Гэнюсь, чьими стараниями Юзик переселился «с вёски» в столицу и обосновался в ней, давно жил в Вильнюсе, старался выглядеть солидным мужчиной, облачался в тройки, носил на левой руке «загарек»68, правой между указательным и безымянным пальцами «тшимал»69 дорогую папиросу и частенько наведывался к Юзефу, покровительствовал ему. Соседи говорили, что Гэнюсь стоит на базаре «под галей»70, продаёт продукты семейного агропрома, любит погулять-покутить, повеселиться. Во время оно (после войны прошло пятнадцать лет) население ещё не оправилось от разрухи и нужды, семьи ещё жили без мужиков-кормильцев, а прилавки магазинов ломились от изобилия продуктов, которые лет через десять перешли в разряд дефицитных деликатесов. А тогда далеко не каждый мог себе позволить твердокопчёные-твёрдовяленые колбасы, буженину, белужий бочок, коньячок и уж тем более икорку красную и чёрную, продававшуюся на развес из больших жестяных банок и берестяных туесов. Приходя к Юзефу на привычный мутноватый «сельхознапиток», Гэнюсь «когда-никогда» приносил немного чего-нибудь этакого, они садились к небольшому квадратному столику, а их междусобойчик старательно обставляла деревенской снедью и зеленоглазым вниманием будущая жена дворника. Гэнюсь, в свою очередь, готовился в свадебные сваты и относился к этому с большой серьёзностью и пониманием почётного долга. Надо заметить, что имена невесты и Свата всеми произносились со свойственным «тутэйшей мове» характерным гэканьем. Гэнюсь в своём вильнюсском кругу был шановным71 паном Хенриком (польск. Henryk).
Свадебный «электорат», кучковавшийся внутри двора у подворотни, состоял в основном из детворы, а со стороны улицы толпились наиболее трепетно ждущие девчонки во главе с жившей в дальнем углу двора вперёд смотрящей высокой толстой бабой, волосы которой были заплетены в косы и уложены в причудливой венок. Немного расставив ноги, задрав венценосную голову и подбоченясь, Дануся устремляла взгляд в сторону приближающегося кортежа и была готова немедленно дать ребятне команду перекрыть въезд. Детвора была начеку, чтобы, как водится, растянуть толстую бельевую верёвку, увитую луговыми цветами и листвой, и требовать выкупа.
Нарядные гости: стриженные и причёсанные, свежевыбритые мужчины в галифе и сапогах, густо надушенные и напомаженные женщины в ситцевых и шёлковых платьях и летних туфлях не спеша, по одиночке и парами собирались у входа в жильё новобрачных, ставшее сегодня свадебными апартаментами. Смазливые «паненки»72 выходили из расположенной справа от ворот парикмахерской и включались в оживлённую дворовую беседу. Тёплый летний день располагал, к тому же слева и справа от двери сваты предусмотрительно поставили скамейки. Для окурков ими были предусмотрены две лежавшие на табуретах круглые, пока еще сверкавшие нетронутым жестяным блеском банки из-под селёдки.
Квартира Юзика помещалась на первом этаже посредине нашего трёхэтажного дома, внутри мощёного булыжником двора с «проплешинами» – грунтовыми островками, один из которых у дощатой, отворявшейся наружу двери, бывало, зеркалил лужицей, и тогда представлялось взору отражение крепких Гэлькиных ляжек и трусов. По обе стороны двери невысоко от земли глядели во двор два двухстворчатых окна с форточками. За ними полупрозрачные занавеси. А между занавесями и оконным стеклом заботами Гэльки широченные белые подоконники расцветали горшками розовой герани. Сразу за дверью квадратная комната служила и кухней и гостиной, уставленная соответствующими их назначению нехитрым скарбом и простой мебелью. С потолка свисала обычная лампочка без абажура, освещавшая выкрашенные бледно-розовой побелкой стены, от фриза до пола покрытые накатом из мелких коричневых загогулин. Напротив входной двери, через проём, вторая комната смотрелась длинной кишкой, три окна которой выходили во двор, куда попасть можно было только с улицы Траку. Поставить в ней двуспальную кровать поперёк выглядело сомнительно, и легко догадаться, что свои ночи проводила наша парочка на матрасах, сегодня вынесенных к стене в первую комнату, прикрытых куском серой парусины и подпёртых просиженной серой плюшевой кушеткой; между ней и окном на высоком столике громоздились керогазы, примусы, горшки и кастрюли со свадебными кушаньями. Над ними колдовали две сватьи в фартуках и, переговариваясь между собой и советчицами на кушетке, гремели металлом и керамикой кухонной утвари.
До вселения Юзика в отведённую ему квартиру домоуправление длительное время производило в ней кое-какой ремонт, который так и не закончило: переделав вход и не облагородив голую штукатурку дверного проёма, почему-то заменило добротную дубовую дверь на теперешнюю дощатую. Вряд ли эти неудобные комнаты ещё до вселения прежних жильцов были предназначены для жилья. Когда-то они использовались в качестве подсобных помещений министерством пищевой промышленности, занимавшим часть дома рядом с магазином, что снабжал наш «околоток» мукой, хлебом, макаронами и сдобой. По всей видимости, когда население начало немного лучше и обильней питаться, а само министерство стало богаче, оно переехало в более просторные помещения, покинув наш двор и забросив подсобку, которая превратилась в грязную нору и отхожее место для бродяг и случайных прохожих, распространяя своё «амбре» на прилегавшее пространство. Пару светлых советских лет домоуправление с достоинством переносило жалобы местных жителей, пока, наконец, в дело не вмешались ангажированные нашим хлебобулочным магазином горпродторг и санэпидстанция. Домоуправление под давлением этих инстанций было вынуждено расчистить авгиевы конюшни местного значения, и в некоторое подобие монашеской кельи была заселена семья из трёх человек. Проживая согласно прописке, семья Зубицки в составе супругов Арона и Златы и их сыночка Нёмы, который, пострел, без устали гонял по булыжному двору на велосипеде, постепенно улучшала свои жилищные условия: провела водопровод и канализацию, установила умывальник и оборудовала туалетную комнату с унитазом, навесила настенные полки и вставила в дверную коробку вторую дверь, отворявшуюся вовнутрь, и всякие другие необходимые мелочи, пока не настал час их отъезда.
Прожив в нашем дворе года два, Зубицки в одночасье собрались и уехали в Польшу. B те годы компетентными органами было разрешено бывшим польским поданным, в соответствии с их желанием, покинуть Советский Союз и переехать на постоянное место жительства в Польскую Народную Республику, чем не преминули воспользоваться и Зубицки, которые перед войной бежали из восточной Польши и вкусили советского гостеприимства столь же бескрайнего, как сибирские просторы, но на крайне для них ограниченной колючей проволокой территории. Среди уезжавших поляков и белорусов не меньше было и евреев, которые имели дальнейшей целью отъезд на землю обетованную, чему очень даже, мягко говоря, способствовал тов. Владислав Гомулка73, организатор антисемитской кампании в Польше. Множество людей, стремившихся вырваться из жарких любящих объятий советского режима, не имевших ранее польского подданства, почувствовали возможность и платили немалые деньги за фиктивные браки, фабрикацию документов, давали взятки за получение разрешений и уезжали. Не воспользовались правом отъезда лишь те поляки, у которых были дома и хозяйства, а также нищета, люмпены и безграмотный люд. Освободились десятки тысяч квартир и рабочих мест, и в очередной раз произошла ротация местного населения, изменившая национальный и социальный состав Вильнюса.
Но вот, Дануся дала отмашку, дети растянули верёвку, перекрыв въезд. Тут же кортеж, загудев клаксонами, усиленными эхом подворотни, ворвался в неё и остановился перед последним, как бы неожиданным препятствием. И Дануся, встретившая цветами вышедших из машины новобрачных, под восторженные крики всего дворового люда и от его имени произнесла им на тутейшем польском помпезные поздравления. Молодые приветственно помахали руками и поспешили скрыться за выходившими в подворотню дверьми в квартиру, где проживала семья Игната, происходившего из того же клана «Рукойнев» и служившего дворником до Юзика на протяжении долгих лет. Молдые почистились, оправились после утомительных матримониальных процедур, слегка передохнули у Игната и, собравшись с силами, предстали перед ожидавшими их гостями. Гэнюсь, перепоясанный через правое плечо и грудь широкой зелёной лентой с орнаментом, и ассистенты с дрýжками рассыпали веером конфеты, горстями доставаемые из холщового мешка. Дети подпрыгивали, ловили летящие струи фонтана конфет и пряников, поднимали с земли упавшие, визжали и кричали в полном восторге. Ассистенты и Сват общались со взрослыми представителями дворового сообщества, дрýжки проследовали в квартиру Игната, приглашённые наблюдали за происходящим, покуривая, присев на скамейки, и стоя у юзиковой двери.
Тем временем заканчивались последние приготовления, сватьи и добровольцы из числа гостей доносили последние блюда и предметы сервировки праздничного стола, собранного из длинных толстых досок, закреплённых на ряд козел и накрытых скатертями. Вдоль трёхоконной стены стояли скамейки из табуреток переложенных такими же досками. Такие же скамейки с другой стороны были пока сдвинуты к стене, чтобы пропустить гостей, заполнявших внутренний ряд, и новобрачных. На правом торце выделялись два резных стула с высокими спинками для молодой брачной пары.
Наконец, в предвечернем июльском зное басисто прозвенел колокол вильнюсского Кафедрального собора. Часы на башне пробили пять часов пополудни, и новобрачные, не заставив себя долго ждать, под аплодисменты званных гостей и болельщиков прошли в свадебные апартаменты. Среди болельщиков, которые наблюдали со двора сквозь отворённые двери, был и я. Молодая пара церемонно пригласила собравшихся к столу, и когда гости расселись, Сват сказал вступительные слова, которые, как и первый после наполненных стаканов и стопок провозглашённый им тост, потонули среди застольного гомона. Дзеньдобрист74 поближе придвинул пюпитр, поместил на него свою кантычку75, крякнул, опрокинув стопку, предложенную одним из гостей, растянул меха, и понеслась… Мужчинка в наглухо застёгнутой коричневой рубахе, протянувший баянисту стопку, вместе с супругой походившие на двух воробушков, тряхнул чубом, запел, и постепенно его нестройное пение, подхваченное другими, заполнило этот счастливый, надо было надеяться, незабываемый свадебный фест76. «Независимые» наблюдатели разбредались. Ушёл и я.
В соседнем дворе, который насквозь простреливался взглядом и куда вёл широкий проход прямо из нашего двора, жили мои одноклассники, только вернувшиеся из пионерского лагеря, находившегося в Тракай77 на озёрах, и я хотел порасспрашивать их. В понедельник туда отправляли меня: на последнюю смену и в последний раз. Мне было четырнадцать, мой пионерский возраст заканчивался… Когда, наслушавшись лагерных историй, я расстался со школьными товарищами, то издали увидел движение: в нашем дворе велись хороводы и пляски, долетали разливистые звуки баяна.
А свадьба… свадьба пела и плясала у дверей и окон Юзиковой квартиры, в которой свадьба пела, ела и пила. Плясали не только участники свадебного пиршества, но и соседи, и дети, и покинувшие свои лавочки старушки, которые в то время были по годам гораздо моложе теперешних. Плясал и Юзик с молодой женой и с другими женщинами и, прервав танец, остановился рядом со мной и закурил. Я воспользовался моментом, поздравил его, вручил большую оранжевую астру, украдкой сорванную с клумбы соседнего двора. Мне доводилось с ним общаться: он приветливо улыбался, эта улыбка по-человечески притягивала, и у нас возникали короткие доброжелательные обмены несколькими фразами. Подошла Гэлька, Юзик протянул ей мою астру, показав на меня, и они оба неожиданно пригласили меня к столу.
Уж не знаю, чем заслужил я приглашение и не сказал бы, что меня туда тянуло, чтоб хотелось пойти, но, будучи весьма польщён оказанной честью, полагал неприличным отказаться. Не в последнюю очередь причиной моего неожиданного согласия стало и то, что я заметил среди гостей Алдону – привлекательную особу из соседнего двора, жившую на одной лестничной площадке с моим одноклассником. Я не был застенчивым отроком, и женщины, если и приводили меня в смущение, то не настолько, чтобы мной овладевала робость, парализующая начавший возрастать интерес. Природа, разве что рановато, брала своё, пробуждая либидо, и я делался определённо похотливым.
Ещё до того, как меня пригласили, я заметил Алдону в окно. Она сидела ко мне спиной, слева от неё никого, справа на торце места молодых… Я пожирал взглядом её стройную шею и плечи, за которыми я угадывал высокую ароматную грудь. Она обернулась, словно почувствовав… Говорят, так бывает: мой жгучий взгляд, пронзительный вызов…, и наши глаза встретились. Это было всего лишь мгновение – но оно добавило мне огня.
Препровождённый Юзиком к столу, я поздоровался и, спросив, можно ли, не дожидаясь ответа, сел на пустовавшее место слева от Алдоны. Алдона была приглашенной со стороны невесты, с которой они познакомились в больнице, где Алдона, с дипломом медучилища, работала медсестрой и куда незадолго до свадьбы поступила санитаркой Гэлька, и оказалось, что они живут по соседству. Было очень тесно, я сидел впритык к Алдоне, плечо к плечу, и чувствовал исходившее от неё волнующее магнетическое тепло. Большой вырез слегка приоткрывал её чудесные груди, и едва видневшаяся вожделенная ложбинка между ними настолько манила, что шея вытягивалась, выдвигая вперёд голову, готовую прильнуть губами к её прелестям. Она игриво посмеиваясь отстраняла меня: «Valgyk, Jona! Ką tu čia sau įsivaizduoji?78» Меня начинала пронизывать мелкая дрожь, я что было мочи сдерживал себя не зная от чего, мне казалось, что на меня косятся, и я инстинктивно принялся заглушать возбуждение едой.
Стол ломился в прямом и переносном смысле. Блюда едва умещались, наползая одно на другое – благо, в них не было ничего жидкого. Мутноватый бимбер79 лился рекой, распространяя лёгкий запах ржаного хлеба и сивухи, разбавляя дух чеснока и копчёностей. Я всё-таки почувствовал желание есть и взял налитую кем-то стопку: был тост. Алдона заметила мне, не рано ли я взялся за рюмку, но не настаивала: ведь в то время в окрестных деревнях это не было редким или необычным для моего возраста. Попивали мы винишко и в школе, да и дома я втихаря прикладывался к содержимому родительского буфета. Алдонино замечание только подзадорило меня – хотелось казаться взрослым. Раньше я не пробовал самогон, и первый глоток показался мне ужасным, но я понимал так, что такие напитки не для того, чтобы услаждать, и продолжал выпивать, когда рыжий с водянистыми глазами толстяк слева сосредоточенно и молча наливал. Отсутствием аппетита меня нельзя было упрекнуть, алкоголь дополнительно стимулировал, и я стал по кусочку пробовать из всего, что имелось на столе.
А на столе громоздились ароматные розовые кумпяки и малиновые полендвицы, ярко-красные киндзюки и серая пахучая вантробянка80, домашние чесночные колбаски и пирожки с лёгкими и потрохами, жареные карпы, квашеная капуста и малосольные огурчики, мочёные яблоки, кура, фаршированная гречкой и сливами, свежие овощи и многое-многое другое. Не скажу, что эта еда была вкуснее, чем кормили меня дома, но в деревенской пище есть своя особая прелесть. Я чуть-чуть захмелел, но Алдонино присутствие, случайные соприкосновения, которых я искал, и желание «не ударить лицом в грязь» перед людьми держали меня «в седле». Между тем и Алдона подвыпила, стала вести себя свободней, её серые глаза блестели, припухлые губки, как ярко-красный бутон тюльпана, чуть-чуть раскрылись, и мне показалось, что её внимание поглощено неким, невесть откуда появившимся хлыщом .
Я заметил его ещё во дворе, перед началом. Пёстро одетый, в широкоплечем зелёном пиджаке (хотя стояла безветренная жара: воздух не двигался, словно застыл), он ходил гоголем, покуривал, подходил то к одному, то к другому, как будто был со всеми знаком и каждому со смешком или улыбочкой что-то говорил. Ему также коротко с улыбкой отвечали, но когда он отходил, сопровождали недоуменным взглядом: «Кто это? Вы его знаете?» Впрочем, взгляд был короче, чем этот немой вопрос, и люди, не задерживая на нём внимания, продолжали то, чем были заняты до… Он сидел по другую сторону стола, напротив меня, почти что рядом с молодожёнами и, когда подпил, стал держать себя агрессивно: подходил, бесцеремонно похлопывал Юзика по плечу, и как только молодые вставали из-за стола, пытался встревать между ними, словно собирался приглашать невесту на танец. Юзик молча показывал недовольство, улыбка сходила с лица, он лёгким движением отстранял нетактичного гостя, чьё непонятное происхождение и претензии вызвали острую реакцию Свата. После короткой отповеди хлыщ занял своё место и некоторое время провёл в беседе с соседом по столу, с которым они сидели вполоборота один к другому, развлекая его не только словом, но и жестом… Со стороны могло показаться, что он глухонемой, или же его собеседник, который иногда кивая, чаще молчал. За широкими плечами «зелёного пиджака», как жаба на кочке, угнездилась красномордая деревенская фефёла с большим шёлковым бантом болотного цвета и что-то талдычила седоватому милицейскому капитану в белой гимнастёрке с орденскими планками. Милицейский состоял участковым уполномоченным. Фефёла, сложив пальцы правой ладони и отставив большой, указывала им участковому в сторону хлыща, сидевшего к ней спиной и увлечённого своей «пантомимой». Кто-то сказал тост, зашевелились кадыки, по горлам забулькал бимбер, прокричали «горько!», и дав гостям заесть, дзеньдобрист растянул меха, и понеслась «cicha woda brzegi rwie»81.
С первыми аккордами этой любимой вильнюсским людом песни «зелёный пиджак» понёсся и, замешкавшись из-за тесноты и узости проходов, опять не вовремя встрял между женихом и невестой, ещё и подтолкнув жениха. Невеста отпрянула и одновременно Юзик пихнул хлыща локтем в грудь. Уже и без того неуверенно державшийся на ногах «зелёный пиджак» полетел на Алдону, которая проявила отменную реакцию и, может быть, нехотя неожиданно врезала ему, на неё летящему, правой рукой наотмашь. Придя в движение от вынужденной ответной реакции и толчка, произведённого падением «зелёного пиджака», Алдона опрокинула стеклянный кувшин, зацепила скатерть, которая поползла увлекая тарелки со снедью с узкого перегруженного стола. Кувшин, уцелев, плеснул в меня своим содержимым – драгоценный бурачковый сельхознапиток обдал мою сорочку и брюки и потёк со стола тёплым мокрым дурно пахнущим ручейком. Алдона тоже от него малость подмокла, но невелика бы была беда, если б не выполз ей на платье отряд из пёстрых жирных гусениц винегрета, окрасивших его в цвета своих боевых знамён. Она ножом снимала внезапный «десант», а я стал обтираться носовым платком. Одна из сватей дала мне полотенце, и я промокнул ими, насколько можно, мокрые места. Закончив суетиться вокруг себя, я обнаружил, что Алдоны рядом нет.
В роль вступил участковый, потому что «зелёный пиджак», отлетев с разбитым от удара Алдоны носом, встал и полез с кулаками на Юзика. Ну, что за свадьба без драки? Но уж тут, безо всяких танцев, прикрывая своего жениха, теперь уже мужа, встала между ними Гэлька – грудь вперёд. Подоспел участковый, который с их помощью скрутил субчика. Оказался он никто и фамилия его никак, ни один из гостей его не опознал, никто не звал и не заметил, откуда и в какой момент он приблудился.
Лицо и рукм были орошены «божественным нектаром», я пропах сивухой и пошел к умывальнику. Там застал меня мой младший братишка. Он стоял в проёме входной двери и позвал, чтобы сообщить, что мама меня хватилась, пойдёт разыскивать. Условившись с ним о том, что он меня не видел, и уразумев, что надо сматываться, я ушёл тихо, по-английски.
В вечерних сумерках в соседнем дворе ребята и девчонки, сбившись в кучку, сидели на ошкуренных брёвнах и под бренчанье гитары пели «Бригантину»82. Было лето 1960 года, конец июля, и мы, будущие девятиклассники, уже готовились к наступлению нового учебного года. Тепло ощущалось не только в природе. Была «хрущёвская оттепель», и ветры подули инаковые… Мы зачитывались публикуемыми в «Новом Мире» главами книги воспоминаний Ильи Эренбурга83 «Люди. Годы. Жизнь», которая прорубила «новое окно не только в Европу, но и в наше собственное непредсказуемое прошлое84». От себя добавлю, что и в непредвиденное будущее… Это был восторг и это были надежды.
В кухонном окне второго этажа я увидел спортивную фигуру Алдоны, обтянутую спортивной маечкой сиреневого цвета. Издали она казалась мне ещё более манящей, непреодолимо влекущей. Там, за окном, крутился и её муж, который работал на железной дороге машинистом поездов дальнего следования, часто бывал в пути, и, вероятно, только что вернулся из рейса. Алдона в девические годы была подающей надежды метательницей диска, но, видать, судьба уберегла её от возможности стать мужеподобной бабой, как Нина Пономарёва85 или Тамара Пресс86, и нести славу советскому спорту.
Домой я пришёл поздно. Все, кроме бабушки, уже спали, и я неслышно прокрался к постели и лёг. Мне снились бригантина и «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер»87, и Алдона, которую я держал за талию и мы с ней уплывали в туман… А утром я уехал в лагерь под укоризненными взглядами родителей и бабушки, и реплику Маврикия: «Еr iz shiker und shtinkt vi a holtzzeger»88.
Из лагеря в город я вернулся в новую среду, в другой двор: на новую квартиру, в которую наша семья переехала, пока я хулиганил в лагере, был исключён оттуда за плохое поведение и выдворен за неделю до конца смены. Одноклассники рассказали мне, что мама беседовала с ними, а также ходила к дворнику выяснять обстоятельства моего пьянства. Юзик с Гэлькой меня не выдали, объяснив маме, что пьянства никакого не было, а лишь нечаянно кто-то из гостей облил меня самогоном, что отчасти было правдой. Больше в старом дворе я не бывал, не видел ни Юзика, ни Гэльку, ни Алдону. Бабушка и мама с папой молчали, всё ушло, забыл это и я …
2016.12.12
Дворовой Декамерон
Cызмальства Йону невероятно возбуждали смазливые женщины. Дворовые девчонки и одноклассницы, девушки старших классов и взрослые замужние женщины – соседки и парикмахерши, работавшие с его мамой в дамском салоне на улице Комьяунимо (лит. Komjaunimo), неизменно привлекали его детское мальчишеское внимание. Оголённые части тела (локоток, плечико, голени и коленки, грудь и шейка) магнетически притягивали его взгляд. Йона инстинктивно избегал прямо и пристально таращиться на эти манящие женские сокровища, старался не показывать виду. Он чувствовал подспудно, что неприлично во все глаза пялиться на женщину, что это может его и в неловкое положение поставить, но плавные линии и округлости женских прелестей, их лёгкая смуглость или матовая белизна, наблюдаемые даже украдкой, возбуждали в нём какую-то неосознанную силу притяжения и приводили в непонятный трепет. Дыбом вставали волосы, и пробегали по спине мурашки. В детстве было проще. Йона, не будучи застеснчивым мальчиком, запросто мог девчонку в щёку чмокнуть, и, что называется, позажимать, и пальчиками под юбку залезть, и далеко не всем его шалости не нравились.
К своим четырнадцати годам ещё неопытный Йона стал наливаться мужскими соками, взрослеть и пришёл к пониманию, что былые мальчишеские проказы на людях ещё более неприличны, чем наглое разглядывание, и могут закончиться конфузом. Однажды, в классе этак восьмом, учительница русского языка и литературы Надежда Яковлевна, которая Йону и так не жаловала, заметив во время урока, как он её обглядывает, во всеуслышание насмешливо пристыдила: «Ну, что ты там высматриваешь, Йона? Что нашёл ты там у меня?» Весь класс прыснул со смеху, и Йона почувствовал себя чрезвычайно неловко. Уже знал он из книг, что где, для чего и как. Особо яркое впечатление производили на него эротические сцены, красочно расписанные Шехерезадой в восьми томах «Тысячи и одной ночи», которые Йона, затаив дыхание, прочёл от корки до корки. Пафос и эротика восточных сказок индуцировали воображение и образно создавали в нём сюжеты несмелых желанных фантазий.
Вот и сейчас, во дворе своего дома, Йона похотливо уставился на статную чернобровую пани Ванду. В лёгком вечернем платье, словно Афродита, возродившаяся из пены, стояла она подбоченясь на трёхступеньковом крыльце рядом с окном своей квартиры. Родив двух дочек, в свои чуть более сорока пяти лет, она хорошо сохранилась, выглядела довольно свежо, смотрела мягко, но с достоинством, и твёрдо стояла на сильных стройных ногах. Налитая матово-белая грудь, вздымаясь, казалось, стремилась всей своею тяжестью вывалиться поверх выреза обтягивающего её платья. Пани Ванда, хоть и работала прачкой, сейчас с завитыми цвета воронова крыла волосами, напомаженными губами и подведёнными глазами, видать, куда-то собралась: выглядела весьма warta grzechu89. Она была неимоверно зла сегодня и возмущена безобразным поведением дворовых детей, дразнивших пришедшего с работы её глухонемого мужа, угрюмого дюжего мужика и мастера на все руки Юозаса. Она бранила этих «невоспитанных выродков – psia krew90», грозилась жаловаться их родителям, грудь её от возмущения задышала и забилась в тесном капкане платья, и оттого внешность этой женщины стала ещё соблазнительней.
Дочки пани Ванды и Юозаса (девятнадцатилетняя Беата и семнадцатилетняя Эльжбета), свесившись с подоконника, молча наблюдали за происходящим. Субботний летний день катился к вечеру, соседи возвращались с работы и в преддверии выходного дня готовились каждый к своему досугу. Ещё до того, как на крыльцо выскочила пани Ванда, к Йоне пританцовывая подошёл видный соседский парень, музыкант Зыгмунт, проживавший с мамой и сёстрами в дальнем углу двора. Соседи по двору и коллеги из вокально-инструментального ансамбля, приписанного к заводу «Электросчётчиков» звали его Женей. Увлечённый, дань времени, джазом, он играл там на барабанах и бонгах и сейчас с увлечением и даже форсом рассказывал и напевал Йоне «Истанбул Константинополь» и только что облетевший мир «Сибоней». Но появилась пани Ванда, и все переключили своё внимание, конечно же, на неё. Дочки заинтригованно, с ревнивой улыбкой поглядывали то на свою красавицу-маму, то на парней, недвусмысленно пожиравших её глазами. Женя был на семь лет старше Йоны, у него было много молодых подружек, но и он с чрезвычайным интересом поглядывал на пани Ванду, а ещё больше на дочек, и, поведя глазами, кивнул на них Йоне. Тут на велосипеде подкатил к ним Вовка Бузинов. Он жил этажом ниже Йоны. На десятку старше, он был крутым парнем, членом сборной Литвы по шоссейным гонкам и выезжал на соревнования за границу. Его не заинтересовали ни пани Ванда, ни её дочки. Бузинов спрыгнул с велосипеда, перевёл дыхание и, вынув из рюкзака, стал демонстрировать Жене моднейшие итальянские «коры». Туфли и в самом деле были шикарны: таких ни Йона, ни Женя не видывали. Они с восхищением поглаживали мягкую эластичную кожу крокодилов от «Bruno Magli» и щёлкали пальцами по их упругой бежевой подошве. Тем временем взгляд Йоны провожал пани Ванду, закончившую свою эскападу. Женщина удалилась, дочки исчезли с подоконника. Женя и Бузинов обменивались своими радостными новостями, Йона выслушал их, не встревая в разговор, и все трое разошлись по домам.
Семья Йоны уже сидела на кухне за обеденным столом. Бабушка подавала свой «легендарный» флойменцимес91, и все, в течение дня изрядно оголодавшие, накинулись на еду. По обыкновению обед у них бывал поздний – после работы, когда вся семья в сборе. Йона быстро поел. Пока старшие оставались за столом, неторопливо пили чай и вели семейную беседу, он незаметно прихватил из родительского буфета в гостиной бутыль крымского портвейна и помчался в соседний двор. Там было условлено встретиться с одноклассником, но тот украдкой, в окно жестами дал понять, что выйти не сможет: «родители…». Возвращаясь, Йона встретил шествующих под руку от крыльца наряженную, в шляпке, пани Ванду и Юозаса в костюме и при галстуке. Юозас гляделся очень солидно, даже элегантно, и улыбался. Таким Юозаса он видел впервые. Красивая пара…! Дома, когда попадали на язык, бабушка и мама не жалели похвал Юозасу и Ванде: «Юозас какой приятный крепкий мужчина! Добродушный, работящий, мастер на все руки, – так жаль, что глухонемой…! А Ванда, Ванда какая красавица! Работящая, хозяйственная, и какой у неё в доме порядок: и муж, и дочки как ею присмотрены, и как приучены дочки, такие хорошенькие – загляденье, ей помогать – не вертихвостки какие… » Йона молчаливо соглашался с ними. Он видел Кябласов такими же. Красавица Ванда часто захаживала в дамский салон, располагавшийся справа от подворотни. Маме же иногда доводилось ею заниматься. Хотя «robic fryzure»92 Ванда неуклонно ходила «tylko do pani Genoefy»93, но когда Гэньки не было на работе, то поправить причёску как бы неохотно, «szkoda, ze pani Genoefy nie ma dzisiaj, ale co zrobisz»94, обращалась к маме, чувствуя её нескрываемую симпатию. Известно ведь, парикмахер – один из немногих людей, с которым не прочь поболтать почти все клиенты и которому позволено даже несколько вторгаться в их личное пространство.
Так думал и Йона. Однакож пани Ванда жидёнка Йону не миловала. Не миловала вслух, громко, демонстративно. Как-будто ей лично он чем-то нашкодил. Впрочем, так же относилась она и к другим детям-«яурэйчыкам», zydlakam95. Являлись ли взрослые евреи объектами её ненависти, Йона достоверно не знал, но догадывался, что да. Во дворе, где половина жителей евреи, Йона с детских лет иногда слышал от них, переживших сталинщину, депортации, войну, потерявших родных и близких и чудом уцелевших, что нет у них любви к полякам, литовцам, русским. Но в то же время он видел, что их вызванные еврейскими обидами чувства не выплёскивались на каждого конкретного нееврея в отдельности. Бабушка, проведя военные годы в Молотовской области, в предуральской деревне, с большим уважением и признательностью относилась к татарам и башкирам, но русских, литовцев и поляков недолюбливала. Тем не менее, как вежлива, уважительна и добра она была к соседям, с каким вниманием добротой и любовью относилась она к тем нееврейским подросткам, что приводил Йона домой и кто к нему приходили. На себе же и ещё чаще и злей в отношении других еврейских детей, беленький и светловолосый, почти всегда и повсеместно ощущал он если не прямую антисемитскую агрессию или брань, то едкий намёк, недобрый взгляд и укоризну. Бывали такие часы и минуты, когда юный Йона с досадой размышлял об этой очевидной несправедливости. Как же так, что евреи принуждённо несут бремя ответственности за мнимую коллективную вину все вместе и каждый в отдельности, а те, в среде которых они были безжалостно унижены, ограблены и зверски убиты, безответственно и безнаказанно чинят суд над горсткой чудом уцелевших и в отдельности каждого из них ненавидят? Йону беспокоила эта неприязнь, но не посыпал он голову пеплом. Жизнь продолжалась и была ему удивительна и прекрасна. Он оглянулся на красивые, на высоком каблуке, захватывающие дух ноги пани Ванды и тут же мечтательно представил себе стройные, разводимые им, желанные ножки её девчонок, на которые давно заглядывался с возбуждением, охватывавшим всё его юношеское тело.
Так уж матушка природа распорядилась, что дочки Кябласов внешностью заметно родителям уступали. Девушки были тихонями. Небольшенькие, простенькие их личики с пятнистым румянцем, розовыми ушками и голубыми водянистыми глазками, русоволосые, – видать, не в маму пошли, а в женскую линию папиной семьи. На первый взгляд, этакие серенькие мышки. Однако не спеша, опуская глаза с лица долу, обнаруживалось, что сложены они были совершенно превосходно и так одевались, что их достоинства делались явственно заметны мужскому глазу. Грудь небольшая, но высокая, что делало её более выпуклой, стройная шейка и плечики, словно искусно изваяны рукой мастера, нежная голубинка жилок, проступавших сквозь едва прозрачную матовую белизну кожи, чудные точёные ножки с небольшими ступнями и прелестными пальчиками, – две изящные статуэтки. Они работали в разных больницах: старшая – медсестрой, младшая – санитаркой, и, как нередко в те времена случалось с молоденьким средним и младшим медицинским персоналом, приобрели определённый сексуальный опыт, вращаясь на работе, на дежурствах среди привлекательных врачей и харизматичных хирургов. Словом, в тихом омуте…
Разминувшись с Вандой и Юозасом, Йона увидел сестричек. Свесившись с подоконника, Беата и Эльжбета взглядом и напутствиями провожали своих родителей. Йона подошёл к окну, игриво поздоровался с ними. Они также игриво с улыбками ответили. Йона заметил, что в комнате темновато, за окном на стене дрожал белёсый блик и доносилось негромкое жужжание телевизора.
– Не показывает? – кивнув, спросил Йона.
– Не можно нияк настроиць, – ответила младшая, Эльжбета, а Беата тут же добавила: – Може у цебе получится?
– Давайте попробую! – сказал Йона и, не раздумывая, направился к двери. Дверь не была закрыта на ключ и распахнулась вовнутрь, со скрежетом подвинув высокую и тяжёлую жёлтую табуретку, оставленную у двери. Кто-то из девчонок взбирался на неё, чтобы усатую телевизорную антенну поставить на полку, прибитую в углу над входной дверью. Длинный провод тянулся от антенны к телевизору «Рекорд», низко сидевшему на втором этаже широкой треугольной этажерки, прямым своим остриём вписавшейся в угол комнаты. Комната одновременно служила и кухней и гостиной. У окна и рядом с телевизором стояли кушетки. Квадратный стол занимал центр, между телевизором, кушеткой и растапливаемой дровами и углем плитой и использовался в разное время дня для различных надобностей. На нём лежали раскрытые, довоенного издания, иллюстрированные польские книги, две пустые тарелки и столовые приборы, оставшиеся после недавней трапезы, возвышалась керамическая ваза с букетом бархатной сирени, окутавшей комнату ароматом весеннего цветения – нежным и чувственным дурманом. Йона вынул из-за пазухи бутылку портвейна и поставил её рядом с сиренью. Беата тут же взяла её, повертела в руках, рассматривая этикетки, и вслух прочла: «Массандра, пóртвейн розóвый, Алушта 1955 г.», – произнося на польский лад, и велела Эльжбете принести стаканы. Телевизор, не прерываясь, тихо жужжал.
Пока Эльжбета убирала со стола, Йона слегка прикрутил звук, торцом развернул телевизор, присел на стоявшую рядом низенькую треногу и пробовал покручивать настройки гетеродина. Беата встала рядом, почти вплотную, наблюдая за действиями Йоны. Сквозь лёгкий ситцевый халатик её налитое тело излучало мощную волну телесной энергии, которая вместе с сиреневым дурманом с головой захлёстывала Йону. Она сковывала его пальцы, и не на экран телевизора смотрел Йона сейчас, но на попу и ножки.
Искусной рукою
Коса убрана,
И ножка собою
Прельщать создана.
Корсетом прикрыта
Вся прелесть грудей,
Под фартуком скрыта
Приманка людей.
А. С. Пушкин, «Вишня».
Йона вожделел. Он вожделел не именно саму Беату как таковую, а сладостное соитие, какое впервые испытал с девчонкой из соседнего двора недели две назад в высокой траве меж кустов бывшего скверика евангеликов-лютеран, и с тех пор эротические ожидания не покидали его. Он уже готов был прильнуть сзади губами к стройной белой ножке повыше колена с внутренней стороны, но звон стаканов и голос Эльжбеты вывели его из этого обсада. Йона мастерски откупорил бутылку, налил по четверть гранёные стаканы. Они выпили. Ароматное сладковатое вино понравилось девушкам, и Йона налил ещё. Телевизор напоминал о себе, и Йона попросил одну из них забраться на табуретку и повращать антенной, когда он будет крутить настройки. Взобралась Беата, и в результате недолгих манипуляций антенной и настройками они поймали то положение, при котором изображение стало довольно стабильным и сносным, а жужжание вовсе пропало. Йона задвинул телевизор на место и добавил звук. Беата, спускаясь с табуретки, сделала неловкое движение, и не отрывавший от неё глаз Йона сквозь раскрывшийся разрез короткого цветастого халатика углядел, что девушка без трусиков.
Сучок преломленный
За платье задел;
Пастух удивленный
Всю прелесть узрел.
Среди двух прелестных
Белей снегу ног,
На сгибах чудесных
Пастух то зреть мог,
Что скрыто до время
У всех милых дам,
За что из эдема
Был выгнан Адам.
А. С. Пушкин, «Вишня».
Восторг и изумление одновременно отразились на лице Йоны. От неожиданности отрок выпучил глаза и приоткрыл рот. Беата заметила его реакцию, поняла причину и, не сильно смутившись, не сконфузилась: «Co? Wiesz co? Jestem u siebie w domu»96. Эльжбета ничего не видела и не поняла, лишь среагировала на возглас сестры. Она смотрела на экран телевизора, где красавица Александра Завьялова в роли игривой, но гордой девушки позволяет поцеловать себя робкому молодому влюблённому, которого играет Леонид Быков, из фильма «Алёшкина любовь». Присели к столу и уставились на экран и Йона с Беатой. Все трое выпили ещё пóртвейна. Здесь оказавшись между сестричками и физически ощущая их близость, наш отрок подвергся атаке собственных гормонов. Уже не в силах совладать с собой, он стал робко ласкать ножки сразу обеих сестричек, и чувственная дрожь Эльжбеты передавалась ему и заводила его с одной стороны, но обламывало шаловливо-ироничное хихиканье Беаты с другой. Однако Беата не противилась попавшей между своих прелестных коленок руке Йоны, напротив – положила ладонь поверх его руки. Она нерешительно прижимала руку Йоны, не давая однозначно понять, хочет ли она этим движением убрать его горячую ладонь или увлечь. Эльжбета, зардевшись, кокетливо строила Йоне глазки, наблюдая за сестрой. И так это плавно перешло в задорящий флирт, состоявший из прикасаний, поддразниваний, лёгких поцелуйчиков, наконец, погони и ловли друг друга вокруг стола, табуреток и кушеток. Описав несколько кругов и зигзагов, Беата забежала во вторую комнату, за нею Йона, пытаясь её ухватить, за ним Эльжбета, стремясь задержать Йону и как бы спасти убегающую от него Беату. Там Йона, не сумев увильнуть от Эльжбеты, корпусом налетел на Беату, и оба они упали на двуспальную родительскую кровать. За ними, не сумев удержаться на ногах, на ту же кровать свалилась рядышком Эльжбета. Нижняя пуговица отлетела и со звуком шлёпнулась на пол, другая расстегнулась, и распахнутый до груди халатик Беаты показал её чудесный округлый животик. Йона осыпал его страстными поцелуями и, лаская её прелестные ножки, губами опускался всё ниже.
Прельщенный красою,
Младой пастушок
Горячей рукою
Коснулся до ног.
И вмиг зарезвился
Амур в их ногах;
Пастух очутился
На полных грудях.
А. С. Пушкин, «Вишня».
Наконец, когда стремительно достиг он губами рыжевато-пушистого лобка, Беата стала затаскивать его на себя. Йона поддался, расстегнул верхние пуговки халатика и обнажил восхитительную, налитую матово-белую с голубыми прожилками грудь, торчком увенчанную небольшими розовыми, словно лилии, налитыми сосками. Покрывая поцелуями её нежную шею и грудь, Йона расстегнул гульфик, вошёл промеж сладчайших ножек, словно изгнанный из Эдема Адам, и безудержно погружался в нирвану. Эльжбета, как и старшая сестричка, стонала и сопела и, впопыхах стягивая с него брюки, сзади ласкала его оголяемые ягодицы, промежность и ноги, прижималась сосками к спине и обметала её поцелуями.
И вот все трое, раскованные и уже полностью нагие, жадно и беспрестанно предались взаимным ласкам, и когда прекрасная юная нимфа Эльжбета увидела готовность малыша, она с вакхическим стоном вовлекла его в себя и, как необъезженная кобылица, понесла своего седока. Когда поостыл первый пыл, они уложили Йону на спину и, вертя в ладошках, с неподдельным любопытством со всех сторон рассматривали его еврейский фалькон, играли им и болтали всякие интимные глупости. Волшебный вечер со сказочными наядами голубился в нескончаемых объятьях. Две райские гурии, они самозабвенно одаривали его неземными ласками. Йона порхал над ними, погружался в их глубины, достигая дна, и всё существо его ликовало и упивалось той негой и сладострастием, что дарили эти восхитительные античные богини.
«И он показал на свой зебб и спросил: «О госпожи мои, как это называется?», – и все так засмеялись его словам, что упали навзничь, и одна из них сказала: «Твой зебб», – но он ответил: «Нет!» – и укусил каждую из них по разу. «Твой айр», – сказали они, но он ответил: «Нет!» – и по разу обнял их…»
«Но тут Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи»97.
2019.04.10
Двери
Она вызывала во мне бешеное желание. Неукротимое. Не то, чтобы была она красавицей в обычном понимании того времени, когда окружающие говорят: «Какая красавица!», – так или иначе поводя головой или сладострастно причмокнув, или же, напротив, оторопев от изумления, лишь проводят взглядом. Не была она классическим образцом красоты или эллинским её типом – фигура, ножки… Она была такая… спортивного типа девчонка с короткой стрижкой, немного мальчишеским лицом: таким задиристым, подзадоривающим, с искоркой в глубоко посаженных синих глазах. Её всё – такое небольшое, но выпуклое, ладненькое, замшевое, светлое – источало непреодолимое притяжение, отключая мозги и оставляя лишь желание прильнуть. Порыв броситься без оглядки, мобилизующий налившееся кровью и страстью тело, всё же не без труда подавлялся, можно сказать, благодаря полученному строгому родительскому воспитанию и усвоенным приличиям. Мы не были знакомы, увы, и, натурально, белокурая Богиня не обращала на меня – четырнадцатилетнего толстенького мальчика – внимания, как бы я ни пялился на её проходящие мимо и без промедления удаляющиеся круглые коленки. Она жила где-то в нашем околотке, но попадалась на глаза не часто: впервые промелькнула после того, как я был изгнан с последней смены пионерлагеря и вернулся домой на новое место жительства. Во всяком случае, не замечал знакомых мне парней и девчат среди почти всегда её сопровождавших друзей и подруг. Но каждое её появление невольно до предела натягивало во мне тетиву, и образ её потом всплывал, беспокоя воображение.
Прошло примерно года два с половиной. Я уже закончил десятилетку, подрос и повзрослел, и с девушками научился обходиться более решительно. Однажды мы с ней впервые оказались в замкнутом пространстве Вильнюсского кафе «Таурас» (лит. «Tauras»). Я увидел Богиню так близко, как никогда, и сердце моё затрепыхало… В кафе играла живая музыка, пела Люба Тихонова, очень красивая молодая особа с трагическим лицом. Улыбка как бы тенью проскальзывала на нём, подчёркивая некую роковую фатальность. В интерьере бежево-кофейных с серым оттенком стен с барельефами бизонов или туров, напоминавшими наскальные изображения, высеченные нашими первобытными предками, как факел, светилась Богиня. Рядом с небольшим подиумом в компании музыкантов она оказалась в числе подруг Любы, с которой мы были знакомы, и это обстоятельство уже само по себе сближало… В одном из перерывов я подошёл к Любе и, кивком дав ей понять свой интерес, был представлен Богине.
