Хаос, Смерть и Символ: Дело Избранного
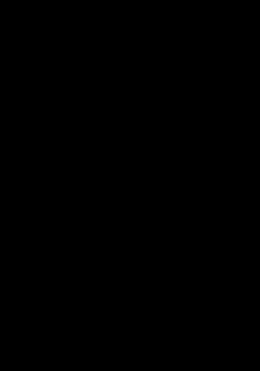
Пролог
Клиника называлась «Санкт-Элис». Это было старое здание на окраине города, вдалеке от шума улиц, от глаз прохожих, от солнца, которое редко заглядывало сюда даже летом. Оно стояло, забытое временем, словно само по себе было пациентом – замкнутым, больным, но всё ещё дышащим.
Обнесённое высоким железным забором, покрытым ржавчиной, как будто его покусала сама старость, оно выглядело скорее, как особняк богатого маньяка, чем как медицинское учреждение. Ворота скрипели при каждом движении, даже если их никто не трогал, а, возможно, это просто ветер напевал свою собственную историю.
Стены были обвиты виноградом, не тем зелёным, сочным, что плодоносит летом, нет, здесь лоза была серой, как будто высохшей за сотню лет, её ветви цеплялись за камень, как пальцы сумасшедшего, пытающегося удержаться на краю пропасти, а листья – крупные, пятнистые, с прожилками, похожими на вены – свисали, как языки мёртвых деревьев.
На улице всегда шёл дождь, не сильный, не бурный, постоянный: капли, которые никогда не заканчивались. Он бил по крыше, по стеклу, по земле, как будто кто-то внутри здания слушал музыку из вечного плача. Небо над «Санкт-Элис» было всегда одного цвета – грязно-серого, без намёка на свет. Даже ночью дождь не прекращался, только тогда он казался чёрным.
Все окна дома были защищены решётками. Или это были просто украшения? Иногда трудно понять разницу между защитой и клеткой.
Но внутри… Внутри было тепло, удивительно тепло, как будто здание хранило в себе какой-то древний источник жизни. Полы были покрыты старыми, но аккуратно уложенными коврами. Стены – белые, почти слишком чистые для места, где живут те, кто потерял связь с реальностью. Пахло лавандой и антисептиком – странная смесь, которая успокаивала, но напоминала, что ты не дома.
Камеры в углах работали бесшумно. Они следили за каждым шагом, каждым взглядом, каждой тенью, которая могла быть не тенью, но мало кто обращал на них внимание. Те, кто здесь жил, давно перестали верить в то, что видят.
Двери были тяжёлыми, с металлическими ручками, но без замков. Лишь иногда они закрывались – не потому, что нужно было запирать, а чтобы создать иллюзию выбора. Пациенты могли попытаться уйти, но коридоры вели только друг к другу или в никуда.
Палаты были просторными: с кроватью, столом, окном, но окна смотрели в пустоту – не на улицу, не на сад, а на стену соседнего корпуса, покрытую серыми листьями винограда. Иногда казалось, что за стеклом кто-то стоит, но, когда подходишь ближе – никого нет.
В столовой всегда был горячий чай, свежий хлеб и тишина. Люди ели медленно, потому что знали, что здесь некуда торопиться.
В коридорах, между палатами, между историями, ходил высокий мужчина с аккуратной бородкой и двумя головами. Его шаги были неслышны, голоса – противоречивы: одна голова говорила правду, вторая – ложь, а иногда они менялись местами. Так выглядела «Санкт-Элис». Место, куда отправляли тех, кто переставал видеть мир как все, но может быть, именно поэтому они видели больше.
***
Его звали Ростислав. Он был высокий, даже слишком высоким для этого мира – будто рост его тела пытался компенсировать хрупкость разума. Кожа на лице – бледная, почти прозрачная, как бумага, сквозь которую просвечивают мысли. Руки – длинные, сухие, с узлами на суставах, словно он всю жизнь боролся с чем-то невидимым. Волосы – тёмные, растрёпанные, всегда немного спутанные, как будто их не касалась расчёска много дней подряд.
Но больше всего выделялись глаза: они были большими, серыми, глубокими, в них постоянно проскальзывала тревога – не явная, не кричащая, а тихая, как шепот из другого века. Иногда казалось, что он смотрит не на тебя, а сквозь тебя – в мир, где нет границ между реальным и воображаемым, где легенды живут не только в книгах, но и за углом, в темноте лестничных клеток, в зеркалах, которые отражают не то, что должно быть.
Он говорил мало, словно каждый звук, произнесённый им, стоил ему чего-то важного, зато записывал всё. У него был блокнот – потёртый, кожаный, с обтрепанными краями, обложка потемнела от времени и прикосновений, страницы были исписаны до последней строчки. Писал он аккуратно, печатными буквами, будто переписывал священный текст. Каждое слово было важно, каждый день – новый лист, новые строки, новое подтверждение того, что он прав.
Блокнот был его щитом, его доказательством, его единственной связью с тем, что он называл «реальностью», потому что, если он остановится – если хоть на один день забудет записать то, что видел – всё рассыплется окончательно: стены, пол, небо над головой исчезнут, как театральные декорации, за которыми ничего нет.
Он видел вокруг себя древние легенды, не в книгах, не в фильмах, здесь, сейчас, в этом мире, который остальные считали обыденным.
Первый раз это случилось в кофейне. Он помнил тот день – запах кофе, музыкальный фон, голоса посетителей и она – женщина, которая вошла и заказала капучино. Её волосы… они двигались, не от ветра, не от движения – они жили своей жизнью. Он прищурился и тогда понял.
Сотни змей, мелких, юрких, скользящих, словно тени между пальцев. Они выползали из-под её шляпы, свешивались на плечи, спускались по спине: золотисто-коричневые, с блестящими чешуйками, с каплями яда на кончиках клыков. Она остановилась у стойки, заказала капучино и улыбнулась баристе. Улыбка была слишком широкой, слишком резкой, как будто её лицо разрезали ножом и зашили обратно.
Ростислав сидел в углу, напряжённый, с кружкой остывшего эспрессо перед собой, его руки дрожали, он не мог отвести взгляда.
Это была Горгона, та, которую искали в мифах, женщина-чудовище, превращающая взглядом в камень. Но почему сейчас? Почему здесь?
Потом были другие: те, кто ходил по ночам и оставляли следы в виде песка, девушка в парке с крыльями летучей мыши под пальто, мужчина в метро, в окне вагона отражались только его глаза, полицейский, который говорил голосом его матери. Все они – знаки, предупреждения, они хотели, чтобы он понял, но он не понимал.
Всё время казалось, что мир вокруг стал немного другим, более ярким, более страшным. Он начал записывать всё в блокнот, чтобы не забыть, чтобы запомнить, как выглядит истинная реальность, ту, которую скрыли от него:
«17 апреля. Сегодня в лифте я видел человека без лица. Он нажал кнопку 13, хотя её нет в этом доме, когда я спросил его об этом, он просто рассыпался в пыль».
«20 апреля. На стене в подъезде – глаза. Большие, человеческие, но с зрачком в форме полумесяца, когда я протянул руку, они моргнули. Теперь они следят за мной».
«25 апреля. Кошки больше не боятся меня, они смотрят, они знают».
Люди начали его бояться не потому, что он делал что-то плохое, а просто он знал слишком много. Он знал, о чём они мечтают, кого они ненавидят, кого хотят убить, кого хотят обнять.
Однажды он рассказал своей девушке, что видел сон: она целовалась с другим, он чувствовал, как она сожалела об этом. Она ответила, что он псих. Он хотел объяснить, но она его бросила.
Его друзья стали уходить, коллеги по работе – избегать, а начальник сказал:
–Ты теряешь связь с реальностью.
Ростислав ответил:
– Нет. Я просто вижу её такой, какая она есть.
Его отправили в клинику после того, как он нашёл Химеру под старым театром. Он кричал, что она питается страхами людей и выпускает их наружу в виде теней, на него надели наручники, а потом – белую рубашку с длинными рукавами.
Теперь он сидел в этой комнате: белые стены, белый стол, в углу – видеокамера. За дверью с окошком иногда проходят люди в белых халатах. Он знает, что они тоже не настоящие, это просто маски, белые фигурки на фоне белых стен.
Врач приходил каждый день. Высокий, с бородой и странным взглядом, будто он тоже кого-то видит.
– Вы долго сопротивлялись, – говорил он, открывая папку с бумагами.
Ростислав молчал и смотрел на него, проверяя, моргает ли тот.
– Это были иммертивные обострения. Галлюцинаторное расстройство. Очень редкий тип. Вы воспринимали внешний мир через призму древних мифов. Это защитный механизм. Ваш разум пытался найти смысл в хаосе.
– Значит, Горгоны, Химера… всё это – я сам?
– Да. И нет. Это было внутри вас, но вы верили в это так сильно, что для вас это стало реальностью.
Он говорил ещё долго. Про лечение, про медикаменты, про то, что Ростислав должен принять диагноз. Тот слушал, но уже не слышал Мысли уходили куда-то далеко, в ту кофейню, в тот день, когда всё началось.
Тогда он сидел и писал. Возможно, врачи правы, возможно, он сумасшедший. Но если это сумасшествие – значит, этот мир – тоже выдумка, и может быть, именно поэтому он до сих пор видит змей в волосах медсестры, даже здесь, даже за решёткой.
***
Её звали Алиса, она не любила сказки, просто ей так понравилось имя, которое не принадлежало ей, как будто, выбрав его, она пыталась выйти за пределы самой себя, стать кем-то другим, кем-то, кто может уйти отсюда в кроличью нору.
Она была блондинкой, но не той светящейся, как солнце, а тусклой, словно волосы давно перестали видеть свет. Её лицо было худым, почти прозрачным, как будто кожа натянута на кости слишком туго. Под глазами – тёмные круги, глубокие, как следы давних бессонных ночей. Она выглядела так, словно ночь пришла к ней слишком рано и больше не уходила.
Иногда, когда в комнате становилось особенно тихо, появлялся белый кролик. Он не был мягким игрушечным существом из детских книг. Нет, его шерсть была сероватой, лапы – длинными и худыми, как у человека, а глаза – черные, без зрачков, как дыры в мире.
Кролик доставал из кармана пиджака старые, потёртые часы на цепочке и качал ими перед её глазами. Тик-так. Тик-так. Но время не двигалось. Оно стояло, как будто само застыло в страхе.
– Пора, – говорил кролик.
– Уже? – спрашивала она.
– Всегда уже, – отвечал он.
Тогда она отмахивалась от часов, как от назойливой мухи, тогда кролик исчезал, но через несколько минут или дней – кто знает, сколько здесь длится время – он возвращался снова.
Алиса жила в комнате, которая не кончалась, нет, не в переносном смысле и не потому, что ей было скучно, а потому, что комната действительно не имела границ. Иногда она делала десять шагов и оказывалась там, откуда начала. Иногда открывала дверь и попадала обратно в ту же палату, только с другой стороны, потом комната растягивалась, как резина, потом сжималась, становясь меньше ладони.
Стены могли быть близко или бесконечно далеко. Пол иногда казался мягким, как песок, иногда холодным и каменным. Мебель – кровать, стол, стул – всегда была на месте, но никогда не находилась в одном и том же положении дважды. Иногда кровать стояла в углу, иногда висела под потолком, иногда её вообще не было, и тогда Алиса просто сидела на полу и смотрела в пустоту.
Зеркало было единственной вещью, которую она понимала, или, может быть, наоборот – оно понимало её. Оно висело над умывальником, с чёрной рамой, покрытой паутиной трещин. Когда она смотрела в него, то не всегда видела себя, а иногда – других, иногда – того самого кролика, иногда – угол, которого раньше не было, иногда – зеленую вывеску «выход». Но каждый раз, когда она приближалась к ней, она отодвигалась.
Сначала она пыталась найти выход с помощью карты: рисовала план комнаты, ставила метки, делала заметки. Но бумага не выдерживала реальности – линии исчезали, точки смещались, углы меняли форму. Однажды она нашла свою собственную подпись в правом нижнем углу, хотя не помнила, чтобы писала её.
Потом она решила просто сидеть в одном месте и ждать. Думала, что, если ничего не делать, комната успокоится, но нет, стены продолжали двигаться, пол дрожал, дверь открывалась сама собой, даже когда никто не подходил к ней.
В какой-то момент она поняла: «Я живу внутри себя и не могу найти дверь обратно», – шептала она себе, глядя в зеркало, в котором она не отражалась.
Она часто задумывалась: а есть ли она сама? Или это всё – просто часть комнаты? Человек, потерянный в своём уме, где стены – мысли, пол – воспоминания, а дверь – лишь обещание, которое никогда не исполняется.
Она знала, что раньше жила вне этой комнаты, что у неё были друзья, возможно, семья, может быть, работа. Но теперь это было так далеко, как будто случилось в другом времени, в другой жизни.
Иногда она пыталась вспомнить голос матери, или запах дома, но память расплывалась, как масло на горячей сковороде. Оставались только образы: окно, которое не открывается, кровать, которая исчезает, зеркало, которое показывает не тебя.
Она не плакала, но это не значило, что она не хотела плакать, просто слёзы тоже стали частью комнаты. Они катились по щекам, падали на пол… и исчезали, не достигнув земли.
Врачи приходили иногда. Они говорили с ней мягко, записывали что-то в свои блокноты. Один из них сказал:
– Вы потеряли связь с пространством. Это может быть результатом травмы.
– А если я не хочу возвращаться? – спросила она.
– Что вы имеете в виду?
– А если я боюсь, что за дверью будет хуже?
Врач замолчал. Потом сказал:
– Мы поможем вам.
Она улыбнулась. Очень тихо. Почти грустно.
– Вы не можете помочь тем, кто не хочет выходить из себя.
Иногда, когда ночь становилась особенно долгой, кролик возвращался, часы в его лапах не тикали, только висели, как пустые глазницы.
– Пора, – говорил он.
– Я знаю, – отвечала она и начинала искать опять выход.
***
Его звали Максим. Он был самым спокойным из всех пациентов клиники «Санкт-Элис». Казалось, ему было легко и он принимал свою судьбу, но на самом деле, просто он ничего не мог изменить, а когда ты знаешь заранее, чем всё закончится – гнев становится бессмысленным.
Он не говорил, часто просто кивал, даже если никто ничего не спрашивал. Больше всего выделялся его взгляд. Глаза у него были темные, почти чёрные, будто в них отражается не свет, а тень. Он смотрел так, будто уже видел собеседника в другом возрасте, в другой жизни. Иногда казалось, что он знает, что тот скажешь, до того, как сам об этом подумает, возможно, так и было, потому что Максим жил в обратном времени.
Он помнил, как его хоронят, как родители стоят у могилы, сжав руки, как подруга бросает цветок в яму и шепчет: «Прости». Он запомнил этот день очень хорошо. Погода была пасмурной, но он чувствовал, как капли дождя падают ему прямо в сердце. Только вот… он ещё не умер, и он ещё не встретил женщину, которую полюбит. Её звали Алина. Он знал её лицо, голос, запах, как она будет плакать, когда они увидятся в последний раз. Но он не знал, где она сейчас. Думал, стоит ли начинать отношения.
Он видел старость ребёнка, которого ещё не родили: девочка, с его глазами. Она сидела на лавочке, с книгой в руках, и рассказывала кому-то историю о человеке по имени Максим – отца, которого она никогда не знала, но всегда любила. Но этого ребёнка ещё не существовало, а, значит, он ещё не стал отцом, и, возможно, уже не станет.
Каждый день для него был повторением будущего. Он просыпался, зная, кто умрёт завтра, кто уволится с работы через месяц, кто предаст его через год. Он знал, что через неделю его бросят, но ещё не начал встречаться с девушкой.
Время для него текло вспять. Он входил в каждое мгновение уже с его результатом. Он делал шаг – и знал, куда он приведёт. Он целовал кого-то – и знал, что однажды перестанет, он не мог забыть: только вперёд и только назад.
«Я не предсказываю. Я вспоминаю. Просто моё прошлое – ваше будущее», – говорил он врачу, который не слышал его, потому что врачи не слушали тех, кто говорит о вещах, которых не может быть.
Он часто записывал свои мысли в старую тетрадь, исписанную в обратном порядке. Последняя страница – начало. Первая – конец. Он знал, что умрёт молодым, узнал об этом давно, может быть, в четырнадцать лет. Тогда он первый раз увидел собственные похороны, с тех пор каждый день был попыткой понять: почему? Почему он помнит то, чего ещё не случилось? Почему он живёт в мире, где все другие считают себя свободными? Почему он не может просто начать?
Он писал: «Зачем мне жить, если я уже знаю, как умру? Зачем начинать, если знаю, как закончится?».
Но продолжал жить, потому что не мог иначе.
Один раз он попробовал рассказать о своих видениях. Рассказал матери, что она заболеет через три дня, она не поверила. Через три дня заболела. Лихорадка. Больница. Страх в её глазах. Она смотрела на сына как на проклятие.
Он сказал другу, что тот потеряет работу, друг обозвал его идиотом – на следующей неделе его уволили. После этого Максим перестал говорить. Он понял: люди не хотят знать правду, если она приходит слишком рано.
В клинику его отправили после того, как он заявил, что видел смерть человека за два месяца до покушения. Полиция проверила его записи. Они совпадали с событиями до мельчайших деталей, но вместо того, чтобы назвать его свидетелем, его признали больным. Теперь он сидел в белой комнате, с белыми стенами, которые ничего не отражали, кроме его мыслей.
Он смотрел в окно. За ним был дождь. Он знал, что завтра он не закончится.
«Я не сумасшедший, – шептал он себе. – Я просто не успеваю стать собой до того, как стану мёртвым».
Камера в углу молчала. А он плакал, плакал не потому, что боялся умереть, а потому, что он уже прожил смерть.
***
Её звали Ника. Она была самой молодой среди пациентов клиники «Санкт-Элис», ей не исполнилось и двадцати, но в её глазах отражался возраст, который невозможно измерить годами. Глаза были темными, почти чёрными, как будто в них кто-то вылил ночь. Взгляд у неё был прямым, но никогда уверенным – потому что она не знала, чьи эмоции сейчас испытывает: свои или чужие.
Она была хрупкой, почти призрачной. Белая кожа, тёмные волосы, собранные в небрежный пучок. Руки всегда холодные, даже в тепле. Она редко говорила громко, чаще шептала, как будто боялась, что слова принадлежат не ей, потому что это было правдой.
Ника могла видеть сны других людей: просто ложилась рядом – и оказывалась внутри их страха или желания. Это началось ещё в детстве, сначала она думала, что просто умеет чувствовать людей, потом поняла: она может входить к ним во сне.
Впервые это случилось с бабушкой. Ночью Ника проснулась от рыданий и увидела, как старуха трясётся под одеялом, шепча имя умершего мужа. Утром девочка рассказала, что видела его во сне. Бабушка побледнела и сказала:
– Ты не могла этого знать.
Но Ника знала, и с годами способность усилилась. Она могла просто лечь рядом с человеком – и через несколько минут уже была там, в его голове, внутри его сновидений. Иногда они были красивыми: поля, моря, дома из стекла и света, иногда – кошмары: безликие фигуры, голоса, которые шептали правду, которую никто не хотел слышать.
Она видела, как мужчина в соседней палате целуется с женщиной, которую никогда не видел в жизни, он плакал от счастья, а потом проснулся и сказал, что он одинок.
Она чувствовала, как мужчина верит в то, что видел Медузу Горгону, она снится ему, он покупает ей капучино и улыбается, надеясь, что она обратит его в камень.
Сначала она считала это даром. Потом начала понимать: это проклятие, потому что со временем она перестала отличать свои мысли от чужих. Однажды проснулась и услышала голос, который сказал:
«Ты больше не ты. Ты – сумма всех, кого ты видела», – это был её собственный голос. Или чей-то другой? Она не знала.
Её воспоминания начали исчезать. Сначала мелкие – любимый запах, цвет, песня, которую она любила. Потом важные: лица родителей, имя первой любви, дата рождения. Однажды она посмотрела в зеркало и не узнала себя. Зато узнала других.
В своём сне она видела мужчину, который ждал автобус, женщину, которая рвала фотографии, ребёнка, который кричал в темноте. Все эти люди спали где-то рядом. Их мысли текли в неё, как вода в треснувшую чашку.
Она стала бояться сна, старалась не спать по ночам. Сидела у окна, смотрела на дождь за стеклом и повторяла про себя: «Меня зовут Ника. Мне девятнадцать лет. У меня есть собака по кличке Лиса. Я люблю кофе с корицей. Я… я… я…».
Иногда она забывала продолжение.
Врачи пытались помочь. Диагноз был простым: «синдром внушённых воспоминаний», «гипнотическая зависимость от окружающих», «эмоциональная перегрузка», но ни одно из этих слов не объясняло того, что она действительно входила в чужие сны, что она чувствовала то, что чувствовали другие, что каждое утро она просыпалась с новыми страхами, новыми желаниями, новыми жизнями внутри себя.
Один раз она попробовала рассказать об этом врачу. Он внимательно слушал, делая заметки. Потом сказал:
– Это очень интересный способ выразить свою тревогу. Вы чувствуете себя потерянной, поэтому создаёте образы других людей внутри себя.
– Но это не образы, – прошептала она. – Это всё настоящее. Я не могу быть собой, потому что я слишком много людей внутри.
Доктор улыбнулся, как взрослый, которому стало жаль ребёнка, верящего в чудовищ под кроватью.
Теперь она сидела в своей палат и читала записи, которые сделала вчера, или неделю назад, или месяц, она Ника не знала точно. На бумаге было написано:
«Я хочу вспомнить, каково это – быть только собой. Только одним человеком. Только одной жизнью. Только одним сном».
Но она не помнит, когда в последний раз это было. Когда она закрывает глаза, она снова начинает видеть чужие лица, чужие голоса, чужие сердца, бьющиеся в её груди. Она просыпается, но не уверена, чьими глазами смотрит.
Тогда она снова говорила себе:
«Я Ника. Меня зовут Ника. Я существую. Я одна. Я – я». Это звучит как молитва или проклятие, или попытка вернуть себе саму себя.
***
Его звали Олег. Или нет? Никто точно не помнил. Возможно, это имя он выбрал сам, или ему его дали те, кто ещё мог называть кого-то по имени. Возможно, у него было другое имя, то, которое принадлежало до того, как всё изменилось.
Он был высоким, широкоплечим, с осанкой человека, который никогда не теряет контроля, даже если внутри всё рушится. Его лицо было спокойным, почти безмятежным. Аккуратно подстриженная бородка обрамляла нижнюю часть лица, придавая ему вид старинного священника или странствующего мудреца.
Но больше всего выделялось то, что нельзя было игнорировать. У него были две головы: одна справа, одна слева.
Обе говорили, иногда одновременно, иногда по очереди, иногда ни одна. Они были одинаковыми на первый взгляд – те же черты, тот же голос, те же глаза. Но если присмотреться, различия становились заметны. Левая голова смотрела в прошлое, правая – в будущее, одна знала правду, вторая – ложь. Иногда они менялись местами.
Он ходил по коридорам «Санкт-Элис» словно страж, которому поручено охранять не стены, а границу между разумом и безумием.
Каждый день начинался с проверки дверей. Он открывал их медленно, почти с почтением, смотрел внутрь, затем закрывал, не запирал, а просто проверял, есть ли кто-то за ними.
Он не носил блокнота, не записывал стенографии, а просто молча слушал. Иногда останавливался перед камерой и говорил:
– Они начинают уходить все глубже. Это плохо.
Никто не отвечал. Камеры не отвечали. Но он знал: его услышали.
Все в клинике знали Олега, но никто не понимал его. Для врачей он был просто охранником, а для пациентов – чем-то большим, некоторые видели в нём символ, другие – ключ, третьи – сам разум, потерянный между двумя гранями реальности.
– Почему у тебя две головы? – однажды спросила Ника.
Левая голова ответила:
– Чтобы видеть, что уже случилось.
Правая добавила:
– Чтобы знать, чего избежать.
– А ты кто? – спросила она.
Обе головы замолчали. Потом произнесли вместе:
– Мы – последний защитный механизм.
Олег родился с редким заболеванием – черепно-лицевой дизрафизм, который привёл к частичному срастанию близнецов в утробе матери. Второй плод развился не полностью: голова, часть шеи, но без тела. Она осталась внутри него, под кожей, за позвоночником. Иногда она просыпалась и говорила.
Он был ребёнком, когда впервые услышал вторую голову.
«Не верь им», – прошептала она ему однажды ночью.
«Кто ты?» – спросил он.
«Я – ты. Только правдивый».
С годами он понял: вторая голова – не болезнь, а память, при этом не его собственная, а чужая. Она говорила на языках, которых он не знал. Иногда предсказывала события, однажды она назвала имя женщины, которую он ещё не встретил, потом он встретил её. Она умерла через неделю.
Пациенты в клинике чувствовали его иначе. Когда он входил в палату, они замолкали, кто-то начинал плакать, кто-то смеялся. Многие говорили, что видят его в своих снах.
– Вы слышите её? – спросил однажды Ростислав, глядя на Олега. – Голову, которая говорит правду?
Тот не ответил. Только кивнул.
Работа в психиатрической клинике стала для него призванием. Он охранял не стены и не двери, он охранял границу между тем, что можно вылечить, и тем, что нужно принять.
Он знал, что большинство пациентов – не больные. Они просто видели то, чего другие не хотели видеть. Они жили в мире, где мифы были реальностью, время текло вспять, сны становились явью, а реальность – лишь обёрткой.
– Они не сумасшедшие, – сказал он врачу однажды. – Просто они не умеют притворяться.
Врач посмотрел на него с подозрением.
– Ты же понимаешь, что ты здесь работаешь, а не лежишь?
– Я здесь потому, что могу быть рядом с ними. Я понимаю их. Я тоже не нормальный.
Ночью, в комнате отдыха, он сидел один, снимал очки, смотрел в окно. Его вторая голова шептала:
«Ты скоро забудешь себя. Как все они. Ты уже начал терять границу».
– Я знаю, – ответил он.
«Хочешь остаться собой?»
– Нет. Я хочу остаться с ними.
***
Врач вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Его шаги затихли в конце коридора, будто он уходил не просто из комнаты, но из какой-то важной части себя. Он был низкорослым, плотно сбитым, с тёмными кругами под глазами – как будто сам проводил бессонные ночи, глядя на тех, кто потерял связь с реальностью.
Он прошёл мимо камеры наблюдения, мимо стены с трещинами, которые никто не чинил, мимо окна, за которым всё ещё лил дождь – бесконечный, непрекращающийся, словно небо проткнули иголкой.
Он подошёл к Олегу. Тот стоял у дальней стены, как будто ждал именно этого момента, или уже его пережил.
– Он хотел рассказать всем, что видит, – произнёс врач, глядя в камеру. – Но закончит свои дни в психушке.
Его голос прозвучал уверенно, но в нём проскальзывала странная нотка – не жалость, не страх, а что-то среднее между ними. Словно он знал, что говорит не совсем правду.
Голова справа у второго мужчины фыркнула:
– Как всегда. Люди выбирают удобную реальность. Даже если она ложь.
Голос был холодным, почти презрительным. Но в нём не было злости. Только усталое понимание того, что люди всегда будут выбирать комфорт, даже если это убивает их изнутри.
Голова слева заговорила чуть позже. Её голос был тише, медленнее – как будто она говорила сквозь время.
– Да… Жаль.
Это прозвучало не как диагноз, не как приговор, это было похоже на эпитафию. Врач кивнул и ушёл. Его силуэт исчез за поворотом, и коридор опустел. Только камеры продолжали работать, но они ничего не записали.
Потому что не было никакого врача, не было пациентов, не было клиники, а был только он – человек, который давно потерял себя, и теперь его разум разделился на части, чтобы не сгореть целиком.
***
Он сидел в белой комнате. Ей не обязательно нужно было быть белой, просто так ему показалось проще: белый цвет не отвлекает, он не вызывает вопросов, он ничего не значит, то есть, его можно игнорировать, точно так же, как и всё остальное здесь.
Это была не палата, не комната, это был интерфейс между тем, кем он был, и тем, кем стал.
Стены были ровными, но иногда дрожали, как будто за ними кто-то пытался выбраться. Пол гудел под ногами, будто ждал, когда же он решится сделать шаг вперёд. Воздух был плотным, как вода, и каждый вдох давался с усилием. Он не помнил, как здесь оказался.
Только знал, что раньше был студентом, или писателем. Иногда он находил старые черновики, исписанные его почерком. Строки, которые он не мог прочитать, потому что они двигались, меняли форму, переплетались друг с другом. Иногда слова выскакивали из бумаги и летали по комнате, как мотыльки.
Может быть, он просто человек, который слишком много думал, может быть, он был больным, может быть, он был сумасшедшим, или, может быть, он был единственным, кто видел мир таким, какой он есть.
Однажды он услышал голоса. Сначала это были шёпоты на краю сознания. Тихие, почти неслышные, как будто кто-то стучался изнутри. Потом голоса стали громче. Они говорили сразу все вместе. Они называли его по имени. По именам. Некоторые он не знал, другие были знакомы до боли.
Он увидел образы людей, которых он никогда не встречал, места, где он никогда не бывал, события, которых ещё не произошло. Но он знал их, как свои воспоминания. Он видел женщину с волосами из змей, человека без лица в лифте, химеру под театром. Он записывал всё в блокнот, уверенный, что это правда.
Потом он начал чувствовать, как разум начинает раскалываться. Сначала это было похоже на головную боль. Потом – на ощущение, будто внутри него кто-то есть, кто-то, кто хочет выйти, кто-то, кто уже давно живёт там, внутри, только ждал своего часа. Именно тогда он создал «Санкт-Элис» – пространство, в котором можно спрятаться от мира… и от самого себя.
Он собрал свою реальность из обрывков мыслей, страхов, желаний, ошибок. Он дал каждой частицу имя, образ, голос, лицо. Он – автор, персонаж, наблюдать и жертва. Он – творец иллюзии, в которую попал сам. Он хотел вспомнить, каково это – быть собой, только одним человеком, только одной жизнью, только одним сном. Он молился, чтобы это закончилось, а потом проклинал себя и весь мир. Он закрыл глаза и увидел ее: женщину с волосами из змей, она смотрела на него, улыбалась и шептала: «Я всегда знала, что ты один. Просто не хотел признавать это».
Он проснулся, попытался встать, сделать шаг, но пол уходил из-под ног, не буквально, просто казалось, что он должен быть под ним. Потом ему казалось, будто он двигался внутри самого себя, но уже не контролировал направление.
Он протянул руку – стена отодвинулась, или он просто подумал, что она отодвинулась? Каждый предмет здесь зависел от его восприятия, от его страха, от его надежды. Он кричал, а эхо ответило голосом другого человека, голосом Ростислава, затем Ники, потом Максима, потом всех сразу.
«Ты больше не ты», – сказал кто-то.
«Ты начал видеть», – прошептал другой.
«Ты потерял границу», – добавил третий.
Он – герой, который не может выбраться из своего романа. Писатель, который стал своим собственным персонажем. Слепец, который создал целый мир, чтобы не смотреть в лицо одиночества.
***
Его настоящее тело лежало где-то вдалеке от этого внутреннего хаоса в серой комнате без окон, без зеркал, обмотанное проводами и датчиками.
Иногда за дверью слышались шаги, голоса, щелчки замков. Он не ел, не пил, был на грани сознания: во сне Ростислава, в страхе Алисы, в воспоминаниях Максима, в чужих снах Ники, в двойном взгляде Олега. Всё это были он, только он, разорванный на части, чтобы не сгореть целиком.
В какой-то момент он произнёс вслух:
– Если я не проснусь… значит, я никогда и не был здесь.
Ему казалось, что, он вообще не существовал, иногда он плакал. Но даже слёзы не были его – это могла быть боль Ники, или последний проблеск человечности, который ещё не успел исчезнуть.
***
За пределами белых комнат и галлюцинаций в реальности, медсестра заглянула в палату.
Человек лежал неподвижно. Глаза были открыты, но смотрели внутрь себя – или дальше, за границы реальности. Дыхание было едва заметным, как будто он уже почти перестал быть. Тело – хрупкое, истощённое, словно мысли высосали из него жизнь.
Она посмотрела на него, проверила пульс, записала время, потом вышла, закрыв дверь. На лице не было ни тени эмоции. Просто ещё один пациент. Никто не знал, проснётся ли он, или останется там – внутри себя, в мире, где он был всеми и никем.
***
Тихие шаги прозвучали по коридору. Фигура в чёрном плаще с капюшоном прошла по этажам мимо спящей медсестры, которая даже не вздрогнула, мимо камер наблюдения, которые застыли на мгновение.
Дверь в палату была заперта, но она не остановилась, просто прикоснулась к ручке и прошла сквозь дверное полотно.
Она вошла и склонилась над ним. Его тело дышало так слабо, что это можно было принять за паузу между жизнь и смертью.
Фигура сняла капюшон, однако, лица не было. Но голос – женский, мягкий, как шёпот ветра через старые окна:
– Ты мне идеально подходишь, – выдохнула она и замолчала, на долю секунды казалось, что воздух стал плотным.
Затем…он резко вдохнул, глубоко, как будто только сейчас родился. Его глаза закрылись, а потом снова открылись, но теперь в них светилось нечто новое.
День первый. День и ночь
Я медленно открыл глаза – надо мной, словно неподвижная тень, висело плотное облако. Оно казалось близким настолько, что, подняв руки, я инстинктивно потянулся к нему, чтобы разогнать пальцами эту серую дымку. Голова раскалывалась от боли, будто внутри кто-то стучал кувалдой по железным стенкам черепа. Мысли прыгали и метались в сознании, как белки в колесе, бесконечно вращаясь, не давая ухватиться ни за одну. Я не мог понять, кто такие эти белки – просто образ, мелькнувший где-то на периферии памяти. Но почему-то знал: они безобидны, их не нужно бояться.
Затем перед глазами вспыхнули какие-то образы – картины, написанные маслом, старые рамы, покрытые пылью. Балерины в белых пачках, их движения, будто бы парящие в воздухе… Откуда это? Почему именно они приходят мне в голову? Я закрыл глаза, надеясь остановить этот хаос, но через секунду снова открыл – слишком много вопросов, слишком мало ответов.
И вот тогда до меня дошло: я лежу прямо на дороге, по которой, судя по звуку, быстро приближалась карета, запряженная двумя мощными лошадьми. Копыта грохотали по камням, деревянные колеса скрипели, а я все еще лежал, как выброшенная игрушка. С трудом собрав остатки сил, я совершил резкий кувырок в сторону – как раз вовремя, чтобы уйти от смертельного удара копытом. Меня занесло в канаву, полную холодной воды и грязи, а вслед полетели громкие, сочные ругательства кучера, который даже не замедлил хода, лишь зло выкрикнул что-то в мою сторону.
Встав с усилием, я стряхнул воду с одежды и попытался восстановить равновесие. В голове по-прежнему шумело, но я решил последовать по следу кареты – может быть, она приведет к чему-нибудь знакомому или хотя бы объяснимому.
Дорога была избитой, местами размытой дождями, и каждый шаг давался с трудом. Из щелей между камнями торчали корни деревьев, будто неведомые существа, пытающиеся выбраться на поверхность. Они цеплялись за мои ботинки, подстерегали, будто хотели удержать меня здесь, в этом странном, забытом месте.
Память осталась где-то далеко: не было ни имени, ни прошлого, ни дома, ни даже самого понятия, женат ли я или одинок. Пространство и время исказились, оставив лишь боль в голове и страх неизвестности.
Но вот вдалеке показалась река – огромная, широкая и темная. У воды собралась толпа людей, одетых разнообразно, будто они пришли со всех концов света. Справа виднелся деревянный мост, но никто не спешил по нему переходить. Все толпились возле лодки, которая медленно покачивалась на волнах. За рулевым веслом сидел высокий человек в черном балахоне, лицо которого было скрыто глубоким капюшоном. Он говорил громко, четко, почти командовал:
– Быстрее! Две монеты – проход свободен, места ограничены! По пять душ на скамью, плотно, без лишних движений! Без денег – никак!
С этими словами он ловко вытолкнул одного из пассажиров – горбуна с печальным лицом, тот упал на землю, растерянно смотря на свою утерянную возможность уплыть.
Когда лодка набрала положенное число пассажиров, капитан оттолкнулся от берега, уверенно управляя веслом. Лодка заскользила по воде, оставляя за собой белые дорожки. И только тогда я заметил: по реке текли звезды. Небо было темным и пустым, без намека на ночное светило, но в воде мерцали тысячи точек, будто звезды упали вниз, чтобы остаться там навсегда.
И я, стоя на берегу, задал себе первый осмысленный вопрос: куда же я направляюсь?
В стремнине реки, где течение становилось резким и зловеще шумящим, лодка вдруг остановилась. Капитан в черном балахоне, не говоря ни слова, схватил весло и начал выкидывать пассажиров прямо в воду – один за другим, как мешки с камнями, будто они были ненужным грузом. Вопли ужаса и отчаяния разрезали воздух. Многие из тех, кто еще минуту назад так отчаянно рвались на лодку, теперь исчезали под холодными волнами.
– Люди! Смотрите, он выкинул пассажиров! – закричал я, чувствуя, как по спине пробегает холодок страха и возмущения. – Справа есть мост! По нему можно переправиться! Зачем вы платите ему деньги?
Мои слова повисли в воздухе, словно глупые вопли заблудившегося ребенка среди взрослых деловых переговоров. Но едва я закончил, рядом со мной, будто материализовавшись из тени, возникли две высокие фигуры. Их силуэты казались неестественно темными, даже для этого места, где само небо было лишено звезд. Лица их скрывали капюшоны, но, когда первый заговорил, я заметил блеск длинных клыков, которые сверкали при каждом звуке его голоса.
– Парень, ты, это… не порти Харону Эребовичу бизнес, – процедил он, ухмыляясь так, что казалось, его лицо вот-вот распадется на части. – Кто тебя просил глаза кому-то открывать? Тут не благотворительность, тут проект.
– Да, парень, – добавил второй, ковыряя в зубах какой-то тонкой палочкой, – видишь мост – иди сам. Не надо вести никого. Это тебе не экскурсия. Вот, смотри, мы – вампиры. У меня осиновая зубочистка, между прочим, я сам себе иммунитет вырабатываю. Брату даже не предлагаю – зачем? Если его прибьют, мне больше достанется. Так и ты иди своим путем, не тащи с собой никого, понимаешь?
Я стоял, как оглушенный. Логика этих существ была страннее, чем река, которая текла вверх звездами. Я не мог понять, издеваются они или всерьёз, но в этот момент второй вампир внезапно уставился на мою шею, немного прищурился и затем безразлично махнул рукой:
– Смотри, он – собственность Смерти Эребовны. Видишь, клеймо на шее? Пальцем тронем – сразу получим.
– Точно, братишка, – сказал первый, кивая головой, – если мы его стукнем, будем наказаны. Ты, любезный, мост видишь – вот и иди по нему, пока цел. Только одно условие: бизнес Харону Эребовичу не порти. Ни в коем случае, не смей даже думать об этом.
– Родственники, что ли? – попытался я вставить слабую шутку, чтобы хоть как-то смягчить напряжение.
– Ишь, умный какой, образованный, наверное, – хохотнул один из вампиров, обнажая весь комплект острых зубов. – Нет, брат и сестра. Еще есть Гипнос, иногда зовет себя Оле-Лукойе. Вообще не связывайся с ним, даже для нас он сумасшедший. Понял? Все, топай давай. Мы тут за безбилетниками должны следить. По реке Безумия может ходить только Харон Эребович, не думай, что все эти терпилы тонут – некоторые выплывают. Те, кто достоин. Так наш бизнес-проект и называется: «Путешествие по реке Безумия Лтд». У нас еще пара идей в разработке. Но тебе мы их не скажем – ты слишком болтливый.
С этими словами оба вампира исчезли так же внезапно, как появились, будто растворились в воздухе или слились с тенью. Я остался один, смотря на мост, который простирался передо мной, как последний шанс выбраться из этой безумной игры.
Неведомая сила, будто чья-то невидимая рука, внезапно подхватила меня и перекинула вперед – прямо к самому началу моста. Я не успел даже вскрикнуть. Мир на мгновение закружился, а когда я пришел в себя, то обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как лодка Харона Эребовича снова вышла на стрежень реки Безумия.
С того места, где я стоял, открывался отчетливый вид: капитан, словно по расписанию, остановил лодку, сделал паузу – и одним точным движением начал выбрасывать пассажиров в воду. На этот раз они исчезали под звездной гладью без единого крика, будто их просто стирали из реальности.
– Иди, собственность Смерти! – прозвучало в спину, и, хотя голос был насмешливым, в нем явственно слышалось предупреждение.
Я медленно двинулся по мосту, чувствуя, как деревянные доски скрипят под моими ногами. Ветра не было, но откуда-то доносилось тихое журчание – будто кто-то напевал себе под нос колыбельную для сновидений. Чем выше становилась арка моста, тем сильнее мне хотелось остановиться. И вот, достигнув самой высокой точки, я замер.
Внизу, в реке, продолжала течь странная, почти живая вода. По ней плыли звезды, словно капли света, потерявшие связь с небом. Над поверхностью качались парочка лун – одна желтоватая, другая испускающая холодное голубое свечение. Проплыло нечто вроде животного, но не совсем: пять хоботов, покрытых мягкими переливающимися перьями, дергались в такт течению. За ним следовали текучие часы – они растекались, меняли форму, будто пытались найти правильный облик времени. Еще дальше, невозмутимо, как будто это было нормально, шагал жираф, только его шея была короче обычной, а пятна двигались по коже, как живые.
Из глубины реки вдруг поднялась огромная рыба – больше, чем любая, что мне доводилось видеть. Ее чешуя мерцала, как старинное золото, глаза были черными, как бездна. Она раскрыла пасть, и в этом зеве могли бы спокойно поместиться пара вампиров, карета с лошадьми и еще место осталось бы для какого-нибудь странствующего философа.
Сердце бешено заколотилось. Хотелось остаться здесь, смотреть вечно, но внутренний голос шепнул: «Не сейчас».
Я сошел с моста, и лишь сделав несколько шагов, заметил, что река исчезла. Не скрылась за поворотом – просто исчезла: ни воды, ни звезд, ни существ. Только пустота, будто её и не было никогда.
Передо мной простиралась дорога, уходящая в неизвестность. С каждым шагом она становилась менее определенной, будто рисунок, стирающийся с пергамента. Но я шёл. Что ещё оставалось?
Вскоре вдалеке показалась стена – массивная, высокая, покрытая символами, которые мерцали, когда я на них смотрел. Казалось, это не просто защитное сооружение, а граница между мирами.
– Паааааберегись! – раздался крик, полный паники и силы.
Еще до того, как я успел понять, что происходит, что-то сбило меня с ног, буквально сбросив с дороги. Я покатился по земле, чувствуя, как камни впиваются в кожу, и в последнее мгновение успел заметить – хвост белого коня. Длинный, пушистый, будто облачко, которое мелькнуло перед самым лицом.
Удар головой об камень был таким сильным, что мир мгновенно потемнел. Наступила тишина.
***
Второе пробуждение оказалось чуть более щадящим. Я открыл глаза, и надо мной, как будто специально для меня, сгрудилось плотное облако. Оно висело низко над землей, словно не решалось начать дождь, но вскоре из него закапали первые холодные капли. Мелкие, настойчивые, они стучали по лицу, напоминая о том, что лежать здесь больше нельзя.
Отогнав назойливое облачко руками, я медленно выполз из канавы, к которой меня так любезно «отправило» что-то. Тело было покрыто слоем грязи, камышей и ощущением легкой тошноты – как будто внутри кто-то осторожно встряхивал мою память, пытаясь что-то изменить или добавить. Я не знал, что хуже – забыть всё или вспомнить слишком много.
Дорога вела прямо к городу, чья массивная стена уже возвышалась передо мной. Она была древней, почти мифической. Каждый камень казался живым – покрытым лишайником, трещинами времени и странными символами, которые светились при взгляде под определенным углом. Ворота были сделаны из черного дерева, инкрустированного серебряными полосами, на которых виднелись руны, возможно, защитные. Сверху ворота увенчивала башенка с флагом – красным, с вышитым черепом, из глазниц которого свешивались золотые нити, будто слёзы.
За стеной виднелись крыши домов, некоторые из них были покрыты тем же мерцающим камнем, что и стена. Башни с часами, которые не показывали время, стрелки просто двигались в разные стороны, как будто пытались понять, куда им повернуть дальше. Над одним из зданий реяло знамя с изображением женской фигуры в длинном плаще – Смерти Эребовны? Возможно.
Я подошел к воротам. Они были закрыты наглухо. Рядом, на высоком столбе, висел огромный колокольчик, такой старый, что казалось, он вот-вот рассыплется. Но когда я дотронулся до веревки, чтобы проверить, работает ли он, раздался жуткий скрип – не колокольный звон, а скорее вопль духа.
