Дневник неофита: исповедь новичка
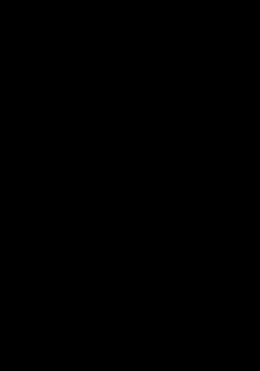
Мария (Манюшес) Свешникова
Посвящается Саше Кинчевой
за умение увидеть и показать красоту,
а также Татьяне Геннадиевне Поспеловой
и нашей маме за веру в меня
От автора
Когда мой папа стал священником, его назначили служить в глухую деревню на погост. То есть на кладбище. Интернета не было, а сарафанное радио работало хорошо, поэтому люди, искавшие ответы на вопросы о Боге, о вере и о самих себе, стали приезжать к нему, кто поодиночке, а кто и небольшими группками.
Папа принимал всех и с каждым подолгу обсуждал его проблемы и вопросы. А это значит, что все эти люди оставались у нас пожить со всем своим внутренним багажом.
Сейчас не вспомню наверняка, но, насмотревшись на это, кажется, лет в четырнадцать я впервые сказала, что могу написать книгу об ищущих Бога и о том, что они переживают. Тогда мои слова никто не принял всерьез, да и я сама скорее шутила, чем говорила серьезно.
К идее книги о новичках, приходящих в церковь, то есть о неофитах, я возвращалась несколько следующих десятилетий, пока кто-то не ответил ― напиши.
Поднатужившись, я сочинила первую страницу. Потом еще половину и примерный план. Главные герои пришли в голову мгновенно. Дальше дело застопорилось, хотя я даже показала написанное приятелю-издателю. Реакция его была вялой, хотя и одобрительной, и я бросила писать.
Прошло еще десять лет и две книги ― «Поповичи» и «Соусы Манюшес». Я уже начала сочинять третью ― роман. А однажды подошла к столу, открыла комп и начала набирать текст.
Я не изменила название и форму, оставила главных героев и основную мысль первой страницы. Все остальное пришлось «дописать».
Так что можно сказать, «Дневник неофита» ― книга всей моей жизни. Как бы пафосно это ни звучало.
1. Знакомство
15 марта
Едва слышно щелкнул замок на двери.
– Коля, есть будешь?
– Ты ведь даже не посмотрела!
Значит, Коля. И вечно его чуть смущенный, будто сморщенный в уголках губ под усами голос.
Мне совсем нетрудно определить входящего. Олег всегда врывается в комнату, будто пытается догнать последний вагон ушедшего поезда: дверь бухает о стенку, порывом ветра меня едва не выносит из кресла. Его появление неизменно доводит до яростного изнеможения. Колина врожденная интуитивная тактичность проявляется даже в его отношениях с дверью: легкое колыхание ветра, ни единого скрипа, но я отчетливо ощущаю, как он с усилием протискивает себя сквозь узкую щель. И каждый раз хочется обойти и подтолкнуть сзади: смилуйся, зайди. Как тут перепутать, если мои мальчики такие разные.
Я привыкла их называть моими. Мы познакомились на первом курсе, оказавшись в одной группе университета, и все последующие годы практически не расставались.
*****
Единственная и любимейшая дочь, я приехала в столицу с южных окраин Родины. Папа был готов ради меня на все. Даже выращивать персики: «Зачем ты их ешь, они же похожи на мыло», ― сокрушался он. «Зато это мой любимый сорт мыла», ― неизменно парировала я. Всю жизнь мы держались нашей маленькой семьей, и мой отъезд в университет оказался непосильным испытанием для всех нас. И хотя все кругом постоянно советовали перерезать пуповину, родители, не выдержав разлуки, перебрались в среднюю полосу. Решение переехать далось им непросто, зато у нас появилась возможность приезжать друг к другу в гости.
Всегда старающийся казаться неприметным, Коля родился на Урале в маленькой деревушке, название которой я постоянно забываю. Школы там не было, только в соседнем селе, а расписание рейсовых автобусов не совпадало со школьным распорядком, поэтому в любую погоду он ходил туда и обратно около трех километров в одну сторону, что, конечно, сказывалось на качестве образования. Но в старших классах Коля неожиданно для всех и в первую очередь для самого себя «рванул»: закончил школу с красным дипломом и поступил в московский вуз безо всякой подготовки с репетиторами. Вид Коля имел кроткий и смирный, но в его глазах читались мудрость и хитрость, веками копившиеся в семье.
Москвич Олег парил над жизнью, а проблемы, казалось, обходили за версту этого удачливого, вежливого и неизменно веселого человека. По складу, по типажу Олег казался типичным ученым, какими их показывают в кино: ему было совершенно наплевать, что есть, где спать и как одеваться. Тем не менее жить он предпочитал отдельно от своей многочисленной и многогранно одаренной семьи. Старшая сестра закончила школу за восемь лет. В девять лет Аня решила пропустить третий класс, чтобы учиться вместе с мальчиком, в которого была влюблена. Она с легкостью сдала самостоятельно пройденный материал и первого сентября пришла к четвероклашкам. Потом пропустила десятый класс ― не хотела сидеть лишний год в школе. Брату было все равно, поступать на филфак или физтех МГУ, куда он в итоге подал документы только оттого, что там учились родители и сестра. Еще брат играл на оргàне ― для самого себя. На их фоне Олег мгновенно терялся, поэтому любить семью он предпочитал, держа родственников на расстоянии. Тем более что им нравилось подшучивать над его чрезмерными на их вкус легкостью и оптимизмом.
С Колей мы подружились в общаге. Настолько, что, начав подрабатывать, сняли квартиру. Тут-то к нам и присоединился Олег. Мы и на работу устроились в одну лабораторию, поскольку занимались разработками медицинского оборудования. К этому моменту я вышла замуж за Олега: что скрывать, для работы мне была нужна регистрация в Москве, и он предложил это незабываемое решение.
Узнав о моих проблемах, Олег внезапно спросил, что я больше всего люблю из еды. Чуть запнувшись, я ответила, что по десятибалльной шкале на семь мне нравятся соленые огурцы, а на оставшиеся три пункта сладкое. Через пару дней Олег пришел в гости с двумя пакетами. Молча протянул первый. В нем стояла банка с рассолом и семью солеными огурцами, во втором ― коробка с тремя огромными кусками торта. Только Олежка умеет решить проблемы так, будто жизнь состоит из сказок, приключений и праздника.
На нашей дружбе совместная жизнь никак не сказалась, зато отразилась на материальном благополучии: денег стало хватать на четырехкомнатную квартиру в центре Москвы со странной, нелепой планировкой. Из прихожей небольшой коридорчик вел в странное помещение без углов, откуда расходились двери комнат. Трех, как нам и требовалось. Круглая центральная комната удивляла своей архитектурной несуразностью, однако в ее центре под огромным старинным круглым абажуром стоял такой же круглый стол, накрытый круглой скатертью. Это нас подкупило, и мы сразу стали называть комнату гостиной. Или ― шутливо ― залой.
В гостиной мы встречались каждый вечер за ужином до последних месяцев, когда я заметила, что с Колей происходит что-то необычное, и он начал без предупреждения пропускать наши ежевечерние встречи в зале. Обычное и раньше происходило с ним только в качестве исключений. Коля мог исчезнуть на несколько часов, но потом обязательно рассказывал о своих приключениях. Как встретил в метро потерявшего записную книжку дедушку с разрядившимся стареньким мобильником и они ходили-искали нужный дом по смутным приметам. Или как он заметил, что рабочие скидывают технический мусор в траншею и закапывают его, тогда он нашел телефон прораба, дозвонился ему и ждал, пока тот приедет.
Именно ему звонили друзья, если нужно было встретить поезд с посылкой от бабушки. Но пока Коля шел по вагонам, поезд отправляли в тупик, откуда он долго выбирался, а веревка на коробке порвалась… Только Коля мог поставить центрифугу на несколько часов и прилечь в соседнем кабинете на раскладушке. И пока он спал, центрифуга отключалась, потому что вырубило пробки, и дверь заклинило, а мобильник он забыл.
Последняя история случилоась на его день рождения, так что полная комната гостей безрезультатно ждала именинника.
Если бы кто-то другой сказал, что не смог прийти на посвященный ему праздничный ужин из-за запертой двери, я бы ни за что не поверила. Не верить Коле было невозможно ― он никогда никого не обманывал.
Поэтому теперь, возвращаясь после таинственных отсутствий, чтобы не врать, он отмалчивался или переводил разговор на работу, прекрасно зная, насколько легко нас отвлечь, задав вопрос о продвижении диссертации, о новом дизайне сайта или невинно уточнив, как скоро мы закончим проверять термолабильность эндоскопа. Мы с Олегом неизменно попадались на этот крючок и принимались увлеченно делиться своими новостями, упуская из виду, что наш дружок своих секретов не раскрыл.
*****
Пару недель назад перемены в Коле заметил даже Олег, внимательно относящийся только к себе и обладающий нулевой интуицией и эмпатией носорога. И именно Олег первым обнаружил, что Коля стал находить черный хлеб по запаху.
Мы проверили: «случайно» оставляли хлеб на полочке в прихожей или клали буханку в неположенном месте рядом с приборами в лаборатории, а сверху прикрывали газетой. Коля отыскивал добычу моментально, безошибочно двигаясь на запах хлеба. Чувствуя его, как зомби из всеми любимого сериала «Ходячие мертвецы» ощущают присутствие людей.
Затем неизменно повторялось одно и то же: механически делая несколько шагов в нужном направлении, он будто приходил в себя и, не спуская глаз с добычи, чуть смущенно спрашивал, можно ли ему кусочек.
Получив разрешение, странно ел: не делал бутербродов, не наливал в блюдечко подсолнечного масла с солью (этому его научила бабушка), но откусывал жадно, нервно. Почти не жуя, заглатывал буханку. И жутковато содрогался всем телом, когда я ехидно спрашивала, оставит ли он друзьям хоть корочку, или придется снова идти в магазин.
Тогда, с неимоверным усилием отрывая себя от еды, он бросал на стол последние крохи и, не оборачиваясь, выходил, оставляя меня наедине с чувством стыда.
Я приехала в Москву из маленького небогатого городка, оставив жалость к себе и к людям на малой родине, но от сцены под названием «как Коля давится черным хлебом» мне каждый раз хотелось плакать.
Замечая мое перекошенное лицо, Олежка обычно с легкостью разряжал ситуацию дурацкими шуточками, которых у него имелся неограниченный запас. Обычно, но не теперь: полчаса назад его вызвали к начальству, и я поняла, что мне одной придется наблюдать, как Коля глотает хлеб. С маниакальной точностью он по кратчайшей траектории направлялся к забытому на столике с микроволновкой пакету с едой.
И тут я взорвалась:
– Поговорим?
– Давай. ― Сконцентрировавшись на добыче, он даже не обернулся. ― Можно кусочек?
Интересно, что будет, если я откажу.
– Можно. И ― поговорим.
– О чем? Может, расскажешь о новом проекте, который вам с Олегом…
Резким движением отломив почти половину буханки, он с нежной грустью примерялся откусить побольше.
– Конкретного еще ничего не обещали, но перспективы отличные…
Осеклась, поняв, что меня снова дурят. Расправила плечи, подняла голову и, сбавив голос до медленного вежливого шепота, что в моем случае означало приступ самой страшной ярости, подражая кобре Нагайне из советского мультфильма «Рикки-Тикки-Тави», едва слышно прошипела:
– Тааааак, о работе поговорили. А теперь ответь, пожалуйста, что происходит? Сколько можно жрать пустой хлеб тоннами? Чем тебе мой суп не угодил? А котлеты? Вон, на контейнере лежат. Картошку, жаренную на сливочном масле, принесла ― еще теплая. И как ты любишь, без лука.
Коля бросил прощальный взгляд на «пайку», и я почувствовала себя гитлеровцем, пытающим маленького ребенка. Но остановиться было выше моих сил, «Остапа несло». Была не была, не выдержав собственного ритма, я рванула в бой и заголосила:
– Коленька, ты болен? Или снова проигрался в покер? Может, у тебя появились враги, которые запрещают тебе есть что-то, кроме хлеба (что за бред я несу ― какой покер, какие враги)? Ты можешь ничего не скрывать от нас. Ты же знаешь, что вместе мы всегда находили выход. Даже когда Ленка пыталась тебя захомутать, спасли тебя. Кончились деньги? Возьмем в долг, но я больше не могу смотреть, как ты превращаешься в нового героя Вселенной Марвела под именем Пожиратель хлеба.
Знакомым жестом Коля стал растирать левой ладонью затылок, разминать невидимые мышцы и позвонки, что означало смущение, нежелание врать и, одновременно, обреченную невозможность уйти от неприятного разговора:
– Люд, все хорошо, я просто пощусь.
– Зачем тебе диета? Ты и так тощий. Я устала отбиваться от твоих взволнованных почитателей, ругающихся, что тебя перестала кормить. Ты болен?
– У меня пост. Сейчас весна, весной у православных пост. Его называют Великий. У католиков такой же пост. Но так как я – православный, у меня Великий православный пост.
И тут я заплакала, буквально взвыла от отчаяния:
– И зачем ты скрывал? Думал, не узнаю, не замечу? Что Олегу не скажу?
– Люд, ты о чем сейчас?
– Да все понятно. ― Испытывая облегчение от сошедшего на меня озарения, я полезла в сумку в поисках салфеток. Вытащила ключи, помаду, очки и забыла, что ищу. ― Сейчас весна. А ты болен такой болезнью, когда весной и осенью случаются обострения. Не знаю, как тебе раньше удавалось скрывать. Ты на колесах, что ли, сидел и они кончились? Так купим еще, я рецепт у маминого знакомого психиатра АлександрСергеича попрошу…
– Люд, я серьезно про пост.
В мгновение стало понятно, что салфеток я не найду и все теперь изменится от этой пропажи. Может, если оторвать от рулона туалетной бумаги лепесток, хотя бы что-то удастся спасти? Дошла до туалета. Вернулась с пустыми руками ― бумагу я купить забыла.
– Серьезно? Серьезно ― это значит, что я должна теперь тебе кашки на воде варить и капусту квасить? Так ты знаешь, что я этого не люблю и не буду.
– Люд, во-первых, я никогда не просил ничего квасить.
Кажется, мне удалось-таки вывести его из себя.
– А во-вторых, пост совсем не в том, чтобы жевать мокрый и соленый капустный лист. Ты просто еще не знаешь, но если хочешь ― расскажу.
Заслушавшись, машинально поставила левую ногу на стул, локтем правой облокотилась на согнутое колено. Любимая поза почти успокоила, и, взяв себя в руки, я снова перешла на свистящий шепот. Процедила:
– Как жить будем?
Коля неприятно дернул головой, выражая недоумение:
– А что изменилось? Как жили, так и продолжим. И по мне, так неплохо жили. Вы с Олегом те же, я все тот же.
Тут он, конечно, малость, загнул.
– Так ты же теперь, этот, как правильно ― адепт?
Коля улыбнулся, на секунду превратившись в прежнего.
– Христианин. Православный.
– Да хоть черт лысый.
Коленька затвердел телом:
– Люд, при мне не чертыхайся больше, пожалуйста. Не вспоминай сатану, не призывай нечистую силу, она может появиться и начать строить козни.
– Коль, это ж чистой воды обскурантизм.
– Как скажешь, а чертыхаться при мне не надо.
24 марта
Как же холодно ― сил никаких нет. Каждый день смотрю прогноз погоды, а он никуда от минус десяти не уходит. Друзья шлют фотографии из разных стран. У них все цветет, фрукты появились, а я каждый день думаю купить «кошки» на ботинки, чтобы не скользить по противному ледяному снегу. Останавливает лень и нежелание ходить в уродской обуви. Обувь должна быть красивой. Всегда.
Сделала открытие местного масштаба: Олег моей новости не удивился и поразительно спокойно ее воспринял. Пока я истерила, он с мягкого дивана терпеливо выслушивал мои выкрикивания, всхлипывания. Будто давно догадался, что с Колей произошло. Будто знал, что теперь все будет иначе.
Когда я выдохлась и замолчала, в очередной раз пересказав произошедшее, прошел к Коле и плотно закрыл перед моим носом дверь, чтобы я не услышала ни полслова. Прошла неделя. Ни тот ни другой не рассказали, что там между ними случилось, а мне ужасно интересно.
Я обиделась (скорее, сделала вид, что обиделась), но в квартире стало мрачно, холодно и душно одновременно. В нормальной семье от конфликта можно сбежать на работу, мне бежать было некуда: в лаборатории меня ждали те же Коля и Олег.
Долго гулять по мартовской Москве тоже непросто: вроде и понятно, что весна неотвратимо приближается, но последние три дня дул пронизывающий до остова сильный ветер, а с неба сыпалась грязь. Мелкая, колючая. Не дождь или мокрый снег, а именно грязь. И воздух пах не весной, а грязью.
Вчера, поняв, что больше не в состоянии находиться на пятачке лаборатории с Колей и Олегом, вернулась домой рано. Села боком к окну. Так, чтобы и видеть, и не замечать улицу, а ноги уместить на табуретку. Почти не разжимая сведенных раздражением челюстей, приказала Алисе включить «любую аудиокнигу». Замявшись на мгновение, компьютерная союзница неизменно добродушно произнесла: «Любая аудиокнига. Николай Лесков. «Смех и горе». Читает Иван Литвинов. Включаю».
На самом деле мне было все равно, что зазвучит, лишь бы голос был нормальный, человеческий, а интонации живые: тягостное молчание да скрипучие односложные реплики парней убивали все живое вокруг, включая меня.
Опершись о подоконник, задумалась – что дальше.
Понятия не имею, сколько я так просидела. Возможно, несколько часов. «Включилась» неожиданно – в голову начал проникать теплый бархатный баритон чтеца: «Так помаленьку устраиваясь и поучаясь, сижу я однажды пред вечером у себя дома и вижу, что ко мне на двор въехала пара лошадей в небольшом тарантасике, и из него выходит очень небольшой человечек, совсем похожий с виду на художника: матовый, бледный брюнетик, с длинными, черными, прямыми волосами, с бородкой и с подвязанными черною косынкой ушами. Походка легкая и осторожная: совсем петербургская золотуха и мозоли, а глаза серые, большие, очень добрые и располагающие…»
Смеясь, заметалась по комнате ― настолько образ, созданный Лесковым, походил на моего полностью отощавшего Коленьку. И походка его описана, и глаза. Не хватало только косынки.
Насмеявшись и слегка успокоившись, вдруг подумала вести дневник, чего не делала с подросткового возраста, когда у каждой девочки была особая тетрадочка, исписанная потаенными мыслями. Сразу постановила писать не каждый день, но регулярно: вон Лесков целую книгу от руки записал, не лень было. Попробую и я. Обещать ничего не буду даже самой себе, но интересно, что из этой затеи выйдет.
С талантом Николая Семеновича конкурировать бессмысленно, но и задачи такой нет. Твердо решив не подражать писателю, достала из ящика блокнот из экобумаги и ручку с лого нашей конторы, подаренные отделом рекламы на Новый год, перешла за стол и стала думать, что бы такого знаменательного написать.
«Такого» на ум ничего не приходило, поэтому я начала с хлеба. Тем более что Коля продолжал безошибочно распознавать его.
26 марта
Не думала, что так быстро сделаю новую запись. Но вчера поздно вечером произошло событие, которым я должна с кем-то поделиться, хотя бы с блокнотиком, иначе меня разорвет на тысячу мелких хомячков.
Ко мне постучался Олег. Это было само по себе удивительно, поскольку Олег такой привычки не имея, просто входил. Постучав, попросил разрешения зайти, спросил, не отвлекает ли. Украдкой осмотрела себя ― вдруг я превратилась в Королеву, или в Чеширского Кота, или, на худой конец, в Белого кролика с перчатками и веером. Увы, на мне были тапочки, джинсы и старый свитер ― костюм явно не из кэрролловской «Алисы в Стране чудес».
Я уже собралась обидеться: видимо, муж призвал в союзники британский этикет, лишь бы не извиняться, что держит меня в безвестности, и тут он спросил, свободна ли я в воскресенье. Пришлось проглотить язвительный ответ, что это мой законный выходной, ― иначе не узнать, что он задумал.
– У тебя ведь есть юбка? – не дождавшись ответа, спросил он.
Хороший вопрос. Просто отличный после недельного молчания. Олежка всегда умел привлечь к себе внимание. Что ж, буду держать паузу, посмотрим, кто кого переиграет.
– Завтра будь готова к семи тридцати. Надень юбку и платок не забудь. На службу пойдем.
– Куда?
– На службу.
Повторив, быстро пошел к выходу, надеясь убежать от моих воплей.
– Завтра? Утра? Семь тридцать утра – в воскресенье такого времени нет! Воскресенье начинается с четырнадцати часов утра. В крайнем случае с двенадцати, а до того воскресенья не существует, и ты это прекрасно знаешь. И какой платок тебе нужен? У меня есть упаковка бумажных ― подойдет?
Ехидничала я в пустоту. Олег исчез. И тут, прокрутив мысленно наш диалог, я поняла, что он произнес слово «служба». В моей системе координат служба была в армии. В крайнем случае так можно было назвать работу. Ни то ни другое не складывалось с юбкой и выходным. Но Олег работу так никогда не называл. И зачем бы ему туда тащиться в такую рань?
Воскресенье наступит через несколько часов, а я так и не решила, хочу «быть готова в семь тридцать» или продолжить спать. На одной чаше весов лежало любопытство, на другой ― потерянный выходной.
28 марта
По-хорошему, эту запись надо было сделать еще вчера. Но события воскресенья измотали меня вконец, поэтому пишу только сейчас.
Спала я плохо. С метаниями и пробуждениями. Но странный, хоть и прерывистый сон продолжался, переходя из серии в серию. Снилось, будто я еду к друзьям за борщом, чтобы накормить сына (у меня нет сына). К ним добралась на троллейбусе, они опрокинули в тарелку половник. Рванула обратно, а на улице пробка, поэтому беру такси, понимая, что ребенок голодный. Еду кругами, но добираюсь… к маме, у которой мы, оказывается, и живем с этим ребенком, но без папы. Несу тарелку, боясь расплескать, а сын уже ест борщ ― соседка поделилась. Смотрю: в моей тарелке немного жижи, в которой плавает кусок мяса и штук пять мелких луковичек севка. Мне и обидно, что я зря таскалась, и радостно, что ребенок сыт.
В таком внутреннем раздрае и проснулась, не понимая, чего от меня хочет будильник, тренькающий в шесть тридцать. Полежала немного и начала осваивать действительность, первым делом вспомнив, что выход в семь тридцать предполагал подъем на час раньше.
Ванная была свободна: опасаясь моей утренней активности, мальчики затаились в своих комнатах, выжидая, пока я приведу себя в порядок. Мысленно проговаривая монолог-приговор, я выдавливала зубную пасту на щетку, машинально отмечая, что она вдруг приобрела зеленоватый оттенок и почему-то вместо того, чтобы остаться сверху плотным кусочком с задранным вверх хвостиком, неожиданно стала впитываться вглубь щетки. А потом над ней взмыл вверх и поплыл к носу мыльный пузырь новомодного геля для душа.
Вытеревшись наспех, поскольку время поджимало, я, скрежеща зубами, втайне продумывала план мести за необходимость натягивать колготки на чуть влажные конечности. Меня поймет любая женщина, работающая в офисе с жестким графиком и обязательным дресс-кодом: тонкий материал ожидаемо перекрутился вокруг ноги и, несмотря на все попытки исправить положение, сжал ее в плотное удушливое кольцо. Мне показалось, что на шее затягивается удавка. Сняла, а колготки остались в той же позе свернувшейся кольцами Нагайны. Достала новые.
Через пятнадцать минут вышла в залу. Сонные парни яростно что-то обсуждали, но, увидев меня, стихли.
– О, Господи! ― простонал Коля и, издав звук сдувшегося шарика, бросился к себе в комнату.
Олег ехидно прищурился:
– Людк, а Людк! Глянь, че делается, – произнес он голосом актрисы Нины Дорошиной любимую фразу из фильма «Любовь и голуби». И продолжил: ― Людк, а ты в церкви-то бывала?
Ничего не подозревая, честно призналась, что «эта ваша религия меня никогда не интересовала». Мне в церкви было не по себе, неуютно что ли. Пару раз заходила в музеи в бывших церквях, но прикола ― зачем смотреть на иконы как на картины – не поняла и быстро ушла. Хотя одна выставка старинных украшений и вышивок мне понравилась. Я бы даже пару украшений там купила, но стоили они как крыло самолета.
– А почему ты об этом спрашиваешь в семь утра? Другого времени не нашлось?
– Так мы вроде как туда и собирались, о чем я тебя предупредил накануне.
– Ты сказал «пойдем на службу», я точно помню. О церкви речи не было.
– Так служба в церкви и бывает. А где еще?
– Я решила, что ты ополоумел и начал так называть нашу лабораторию.
– Ясно.
Олег затих, и тут, судя по выражению лица, его осенило:
– Ты хочешь сказать, что не видела, в чем женщины ходят в церковь?
– Милый! Ты, конечно, очень умный и талантливый. А местами даже гениальный. Что нисколько не мешает мне сегодня злиться на тебя, – сквозь зубы прошипела я и напомнила, что в двадцать первом веке никто не имеет права мне указывать, как одеваться. И что, надев юбку, я и без того пошла ему навстречу.
– Так это на тебе юууууубка, я-то думал – широкий ремень, а юбку ты забыла. С этим разобрались. А боевой раскрас тебе зачем?
– Знаешь, мииииилый, – передразнила я муженька. ― Тебе прекрасно известно, что я даже мусор выношу в приличном лице. Что касается одежды, выбор у тебя невелик: либо я иду так, либо тоже иду, но обратно, в постель.
Казалось, мой ответ развеселил Олега еще больше. Сказав обуваться, он отправился за Колей.
Добирались долго, так что оброненное «пойдем» было значительным преуменьшением. Сначала мы ехали на автобусе, потом на метро с пересадкой. В метро было на удивление много народу. Следом за нами в вагон зашел неопрятного вида потасканный дедок и следом дама в возрасте и стиле Эдиты Пьехи ― очаровательная и ухоженная. Мужчина напротив – русский богатырь, косая сажень в плечах – вскочил уступить даме место, а она вдруг посадила дедка. Я почти проснулась, заметив, что мужчина в растерянности начал краснеть: ему было неловко сказать пусть и неряшливому, но пожилому человеку, что место было для дамы. Стала закипать и я, поняв быстрее богатыря, что «Пьеха» сама уступила место: вечная история, сажаем себе на шею, а потом стонем – плохонький, но мой…
Заметив наше возмущение, она прошептала что-то о болезни мужа. А тот вдруг легко постучал себе по колену и усадил на него жену. Так они и сидели пару остановок – улыбающийся дедуля и его слегка встрепанная в своей чопорной аккуратности жена. Богатырь захлопал в ладоши, я счастливо улыбалась, а дедуля, перехватив мою улыбку, поднял вверх большой палец. Иногда в жизни все совсем не так, как видится, подумала я, собираясь задремать.
Тут Коля прикоснулся ко мне ― пора, и мы вышли, чтобы сесть на автобус. В окне промелькнуло несколько церквей, но задать вертевшийся на языке вопрос, не экскурсия ли у нас часом по утренней Москве, я не решилась, сообразив, что стоит подождать. Спустя полтора часа и километра два пешком я заметила нашу конечную цель. Вернее, почувствовала по тому, как Коля начал светло улыбаться, оживился и ускорился.
*****
Вошли.
Первое, на что я обратила внимание, в церкви нечем дышать. От раскаленных батарей едва не шел пар. Вдобавок к их жару в воздухе стоял тошнотворно-сладкий дымок. Чуть позже мимо меня прошел постоянно махавший рукой мужик в парчовом фиолетовом с золотом платье. В руке была банка на цепочке, и из нее и тянулся этот вонючий дым.
Мужик что-то распевал, то тише, то громче, и периодически к нему подтягивались другие голоса. Сначала разобрать слова было невозможно. Потом я стала различать «Господи, помилуй» и «Аминь». Я была так горда собой, будто одержала победу над Наполеоном.
С остальными текстами была беда: долгое время я не понимала ни слова, хотя порой казалось, что свои гимны (вспомнила я слово из французского детектива об убийстве в монастыре) они поют на русском. Чаще всего пел хор, забившийся в угол у стенки с иконами, но иногда ему подпевали люди в зале. Но когда партию исполнял только хор, выходило не так валторнисто и фальшиво. Запишу себе на память: кажется, некоторые считали своей главной задачей перекричать остальных.
Еще через полчаса на сцену вышел поп (я догадалась, потому что у него на животе висел крест), и люди потянулись поближе, зачем-то свесили вниз головы, а одна женщина приложила к уху руку на манер трубы, всем своим видом изображая внимание. Поп заговорил на русском, но со странными интонациями и вплетая в речь какие-то чудные словечки ― вроде понятно, но я бы никогда не повторила ни одной фразы на его птичьем языке. Говорил долго, поэтому я не помню о чем. А в конце выдал цитату из фильма «Аватар»: «Смысл не в том, что я вижу тебя перед собой, а в том, что вижу в тебе». Прикольный все же мужик.
Поп ушел, мальчики мои с самого начала растворились в полутьме – не поболтаешь, и мне стало скучно. От нечего делать стала глазеть по сторонам. Подошла к магазинчику, он прям внутри церкви. В витрине бесконечные кресты, браслетики с картинками святых (видимо, от сглаза), какие-то баночки, чашечки диковинной и диковатой формы, пакетики. Все копеечное, но настолько аляповатое, что купить не хочется ничего. Разве что сухарики с голодухи, на упаковке надпись: «освященные от сухарика, высушенного в печке, где есть кирпич батюшки Серафима». Непонятно и смешно, но не отравят же. Расплатившись, быстро отошла: где-то за прилавком в раковину из нержавейки звучно капал кран. Пока стояла, чуть сума не сошла. Бабуля моя рассказывала, что в стародавние времена была пытка: человека сажали в камеру с капающей на каменный пол водой. Судя по тому, что у прилавка я продержалась несколько минут, в такой тюрьме я бы через полчаса всех сдала. Даже тех, кого не знаю.
Пошла смотреть фрески, иконы ― живопись так себе, скорее плохая, чем стоящая, и, даже на мой непрофессиональный взгляд, не старинная, а современная. Впрочем, возможно, здание отдали в девяностые годы в руинах, и расписывать его наняли кого нашли. Иконописцев-то не так много хороших, на них, как я понимаю, отдельно учиться надо, да и то не каждому художнику дано. Но ведь даже плохие иконы можно было подписать на русском языке. А на эту красивую, но бессмысленную вязь церковного письма любоваться можно, а прочесть ― нет. Надо будет потом у Коли спросить, что это за симпатичного святого в самый темный угол повесили. С длинной бородой и на фоне монастыря. Я смогла разобрать только буквы «прп» и «белозер». Что из этого имя, а что фамилия? А у женщины с крестом в руках к имени даже не подступиться, зато благодаря короне я расшифровала должность ― княгиня или царица. Горжусь собой.
Прошло больше часа, и меня стало мутить от голода. Разжевала тайком пару сухариков, стало получше, и, посмотрев по сторонам, обратила внимание, что народу к этому времени поднабралось прилично. Я так понимаю, что совсем необязательно нам было к самому началу торопиться. Люди бодро заходили в храм и весело здоровались друг с другом, даже не притворяясь, что смущены своим опозданием на час, и не обращая внимания на попа, хор и действие в передней части церкви. Контингент составляли вовсе не «сумасшедшие бабки», которых я полагала увидеть, а люди среднего возраста, в том числе и мужчины. И хотя в церкви было на удивление много молодежи, все-таки женщин всех возрастов собралось больше.
Они были одеты в темную унылую одежду, висящую на всех одинаковыми мешками, лишая гендерных признаков и привлекательности. Эти бесформенные костюмы я мысленно назвала рубищем. И ― убей меня Бог ― совершенно не понимаю, что может заставить женщину, находящуюся в здравом уме и твердой памяти, так одеться. Украшений на них тоже не было, как и косметики. Зато на головах у большинства были нелепо накрученные платки.
В голове возникло бабушкино словцо «кулёма», означающее несуразно одетую женщину. Кажется, я впервые в жизни придумала новое слово ― накулёмиться, но более подходящего глагола к этой форме одежды подобрать было сложно, да и головы в платках напоминали бесформенные кули. У меня тоже был платок ― как я и обещала, носовой. Поэтому он лежал в кармане.
Подавив желание забиться в угол в модной юбке, красном свитере с вырезом и такой же яркой губной помаде, я, наконец, догадалась о причинах ехидства Олежки. Но зная мой стиль, он мог бы меня предупредить. Из вредности решив оставаться на месте, то есть практически в центре церкви, стала ждать «продолжения банкета».
И он, конечно, состоялся во всей своей пышности. Вдруг все вокруг начали падать на колени и, складываясь еще больше, биться лбом об пол. От этой сцены мне стало дурно, я представила эту картинку со стороны: море задранных поп, и в самом центре девица в мини-юбке и красном свитере торчит меж ними, как осиновый кол. К счастью, все довольно быстро поднялись и вдруг начали суетливо бегать в разные стороны, громко болтать, смеяться, обмениваться какими-то пакетами, читать книжки в церковном магазинчике, открыли соцсети в мобильниках… Странно. Люди пришли молиться, а кажется, каждый занят своими делами. Но, возможно, я не все понимаю в происходящем.
– Пошли, – вынырнул из толпы Олег. ― Коля сказал, что это конец службы. Сейчас надо приложиться к кресту. И домой.
Приложиться? Я прищурилась: Олежка овладел этим сленгом подозрительно быстро.
– Видишь очередь? Церемония такая: подходишь к священнику (точно! «поп» ― это насмешливое, а правильно – «священник»! И как я забыла!), он протягивает тебе крест, ты его целуешь, потом целуешь ему руку и отходишь. Все.
Хорошо, что он успел зажать мне рот рукой, поэтому вместо вопля негодования и шока я издала только хрюкающе-чавкающий звук.
– Люд, ну постарайся. Разок. Ради Коли.
Медленно, но неотвратимо мы приближались к священнику. Меня тошнило от мысли, что он сунет мне под нос свою волосатую руку. Единственный выход – бежать. Но было поздно.
Я подошла к поклоннику «Аватара», и тут он, вместо того чтобы, как и остальным, протянуть мне крест, задержался. Оглядев, на одном дыхании выпалил:
– Здравствуйте, здравствуйте! Кажется, я вас раньше не видел. Как вас зовут?
– А вас? ― от неожиданности невежливо ответила я вопросом на вопрос.
Он улыбнулся:
– Александр. Ну, приходите к нам еще, безымянная дама, – сказал он и широким, размашистым единственным движением будто бы перекрестил меня, не позволив целовать ни крест, ни свою руку, и тут же повернулся к стоящему за мной человеку. Время аудиенции вышло.
Вторую часть дня описывать нечего. Ее я проспала.
18 апреля
Понедельник. Зачем я пишу самой себе, что понедельник? Да, чтобы отметить: я сижу на работе уже четыре с половиной часа и все это время ничего не делаю. Не могу.
Коля продолжает есть хлеб. Иногда соглашается на макароны, картошку или гречку, но сначала подозрительно рассматривает их ― не подложила ли я ему масла.
Любые фрукты и овощи, даже кабачковую икру, сурово отвергает (хотя я вычитала в интернете, что их можно), говорит, что пост ― это аскеза, а с вкусным каждый дурак может поститься. Еще я прочла, что пост длится сорок дней. И что он у православных и у католиков разный, то есть в разное время, они календари по-разному считают. Вот тебе и христиане.
Прочитав, порадовалась, что осталась всего неделя и Коля снова начнет жить как все нормальные люди, сдуру сказала ему это, и тут он меня оглушил новостью, что сорок дней – это только сам пост. Но есть еще «Страстная неделя, которой придается особое значение, потому что в эти дни христиане вспоминают о крестном пути Христа». Я так обалдела, что запомнила его слова наизусть.
Получается, все кончится первого мая. Это настолько потрясло меня, что я даже не слишком расстроилась дополнительной неделе голодовки. В конце концов, мы с Олегом почти привыкли к странному меню нашего друга. Но почему-то совпадение религиозного праздника с советским и вера, что Иисус мог воскреснуть в Первомай, ввели меня в ступор. Получается, когда мы с родителями ходили на демонстрацию с шариками и лозунгами, кто-то шел в церковь, чтобы сказать: «Христос воскрес»? «Не воскрес, а воскресе. И не кончится, а только начнется», – улыбаясь, поправил меня Коля и ушел.
Что-то я явно упускаю.
7 мая
Наконец-то настали длинные выходные, так что я успею (по крайней мере постараюсь) записать случившееся в последнее время. Может, если разложу полученные знания по полочкам, приду в себя.
Всю предыдущую неделю я практически не видела Колю. Иногда он забегал на работу, с огромной скоростью выполнял свою часть задания и снова исчезал. Я догадалась, что он бегает в церковь. Одна проблема: мне нужно было каждый день что-то придумывать начальству, объясняя, почему на месте нет ценного сотрудника. То есть врать. А врать я не люблю. И грех это вроде бы у христиан. Получается, пока Коля молится, я грешу. Или это благородная и правильная ложь во спасение? Надо будет потом уточнить у него или у Олега.
Олежка всегда знает ответ. Только и он стал частенько пропадать. А поскольку уходили они с Колей одновременно, я сделала потрясшее меня открытие: они ходят в церковь вместе. Об этом тоже надо спросить. С Олегом говорить проще, ему можно задать любой вопрос, и он не станет отвечать колючками. Посмеется сначала, но все расскажет. А мне интересно ― нафига ему это? Что он там забыл или, наоборот, нашел.
В четверг Коля вернулся домой ближе к одиннадцати ночи: дверь вкрадчиво открылась и еле слышно закрылась.
– Люд, привет! Спросить тебя хочу.
– Давай.
– Мы с тобой после той поездки в храм так и не поговорили. Не перебивай, я знаю, что должен был. Скажи, тебе не захотелось пойти еще раз?
Я решила не торопиться признаваться, что не захотелось:
– Снова в семь тридцать утра?
– Ночью.
– Да ладно! Так бывает?
– Бывает. На Рождество и Пасху. Сейчас ближе всего Пасха. Хочешь пойти? Кстати, нарядиться можно во что хочешь.
– Чтобы вы снова стебаться стали?
– В Пасху можно. Причащаться тоже можно, но я не знаю, крещеная ли ты.
– Я знаю. Точно нет.
– Эхххх. Тогда нельзя. Но надевай все самое красивое, потому что Пасха на самом деле называется Воскресение Христово. И это самый важный день года.
– В нашей семье важнее Нового года ничего нет.
– В семье нет, а для христиан есть. Но ты этого пока не понимаешь.
Заметив, что я начала закипать, Коля свернул разговор. И уже в дверях, не оборачиваясь, шепотом произнес:
– А можешь английский окорок запечь в воскресенье? Как ты умеешь ― большим куском.
Кажется, он сейчас замурчит от воспоминаний об удовольствии, как кот.
– Могу. Правда, не совсем тот, правильный не выйдет ― на него неделя нужна, но…
– Люд, мне все равно.
Он просочился в дверь, а я рванула к шкафу, пересмотреть «самое красивое» из того, что могло подойти к этому событию. Я девушка догадливая, и одного ляпа вполне хватило, чтобы понять, что мое понимание красоты не совпадает с эстетикой церковной одежды. Выяснила, что мне (как всегда) одежду некуда складывать и нечего надеть, занервничала. Но, вспомнив о заказе Коли, успокоилась: может, подходящего случаю наряда у меня и не найдется, возьму мясом. Закрыла дверцу шкафа, а она неожиданно так жалобно скрипнула, будто расстроилась вместе со мной.
Оделась я, кстати, правильно ― джинсы, свитер, куртка, ботинки. Днем солнышко уже припекало, ночью же температура выше четырех градусов не поднималась, так что, выйдя из дома субботним вечером в начале одиннадцатого, я пожалела об оставленном дома пуховике.
Ехали мы уже узнаваемой дорогой, поэтому она не показалась настолько жуткой и длинной.
Спать не хотелось, разговаривать тоже. Поэтому, пока мальчики что-то тихонько обсуждали, я привычно рассматривала людей, придумывая им биографии. И вскоре заметила, что значительная часть пассажиров в метро и автобусе одеты хотя и в разное, но похожее. Женщины сплошь в красных юбках или ярких платьях. У многих на плечах алели накинутые палантины или платки. Даже мужчины были неуловимо нарядны.
И переглядывались они, хотя и видно, что незнакомы друг с другом, но будто связывала их какая-то общая тайна. (Упс, какой высокопарный слог! Этак я поэтом стану.) Машинально отметила – удивилась, как непривычно много для позднего часа детей.
*****
Здание церкви ярко светилось всеми огнями, какие только в ней можно было зажечь. Мы зашли внутрь и сразу вернулись на улицу: народу ― не протолкнуться, но я успела заметить, что внутри ничего не происходило, только где-то далеко впереди мужской голос читал откровенную тарабарщину – непонятный набор слов. Толпа покачивалась, переливалась из стороны в сторону, ее распирало, будто дрожжевое тесто в кастрюле, и оно грозилось вырваться и убежать. А лица будто сливались в одно, объединяли их торжественность и нетерпеливое ожидание.
На улице Коля дал нам с Олегом по красной свечке ― когда только купить успел – и сказал ждать. Ждал и он. В полночь началась невообразимая кутерьма, которую трудно будет описать. Из церкви вышел тот высокий дядька в длинном платье и священники в чем-то красном с толстыми свечами в руках. За ними шли многочисленные служивые и прислужники, и они отправились обходить церковь. Хор что-то пел, подпевали люди. Тут же зазвонили колокола. Словом, грохот стоял невообразимый. Почему-то стало весело, но не смешно, скорее радостно, хотя смысла в этой радости не было никакого.
Вдруг я услышала от священника знакомые слова: «Христос воскресе!», но не успела порадоваться, что хоть что-то поняла, как он повторил их еще раз. И еще, снова. А люди в ответ кричали ему: «Воистину воскресе!»
– Ты тоже можешь отвечать вместе со всеми, – прошептал сияющий Коля и тут же заорал: «Воистину воскресе!» Оказывается, у него громкий и звонкий голос, подумала я быстро и забыла, подхватив речовку. И меня понесло куда-то мощной лавиной непонятного общего счастья. Такого сильного, что захотелось плакать, смеяться и обнимать незнакомцев. Священник закончил выступать, и ― на мою беду – запел хор. На беду, потому что я снова перестала понимать слова, только разве что предлоги и союзы.
– Давай мобильник, – из-за спины раздался голос Олега. Я отдала. Он понажимал кнопочки. – Смотри.
Глянула – текст на английском.
Олег ткнул пальцем:
– Следи.
Не успев спросить, почему он не нашел перевода на современный русский, я стала читать, и вдруг оказалось, что мне понятно, о чем поют эти люди. Не могу сказать, что я понимала все дословно, но общий смысл уловила. Видимо, английский я понимаю лучше, чем русский, а может, Олег не нашел хорошую версию.
Следом за священником все вошли в церковь и даже поместились внутри, хотя казалось, что огромная толпа не влезет. Под конец Коля ушел вперед, сказав ждать, пока он вернется «с причастия». Мы не поняли, но ждали.
Четыре часа пролетели как один миг, хотя к концу я сдалась усталости. Но тут все вокруг снова начали кричать: «Воистину воскресе!», принялись прилюдно целоваться и поздравлять друг друга с Пасхой. Спать расхотелось. Тем более что снова пришло время прощаться со священником. Мы подошли.
– А, безымянная дама! Христос воскресе! – усталым, но веселым голосом произнес он.
На мгновение задумавшись, я вежливо ответила:
– И вам того же, Александр!
Сзади заржал Олег, фыркнул Коля, а священник согнулся пополам от хохота:
– Вот, значит, как! «И вам того же, Александр!» Надо запомнить. Приходите еще, безымянная дама.
Я так и не поняла, чем развеселила его, но улыбалась тоже ― чего ж не улыбаться, раз всем радостно. Домой мы ехали на такси, за которое заплатил Коля, хотя он невыносимо экономный. Но праздник совершил с ним маленькое чудо. Или это была я, потому что сказала, что, если такси не закажет он, я оплачу машину сама.
*****
Дома я собиралась быстро шмыгнуть в кровать, но Коля скомандовал:
– Окорок.
И я потащилась на кухню за тарелками и едой, а он вынес кулич, творожную массу, назвав ее пасхой, и несколько крашеных яиц, сказав, что «разговляются» сначала этим. Мы быстро поклевали ― в пять утра есть абсолютно не хотелось.
Запихнув в себя последний кусок кулича, Коля подвинул к себе блюдо с мясом и начал есть. Через пятнадцать минут Олег включил мобильник, и, глядя в экран, зачитал голосом актера Александра Клюквина: «Едал покойник аппетитно; и потому, не пускаясь в рассказы, придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба и – глядь, и отправил в чужой рот». Выключил мобильник и уже со своими интонациями произнес: «Николай Васильевич Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Коля сначала замер, а потом, рассмеявшись, махнул рукой: «Да ну вас. Сами бы попробовали поститься». Но есть перестал ― ночью перестал. Зато теперь он ест каждый день вместе с нами и перестал убегать в церковь.
А я никак не могу забыть, что ответил ему Олег. Посмотрев коротко и твердо, он произнес: «Так – никогда».
Что-то его ответ меня тревожит.
Написала вроде все, но легче и понятнее не стало.
8 июня
Ничего не писала больше месяца. Сначала было не о чем – жизнь стала прежней. Или почти прежней. Коля перестал поститься. Правда, иногда он отказывается есть мясо и молочное (я даже вывела некую закономерность, что чаще всего это происходило по средам и пятницам), но это сущий пустяк по сравнению с мартом, когда он нюхал хлеб. Каждое воскресенье он ходит в церковь. Внутренний голос мне подсказывает, что Олег иногда присоединяется к нему, но точно не скажу. Я стараюсь не следить за ними, хотя, находясь в одной квартире, не замечать перемещений друг друга практически невозможно.
Сегодня была у массажистки, и у нас состоялся престранный разговор. Не помню, как мы вышли на эту тему, но я почему-то сказала Марте, что была на Пасху в церкви. Кажется, то, что я много лет живу с двумя мужчинами, ее удивило меньше, чем это признание.
– Людмила, вы верующая?
– Не знаю. Вернее, не понимаю. Не понимаю – как это: верить в то, что Бог жил, вернее, жив и сейчас. И что к нему можно обращаться, а он отвечает. Может, надо книжки какие-то почитать или поспрашивать кого…
– А я верующая. Меня никто никогда не учил, но я сердцем верю. Когда я была маленькой, мама заболела, и бабушка сказала, что надо помолиться и попросить у Бога, чтобы она выздоровела, но мне это не понравилось. А лет в двенадцать я сама начала ходить в церковь. Молилась, записочки писала, разговаривала с Богом, с Богородицей. Так и осталось.
– Вам это дано, наверное.
– Может, и дано. У меня знакомая есть, она атеистка. Она хочет поверить в Бога и не может. Она в церковь приходит ― молится, плачет, просит: Господи, дай мне поверить. И – никак.
– Ну, мне нужны доказательства, что ли.
– Знаете, я как-то читала у Татьяны Черниговской о ее разговоре с Далай-ламой. Она ему говорит: где у вас доказательства, что Бог есть? А он ей ответил: мне не нужны доказательства, я знаю. Это вам, ученым, нужно доказывать, что Бога нет. А мне все известно.
– Есть над чем подумать.
– Подумайте. А пока – переворачивайтесь на живот.
2. Любопытство
10 июня
И вот что точно надо записать: я вдруг обнаружила кругом нашего дома церкви. Впрочем, в центре, думаю, везде так, только раньше я не обращала на это внимания, а теперь увидела. И заходить в них, оказывается, очень интересно. Хожу-исследую утром до работы или в обеденный перерыв несколько раз в неделю. Воскресное утро я больше тратить не собираюсь.
Оказывается, они все разные. Не только по времени строительства и стилю, но и какому-то внутреннему духу, что ли. Точнее не скажу.
В самой первой, куда, набравшись смелости, я вошла, оказалось очень мило: всюду развешены вышитые занавесочки и полотенчики, половички лежат. Уютно, но на мой вкус чрезмерно. И как ни приду, там поют три старушки. Да так плохонько поют – ничего разобрать невозможно, только гул от их бормотания стоит. И священник ― батюшка, как они его называют, – милый, всегда улыбался мне, но совсем старичок. И не говорит, а шамкает. Не выдержала я, ушла в следующую.
В другом месте мне сразу понравилось, хотя объяснить невозможно – чем. Понравилось еще во дворе, он будто бы для меня устроен, так бы и осталась среди красивых растений навсегда. В храме в любое время дня на удивление много народу. Люди постоянно приходили-уходили по каким-то своим важнецким делам, а потому с деловитым видом сновали взад и вперед, разговаривая или звякая мобильниками, что очень отвлекало, а я и без того рада отвлечься. И главный священник мне не понравился ― слишком серьезный, строгий. Строгости мне и Колиной хватает.
Еще одна небольшая церковь называлась не очень понятно – подворьем. Возле нее разбит милейший садик с маленькими лавочками, увитыми плетистыми розами. Если найти свободную скамейку, можно, ни о чем не думая, замечательно просидеть весь обеденный перерыв. А внутрь храма я ни разу не заходила, сама не понимаю почему.
Об одной писать не хочется, но надо ― раз уж взялась. Красивая, с высоченной свечой-колокольней. Зайдя в темень со света, остановилась в дверях, чтобы дать привыкнуть глазам. Вдруг слева разговор. Слишком громкий в гулком пустом помещении – поневоле пришлось подслушивать. Особенно выделялся жесткий женский голос, два других звучали умоляющим фоном.
– …игрушек во гробу не положено. И одеть надо прилично ― в платье. Платок, покрывало можете купить у нас.
– Но она ― подросток, невинная маленькая девочка. А собаку ей крестный подарил на крещение. Она с ней никогда не расставалась, даже в поездки на каникулах брала.
– Теперь рассталась. Отпевание проходит по общим для всех правилам. Будете заказывать?
– Нет. Мы найдем ЦЕРКОВЬ, ― неожиданно твердо произнес один из голосов.
Гулкие шаги указывали, что женщины приближаются к выходу, то есть ко мне. Проворно отступив в самый темный угол, я притворилась, что только зашла. Не знаю, насколько удачно, но мне показалось, что им было не до рассматривания посторонних.
Вышла следом: мозг взрывался клубами ярости. Хотелось их догнать и обнять и одновременно рвануть внутрь, в церковь, чтобы наорать на бездушную тетку. Но зная за собой чрезмерную вспыльчивость, я заставила себя успокоиться. Настолько, чтобы понять, что этим женщинам не нужны лишние эмоции. Что касается тетки, самое правильное решить, что Бог ей судья. А в эту церковь я больше никогда не зайду.
Резко выдохнув, трясущимися руками достала наушники, мобильник и включила альбом «Беспечный русский бродяга», найдя нужное:
Духовные люди – особые люди, Их сервируют в отдельной посуде. У них другая длина волны, И даже хвост у них с другой стороны. Если прийти к ним с насущным вопросом, Они могут выкурить тебя с папиросом. Ежели ты не прелюбодей,
Лучше не трогай духовных людей.
Прослушав на репите четыре раза, зло рассмеялась: прав БорисБорисыч. Мне захотелось бежать от такой церкви. Вместе с тем я ощутила, что, если уйду с таким настроением, потеряю нечто важное, может, и самое главное в своей жизни. И тогда произойдет что-то такое, что потом не исправить, поэтому мне обязательно нужно докопаться до истины.
*****
Слово «истина» прозвучало в голове гулко, как те шаги по плиткам церкви, будто произнес их чужой голос. Так что я продолжила бродить по местным достопримечательностям. Заодно, наконец, оценила красоту района, в котором мы живем. Стала замечать дома, скверики. Где было открыто, заходила во внутренние дворики ― иногда там было голо и пусто, но порой приключались открытия.
То покато-выпуклая боками церковь, которая, как я прочла, вернувшись домой, строилась как масонская ложа. Немудрено, что она показалась мне чужой. То деревянный дом в старом саду за деревянным же забором. Очень хотелось проверить, открывается ли калитка, но стало неловко: а что делать, если дверь и правда откроется, а там люди? Ушла.
А в переулке на доме стоит печальный рыцарь в доспехах: будто с него Георгий Юдин создавал иллюстрации к книге «Черная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского, которая у меня была в детстве. Стоит высоко на постаменте, и я стала с ним здороваться каждый раз, как прохожу мимо: скучно ему одному.
Вдруг ― встреча: во дворе, открывшемся за невзрачной подворотней, на табуретке, стоявшей у голубятни, с трудом поместился большого объема седой человек.
– Заходите, заходите, ― приветствовал он меня с такими интонациями, будто мы расстались полчаса назад. – Голуби мои разных пород. За тем кустом ослик живет, в пруду лебеди плавают, а в бассейне черепахи живут. Я раньше сам плавал, но перестал помещаться (он засмеялся, похлопав себя по откормленным бокам), поэтому черепах пустил.
А еще в одном дворике стояло разваливающееся белое пианино, росла ива, за которой спрятались мангал и столик с чашками и чайником ― будто кто-то только что встал из-за стола или, наоборот, ждет гостей, готовя угощение. На стене плюшевый ковер с нарисованными животными. Говорят, лет семьдесят назад такие в каждом доме висели.
Что там за звери, я узнать не успела, потому что из маленькой полуподвальной двери показалась человеческая голова. Затем протиснулись ноги и только потом туловище. Когда человек распрямился, разогнув все собранные воедино части, оказалось, что тело узнаваемо ― оно принадлежит тому самому священнику со строгими глазами.
– Иди сюда, Андрюша! У нас тут гостья. ― Оказывается, в кустах стоял человек, которого я поначалу не заметила: с маленькой бородкой, усами, в круглых очках.
– Отец Андрей, – не подавая руки для пожатия, произнес священник.
– Значит, Александром его называть было неправильно, – задумавшись, я сказала первое, что пришло в голову. Руку тоже не протянула, мама научила, что мужчина должен первым проявить себя.
– Имя такое есть. Но если вы говорите не о македонском царе, то не всякого мужчину зовут Александр.
Оказывается, глаза серьезные, а шутить он умеет. Пришлось объяснить, что я уже знаю одного священника, который сказал, что его зовут Александр, так я его и называла. Рассказала заодно и как поздравила его с Пасхой, а он в ответ рассмеялся.
Отец (теперь мне этого обращения не забыть до конца дней) Андрей посмотрел на меня очень внимательно и строго. Но, не выдержав своего серьезного вида, начал хохотать. Кажется, не такой уж он и сердитый, как я поначалу решила. Об этом тоже сказала, упомянув, что хожу по церквям и у него уже была.
– Чего ищешь?
Они со стариком уставились на меня с одинаковым интересом. Помедлив с ответом, я честно призналась, что не знаю. Вроде и ищу чего-то, а вроде бы и нет. И у него уже была.
– Приходи завтра с утра, часам к девяти. Народу в четверг немного ― кто на работе, кто детьми занят, остальные спят еще.
А я-то ждала, что отец Андрей спросит, понравилось ли мне у него, уже и комплимент начала придумывать, поэтому приглашение прозвучало настолько неожиданно, что мне захотелось прийти.
*****
К девяти я опоздала, хотя поначалу все складывалось как нельзя лучше: накануне вечером мы начали эксперимент на работе, результаты которого будут готовы только через сутки. Но утром, собравшись бодро и вовремя, внезапно расхотела идти, одновременно испытывая смутный стыд и раздражение на саму себя, хотя ничего не обещала. А даже если бы обещала ― не под дождем же он у памятника Пушкину стоит.
И все же вынудила себя пойти, опоздав всего-то на полчаса. Но, кажется, дело шло к концу: по крайней мере, хор уже ничего не пел, а мой новый знакомец не выкрикивал из алтаря свой текст, а стоял с крестом перед горсткой людей, что-то им рассказывая. Из предыдущих посещений церкви с Колей и без него я усвоила, что этим действием служба обычно заканчивается.
Встречаться со священником взглядом не хотелось, наоборот, стало неловко. Поэтому, решив не подходить близко, я спряталась за толстую колонну с нарисованными на ней святыми: отец Андрей обладал звучным голосом, хорошо владел мелодекламацией, его и в том закутке было отлично слышно.
А рассказывал он о мужчине, жившем несколько веков назад на озере Селигер. На этих словах я мгновенно потеряла нить повествования, потому что те места люблю с детства: мы с родителями все там изъездили-исходили, в палатках на островах не раз стояли. Кажется, на острове Хачин было внутреннее озеро Белое, где дно видно на любой глубине… Я так разошлась, что уже вспомнила вкус и запах копченого угря. Пришлось усилием воли выдрать себя из воспоминаний.
«Вернулась» я, когда отец Андрей закончил: поздравив всех с днем памяти Нила Столобенского, произнес аминь.
Жаль, что я не слушала. С другой стороны, о Ниле я, может, знаю побольше. Искорками в мозгу начали одна за другой выстреливать картинки. Как бывает, когда в несколько секунд (или всего за одну) будто миллионами разрядов в голове проносится настоящее кино из прошлой жизни. Вот и я вспомнила друга родителей – похожего на доктора Айболита мужчину с лысиной, которую он прикрывал кепкой. Мужчина ходил чуть переваливаясь, но при этом легко и будто весело. О! Владимир Иванович Шуста его звали.
Приезжая в стоящий на берегу озера Селигер городок Осташков, родители всегда заходили к нему, и он угощал нас самым вкусным в мире копченым угрем, а иногда возил по разным островам. Когда на машине, когда на моторной лодке.
Чаще всего мы с ним ходили на лодке на остров с развалинами старинного монастыря – будто это место ему было близко и дорого. Владимир Иванович много рассказывал и об острове, и о монастыре, и о местном святом. Став сиротой, Нил ушел в монастырь, где его сделали монахом. Но там ему не понравилось, а может, народу было много, поэтому он ушел сначала жить возле речки, а потом и оттуда перебрался в совсем дикий лес на острове Столобный на Селигере, где остался почти на тридцать лет. Жил сначала в землянке, потом построил келью и часовню рядом. И спал не в кровати, а стоя опирался на вбитые в стену крюки. Когда Нил умер, его сделали святым (в проповеди отца Андрея я услышала, что правильно говорить ― канонизировали) и на острове построили монастырь в его честь. Позже кто-то придумал крестный ход в день памяти святого водить не вокруг церкви, где хранились его мощи, а оплывать вокруг всего острова.
После революции монастырь закрыли и разрушили, крестный ход запретили, но Владимир Иванович верил, что его обязательно восстановят, и называл Нилова пустынь. Дома у него на стене висела старинная литография с изображением торжественного «обплыва» острова с храмами и монастырскими зданиями на корабликах и всяких маленьких лодочках. В памяти возникла гостиная в его доме, дорожки во всю длину половиц и в красном углу этажерка ― на ней под кружевной салфеточкой стояли иконы, а между ними черная статуэтка с костылями под локтями: Нила Столобенского выстругивали из дерева и красили в черный цвет монашества.
Решив поискать в интернете, что там сейчас, вышла и села на улице под набирающим летнюю силу розовым кустом, усыпанным издающими тонкий аромат бутонами. Солнце сквозь куст пробивалось тонкими лучиками, а небо виднелось голубыми прожилками. Стала набирать в поисковике разные сочетания слов.
Прав был Владимир Иванович, монастырь восстановили и назвали по-правильному – Нилова пустынь. Теперь там жили монахи, туда же перенесли мощи святого, хранившиеся до времени в церкви Осташкова.
Но больше всего меня поразило другое (в конце концов, восстановлением монастыря сегодня никого не удивить). Оказывается, Владимир Иванович был священником. Значит, отцом Владимиром. Священником он стал в 1955 году, сразу был приписан к церкви в Осташкове и более сорока лет служил там, а после перестройки стал добиваться открытия монастыря. И ровно в день официального принятия решения о восстановлении монастыря отец Владимир стал монахом Вассианом (оказывается, монахи меняют имя). Еще через три месяца его назначили начальником этих самых руин. И он получил должность наместника, что бы это ни значило. Там же, в Ниловой пустыни, он и похоронен.
Обогащенная знаниями, задумалась о высоком ― смысле и перипетиях чужой жизни…
– Хорошо, что пришла.
Голос я узнала, так что глаза можно было не открывать. Я снова не угадала его реплику, думала, что он станет ругаться, а он хвалит. Почти заинтриговал.
– Зачем ему это надо было?
– Жить в землянке?
Отец Андрей догадался.
– Ну да. И от людей прятаться. Разве нельзя быть хорошим верующим и молиться в своем городе или в деревне? Зачем уходить куда-то?
– Может, характер у него такой был, он любил одиночество.
Настолько элементарное решение мне в голову не приходило. Наверное, было что-то еще, более высокое и правильное, но знать этого мне не хотелось.
19 июня
Троица мне не понравилась. Сегодня я снова пошла в церковь, причем успела к началу. Отец Андрей в прошлый раз сказал, что будет очень большой праздник. Не как Пасха, потому что она самая главная, поменьше. Но тоже главный. Пришла и сразу вышла, задыхаясь: церковь была вся покрыта травой, по углам стояли березы. Настоящий праздник аллергика.
Решила подождать отца Андрея на лавочке, представляя, как он обрадуется, что я пришла. Свободных не было, так что присела на ту, где было местечко возле группы женщин. Конечно же, начала подслушивать.
– Ты травы не набрала, что ли?
– Нет еще.
– Так беги скорее. Во время чтения Евангелия самое сильное действие. Потом уже не то.
От группки отделилась пара женщин, они стремительно исчезли в храме. Остальные, держа в руках по пучку травы, слушали свою «предводительницу».
– Плести надо, вплетая травинки и листики по кругу.
Женщина в юбке в пол и наглухо обмотанная платком говорила и одновременно так ловко вертела и скручивала травинки, сворачивая их в венок, что оторваться было невозможно: как завороженные мы следили за руками факирши.
– А зачем? ― услышала я свой собственный голос.
Она, видимо привыкшая к этому вопросу, отвечала, не переставая трудиться:
– На Троицу обязательно надо плести венок ― туда заплетается Святой Дух. Веночек дома на стену повесите, и он будет у вас весь год жить, квартиру охранять от нечисти. Так меня научили в Сербии.
– А старый куда девается?
– Кто старый?
Она оторвалась от плетения и смотрела на меня в упор, ожидая ответа: вопрос, конечно, задала я. Тем временем во мне проснулся бывалый боец интернет-сражений, и он совершенно невинным голосом произнес:
– Святой Дух. Которого вы в прошлом году заплели в венок, и в позапрошлый, и поза поза… Получается, что он действует только год, а потом ему пора в утиль, на свалку? Два года подряд он в одном и том же веночке жить не может, ему скучно? Домовенок Кузя в мультике раз и навсегда поселился.
– Не обращай внимания, она тебя троллит. Вот же искушение перед причастием. Идите, женщина, идите, раз не понимаете.
И я пошла, смеясь и удивляясь дремучести христиан и тому, что православие так сильно напоминает мне неоязыческие обряды, которыми я увлекалась подростком.
21 июня
Сегодня я видела небо и солнце. Такое ― впервые, поэтому хочу записать, пусть это и не имеет отношения к религии.
В десять утра воздух не протолкнуть внутрь себя: он стоял плотной душной массой.
Небо слоилось, выстилая пространство облаками, мягко и нежно укутывая землю в ватно-пуховую перину, сквозь дыры которой синели, плескались лужицы небесной лазури.
Порой они грозили упасть, свалиться, и в эти мгновения ужасно хотелось их поддержать руками или хотя бы приклеить скотчем.
А потом пространство неожиданно превратилось в белую медведицу, которая огромными прыжкам мчалась прочь, оставляя за собой маленькие перистые клочки, напоминающие то собачку, то дракончика, а под конец голову улыбающегося чему-то Шляпника. Чтоб наконец раствориться в идеальную синеву.
А над этим сказочно-прекрасным миром, обжигая кожу, солнце огненно улыбалось Равноденствию.
21 сентября
В церковь я больше не ходила. Чего угодно я ждала от нее, но уж точно не шаманства, с которым встретилась на Троицу. Такое я и без христианства регулярно вижу. Например, наша коллега, которая никак не может родить, регулярно в Коломенском сидит на «женском камне», ездила она и в Бурятию к шаману, и в церкви молилась. Но камню почему-то доверяет больше всего. По крайней мере, мне так показалось.
Я нисколько не разозлилась, но прочно разочаровалась в православии. Там и без язычества полно косяков: жутковатые, как во второсортном театре, крикливые парчовые костюмы, на мужчинах украшения дорогие и здоровенные ― такие рэперы носят, внутри помещения почему-то всегда душно и попахивает странно, молитвы зачем-то читают на старинном языке, будто за многие века не нашлось хороших переводчиков. В конце концов просто надоело пробивать головой стену.
Но главное, я так и не нашла ответ, зачем люди возвращаются туда снова и снова. И вообще, что такое церковь? Зачем ее иногда пишут с большой буквы, а иногда с маленькой ― где ошибка? Почему священник ― отец? Зачем вставать на колени или бесконечно креститься? Или, например, недавно прочла у одного френда: «Всякий ревнитель совершенства достигает его через подъятие произвольных и непроизвольных трудов и лишений. Но одни свои произвольные не так благотворны, как находящие извне не по нашей воле». Причем автор поста уверял нас, своих читателей, что это «важная цитата из Паламы». Откуда? И если она такая важная, кто в курсе, что такое «подъятие трудов и лишений» и кто такой «ревнитель совершенства»?
Я ходила по улицам взад и вперед, а у меня возникали и крутились как белка в колесе вопросы. И задать их было некому.
Начала спрашивать Колю, а он принялся отвечать настолько туманно, что я только разозлилась. Спросила Олежку. Он сказал: крестишься, и все поймешь, дескать, извне понять невозможно. Я не то что хочу или не хочу креститься, мне надо знать, зачем люди идут на это, а после их ответов говорить о крещении расхотелось.
Потом мы разъехались в отпуск – кто куда.
Первый раз за долгое время собрались в зале только в середине сентября. И сразу стали обсуждать книгу Раймонда Моуди «Жизнь после жизни: исследование феномена – переживание смерти тела», которую прочли по Колиной рекомендации. Это исследование и описание клинической смерти, которые Моуди назвал околосмертными переживаниями, описав их после разговора с полутора сотнями людей, переживших клиническую смерть. Книга нас увлекла и своей исследовательской базой, и выводами, и мы много говорили о ней.
На днях (как бывало практически каждый раз) спокойный разговор закончился, когда вместо приведения аргументов я начала, закипая, бегать по гостиной и размахивать руками, как крыльями. А уже в следующую минуту в запальчивости проорала: «Мне не нужны научные доказательства существования Бога. Вера на то и вера, чтобы верить, а не научно доказывать». Выкрикнув, настолько удивилась своим словам, практически точь-в-точь повторяющим сказанное массажисткой Мартой, что, нахохлившись, угнездилась с ногами на стуле, уткнувшись лицом в скрещенные руки. Коля и Олег молча вышли.
Утром следующего дня Олег поманил меня к себе. Пошла: обычно он не любил никого звать в свою комнату, предпочитая встречаться на нейтральной или чужой территории. Он явно нервничал: несколько раз сменил дислокацию, выбирая место. В итоге зачем-то забился в узкую щель между окном и комодом, под любимой картиной с усталым путником на столь же усталом, понуром ослике и сказал, что с Пасхи начал ходить в церковь. Что ему нравится разговаривать с отцом Александром, и тот рекомендовал ему переписать Новый Завет от руки, что Олег и делает все свободное время. Иногда нормально, а какие-то куски так трудно идут, что он весь покрывается потом, будто от физического труда. А еще священник назвал наш брак блудом, пусть и с благими намерениями. И сказал, что нам нужно венчаться. Но до того я должна креститься.
– Нет.
Олег стал уговаривать, приводить доводы, некоторые – откровенно манипулятивные. Обычно я прислушиваюсь ко всем советам Олежки, но тут была непреклонна: не стану креститься, пока не найду ответ, зачем мне это надо, даже если допустить, что я верю в Бога, хотя я бы не стала уверенно утверждать этого. А уж венчаться и вовсе не хочу ― это какие-то доисторические предрассудки или слепое следование моде.
– Может, тебе с отцом Александром поговорить?
В этом отказать было неловко, и я уклончиво согласилась на «как-нибудь». Зря. Олег тут же вцепился в данное мной слово и сказал, что 21 сентября ― отличный повод пойти, поскольку это праздник Рождество Богородицы. Красивый и радостный день.
Я попыталась отмазаться тем, что 21-е – это среда, а значит, рабочий день. Вышло неубедительно даже для себя самой. Олег не хуже меня знает, что в среду у нашего коллектива (то есть у нас троих) неофициальный библиотечный день, который мы часто проводили не в библиотеке, на что начальство смотрело сквозь пальцы, учитывая бесконечные неоплачиваемые переработки.
Неосмотрительно дав согласие, я только накануне, то есть вчера вечером, выяснила, что в будни служба на час раньше. Это означало побудку в пять тридцать. На подвиги я точно не подписывалась, поэтому, взяв адрес, пообещала приехать.
*****
В сентябрьское, чуть тронутое желто-красной осенней палитрой утро церковь отца Александра смотрелась куда приветливее, чем в первые ее посещения. Сам он сначала не узнал меня, потом рассмеялся:
– Как поживаете, «И вам того же»?
– «Гарри, все это не очень нормально,
Жизнь как качели – то вира, то майна.
Так что, дружище, биткоины майня,
Не забывай про нас».
Ответила я словами песни Саши Сплина и, заметив, что священник ничего не понял, добавила, что поживаю вполне себе, но хотела бы поговорить.
– Если долго, придется подождать.
Откуда мне было знать сколько. Тем более что у меня и заготовки никакой не было ― сколько ни пыталась что-то придумать, ничего не складывалось, так что, плюнув, решила: как пойдет. Но подождать согласилась.
Ждала-ждала и заснула на лавочке под фикусом размером с хорошее дерево. Со сна я вообще ничего не соображала, поэтому, когда пришел отец Александр, самой себе больше напоминала Ждуна, чем Homo sapiens, так что говорил в основном священник, а я все больше мотала головой в разные стороны, выражая то согласие, то протест.
Первым дело он спросил, готова ли я креститься. Увидев, что голова моя с сомнением покачивается из стороны в сторону, догадался, что не слишком.
– Тогда вы походите в церковь, захочется вам креститься, я покрещу.
Ходить, сказал отец Александр, лучше утром. Оказывается, утром и вечером службы не только по-разному называются, но и разные по смыслу и построению. Мне это ни о чем не говорило, но существенным показалось, что на утренней службе, которую он назвал литургия, большая часть молитв (он называл их какими-то другими словами, которые я не рискну повторить) ― константа и лишь небольшая часть меняется в зависимости от календарного дня и церковного праздника. И мне ужасно понравилось, что он показал в телефоне, как можно следить за литургией, пообещав, что мне никто не сделает замечание, что я «туплю в мобильник».
– Было бы неплохо прочесть книгу «Евхаристия» архимандрита Киприана Керна, ― добавил он под конец. ― Поначалу вам будет казаться, что там «все сложно», есть такой статус в соцсетях, но вы – человек ученый, приноровитесь. Вам должно быть интересно: там разбирается, систематизируется и раскладывается по полочкам структура литургии.
На том и расстались. Радости праздника я не ощутила, скорее напротив, досаду на себя, что забыла спросить: какого лешего он лезет в мою личную жизнь и постель. Придется снова идти.
27 ноября
Название книги я записала. Нашла и даже заказала бумажную. Она так и лежит в пакете доставки нераспечатанной. Несколько раз порывалась открыть, и сразу нестерпимо хотелось гулять: обожаю осенние краски днем, шепот деревьев и звуки домов ночами. В общем, деньги потратила зря.
Тем более что наш дом за последние месяцы превратился в религиозную библиотеку. Мальчики купили несколько Библий и разложили их по квартире так, чтобы они всегда были под рукой. Рядом лежали и стояли многочисленные Отцы Церкви (мне ужасно нравилось это словосочетание, поэтому я запомнила его с лету). Оставшееся свободное пространство заняли религиозные философы разных веков и направлений, толкования, переводы и диски с записями любимых проповедей.
Мой вклад ограничился «Евхаристией» Керна и книгой, которую я скрыла от ребят, чтобы они не подняли меня на смех. Подслушав от них восхищение неким Константином Леонтьевым, стала читать о нем, чтобы выяснить, что в начале прошлого века жил дипломат, философ, публицист и монах Климент, настолько оригинального склада ума, что и при жизни был малоизвестен, и потом нечасто переиздавался. И что однажды он сочинил сказку-притчу «Дитя души» на стыке похождений Ходжи Насреддина и сказок Шахерезады, где одна история перетекает в другую.
Ее-то я и прятала и потихоньку от всех читала, потому что всегда любила народные сказки. А тут автор обещал соединение молдавских и греческих преданий. Начала читать и… не захотела расставаться. Дитя души ― так называют на востоке приемных детей, «не телом рожденное, а душой принятое, по душе признанное, а не по плоти». От этих слов Леонтьева тепло внутри стало. Идеально мой вариант чтива.
А в церковь ходить начала. Каждое воскресенье вместо того, чтобы спать или тупить в сериалы, как на работу иду на литургию. Естественно, ничего не понимаю, но есть у меня такое правило, можно сказать, жизненное кредо: стараться не спрашивать советов, как жить вообще или поступать в заданной ситуации. И если уж я от этого правила отступаю, то слушаю внимательно человека и стараюсь его инструкциям соответствовать. Так что в церкви я бывала часто. Выбрать какую-то конкретную так и не смогла, поэтому ходила «как Бог на душу положит». Но только не к отцу Александру. Я бы и у него побывала, но путь туда больше соответствовал серьезному однодневному паломничеству, чем устоявшемуся выражению «пойти в храм».
Сначала ничего не понимала, даже следя за текстом. Потом появились точки опоры, что ли. Как костыли, они поддерживали меня во время службы. Вот служка (его как-то иначе называют) выходит из алтаря с большой книгой и красиво поют «Святый Боже», значит, скоро будет читаться Евангелие: понять принцип, по которому выбирается отрывок, я пока не пытаюсь.
Следующий маячок ― когда толпа людей выходит из алтаря и просит Бога спасти всех кого ни попадя. Потом что-то поют всем составом, кто есть в церкви (от разнобоя нестройных голосов разобрала только первое слово «Верую» и последнее «Аминь», но поют с таким азартом, что мысленно отметила почитать что-то об этой молитве).
А потом наступает трудный отрезок. Для меня трудный, а для остальных, видимо, важный. Потому что они бухаются на колени и долго стоят молча в ожидании нескольких священников из алтаря, слова которых обычно плохо слышно из-за стены и покрывала между ними и слушателями. В эти минуты мне всегда хочется выйти, потому что я чувствую себя лишней или дурой: тут явно что-то происходит, но сколько ни хожу, смысл ускользает от меня.
Потом поют «Отче наш». И мне становится веселее. Во-первых, «Отче наш» я знаю, потому что Коля, не спрашивая разрешения, завел моду читать эту молитву перед каждой общей едой. А во-вторых, значит, скоро конец и я смогу уйти с ощущением выполненного долга.
*****
Сегодня тоже была. Коля сказал: «Надо. Заговенье». Ничего не поняла, но все равно собиралась, поэтому пошла в незнакомый храм – давно туда собиралась. Не понравилось. Хор поет ― будто строй солдат на плацу марширует. Регент (теперь я знаю, как называют дирижера в церкви) машет руками, будто капусту в воздухе рубит. Воля его, так уж полную кадушку нарубил бы. А у священника не один, а сразу два дефекта. Первый ― в прямом смысле: он заикался, а второй – психологический: батюшка никак не мог закончить проповедь. Говорил долго, муторно, как круги по воде нарезал: вроде уже отпусти людей, а он по новой заворачивает. И себя, и слушателей измучил. Но они ― смиренные ― после аминь все заулыбались, «спаси Господи» ему пожелали. Впрочем, и правда, пусть Господь его спасет.
В проповеди священник сказал, что завтра наступает Рождественский пост, а через пару минут назвал его Филипповым. Но я уже привыкла к таким косякам. Все непонятки я записываю, а дома уточняю по Вики или на сайте «Азбука», переводя на понятный, современный язык.
Слово «заговенье», оказывается, означало начало поста: наканунестрогих ограничений в еде до Рождества священник велел наесться мяса, так чтобы «ближайшие сорок дней смотреть на него было противно». Меня несколько покоробило излишнее внимание к еде, но люди кругом веселились и явно поддерживали его. Возможно, раздражаюсь я оттого, что никогда не постилась и не планирую. Как всегда, в голове выскочила цитата из «Мое имя Пыль»:
Ноябрь, научи меня
В кромешной тьме видеть свет.
Научи оправданиям твоим,
которых нет.
*****
Перед тем как сделать эту запись, почитала ИИ. Интернет гласил: «Заговенье приходится на день памяти святого апостола Филиппа, поэтому пост называют также Филипповым». Так стало понятнее. А пока искала, наткнулась на цитату Отца Церкви по имени Иоанн Златоуст: «Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления».
Значит, я была права, не в еде дело. Стала читать дальше, о том, почему у нас празднуют Рождество 7 января, а католики и, оказывается, часть православных – 25 декабря, но запуталась в календарях и цифрах. Я так и не поняла, по какому календарю мы живем ― григорианскому или юлианскому. Может, когда-нибудь еще почитаю.
25 декабря
Сегодня я плакала. Из-за Коли. Впервые.
Мне очень хотелось порадовать мальчиков, устроить им праздник. И я пошла на самую раннюю службу, на которую была способна встать, ― благо потеплело до нуля. Хотя, на мой вкус, говорить о потеплении можно после плюс шестнадцати, но выбирать не приходится, берем что Бог послал.
Прибежав, наготовила кучу вкусной еды, накрыла стол, поставив в центре припрятанный рождественский венок с красными свечками ― пусть будет Рождество номер раз.
С Колей случилась истерика. Кажется, тоже впервые. Он что-то кричал о язычестве. Что красный цвет символизирует цвет крови Христа. И плевался мне в лицо. Не специально, конечно, просто я стояла рядом, и оказывается, если Коля говорит громче обычного, он сильно плюется. Олег молчал. Судя по его лицу, он был «за» Колю, но манера изложения аргументов ему была не по душе.
Я не стала слушать до конца или извиняться. И со стола убирать не стала. Пусть сами со своим православием убираются как и куда хотят. А на Новый год и второе Рождество уеду к родителям, с этими турпоходами по церквям год не была у них.
Не знаю, на кого я больше злилась – на мальчишек или на себя. Я мечтала организовать домашний праздник, а меня обвинили в идолопоклонстве и неграмотности. Задумавшись, на автомате включила телек, где по одному из кабельных каналов показывали «Жертвоприношение» Тарковского. Ну, пусть идет, хотя не сказать, что я фанатка последнего фильма Андрея Арсеньевича. Очнулась на словах: «Странно, что, когда люди собираются вместе по единственному признаку общности в производстве или по географическому принципу, они начинают ненавидеть и притеснять друг друга. Потому что каждый любит только себя». Тут-то я и заплакала.
26 февраля
Писать не хотелось. В церковь тоже. Пришлось пинать себя в обе стороны.
В тот день я уехала ночью (ого, оказывается, я умею сочинять каламбуры). Чуть не забыла – надеясь со мной поговорить, Олежка скребся в дверь, но я не открыла. А когда я исчезла, каждый день звонил, я ни разу не ответила ― отдыхать так отдыхать.
Не ответить оказалось просто, прекратить думать ― сложнее. За новогодним столом, в гостях, в театре я не переставала внутренне проговаривать тот день. Монологи особенно удавались ночью: я с легкостью разбивала Колины доводы, приводя один за другим все более сильные и яркие аргументы в свою защиту. Вот только спать удавалось плохо.
Это заметили даже родители, которые обычно не проявляли интереса к внешнему виду дочери, любимой ими просто по факту существования. Но тут и присматриваться не надо было, я стала вялой, равнодушно жевала даже любимую осетрину, а однажды уснула во время батальной сцены в кино. Проще всего оказалось объяснить мое состояние ссорой с Олегом (отчасти правдой) и приврать, что разругались мы по моей вине: они настолько верят в Олега прекрасного, что им куда проще принять за чистую монету скандальность дочери, чем допустить мысль, что он способен не поддержать меня.
И мне совсем не хотелось делиться религиозными переживаниями с бесконечно любимыми мамой и папой, гордящимися тем, что являются убежденными атеистами. Папа и в Коммунистической партии держался до последнего, то есть до 1995 года, когда председателем ЦК стал Геннадий Зюганов, единственный из руководителей партии, кому он не доверял.
Оставшиеся дни каникул они так часто и подробно обсуждали мое недостоинство, что я впервые была рада вернуться в Москву из родительского дома.
*****
Хочу запомнить это, поэтому запишу: Коля со мной не разговаривает. Мы молчим с тех пор, как я вернулась. Мы больше не собираемся в гостиной за столом, и каждый сам готовит себе еду. Мы умудряемся не обсуждать даже рабочие моменты, удивительно, но это никак не отразилось на динамике и результатах. Уже хорошо.
Но как же я ненавижу эту мертвечину молчания и игнора. Ненавижу и не умею: мне проще все обговорить, попросить, если требуется, прощения и жить по-человечески, а не изображать зомби. Да еще Олег суетится, пытаясь угодить и нашим и вашим, мельчит противно: «Помиритесь, помиритесь», – каждый день повторяет. А мы и не ссорились. Я ― точно не ссорилась.
В квартире воцарились такой мрак и холод, что я ― с трудом выносящая морозы ― стала уходить гулять до позднего вечера. Благо в этом году зима стоит на редкость теплая и за исключением первой недели февраля столбик термометра ниже минус пяти не опускается. Так что я гуляю где угодно. Кроме церквей. Туда не захожу: если эти православные такие, как мой Коля, нафиг они мне сдались. Несправедливо орать или уходить в несознанку и молчать я никогда не умела и, познакомившись с христианством, учиться этому собираюсь.
*****
Вчера тоже ушла. Почти дошла до метро, посмотреть – вдруг в переходе уже продают рододендрон даурский, который обычно багульником называют. Только багульник совсем другой и даже ядовитый, если долго нюхать. А в Корее, когда распускается рододендрон, наступает день традиции хваджон нори (название означает «игра цветочных оладьев»), и тогда женщины уходят в горы, чтобы полюбоваться его красотой, не забывая прихватить рисовую муку и сковородки. Потому что на пленэре они разговаривают, нюхают цветы и пекут эти самые оладьи-хваджоны, украшая их цветами. Пекут и с другими цветами, которые можно есть. Их, оказывается, десятки. Пекут уже тысячу лет – со времен династии Коре, правившей в 918–1392 годах. Все это больше тысячи лет символизирует женское цветение.
Иду ― смеюсь над собой: в голове сидит масса бесполезных знаний, которые вылезают, как опилки из головы Страшилы, в самый неподходящий момент. И, задумавшись о великом – о рисовых лепешках, прошла мимо метро и дошла практически до храма отца Андрея. И тут, чтобы посмеяться вместе со мной, ровнехонько в тот момент, когда я проходила мимо ворот, Божечка вывел батюшку на улицу.
– Зайдешь?
– Можно не сегодня?
– Можно. Тем более что я уже ушел чай пить к Михалычу ― помнишь, мы у него в беседке встретились? Хочешь, пойдем вместе. Там и поговорим.
– Я вообще-то к метро за багульником. Да и говорить нам не о чем.
– Так рано: его только в марте начнут продавать.
