Философия человеческой жизни
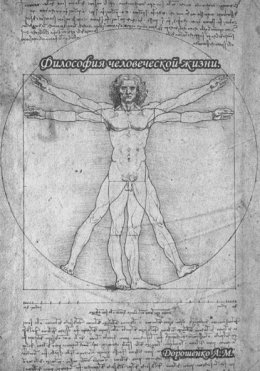
Страдающая Русь.
О, Русь, Россия!
Сколь страданий
на долю выпало твою.
И вновь ты ищешь
счастья чаяний,
на том пустынном берегу.
Что сделал с ликом величавым
ты человеческий курьёз.
Природы ль ты или глумлений
остывших каменных пород.
Твой дух страданий накалён
гремит набатными басами
и в пьянстве тонет этот звон
как стон, твоих детей,
лишённых славы.
Дорошенко А.М.
Введение.
В данной книге мы постараемся ответить на некоторые, так называемые извечные вопросы, которые, нет да нет, и возникают, а ещё и мучают не только каждого отдельного человека, но и все человечество. Эти вопросы связаны не только с самим человеком, но и с его жизнью. Рассматривать их мы будем не с точки зрения жизни и человека, как её носителя, а, скорее, с точки зрения философии человеческой жизни. С этой точки зрения мы будем рассматривать и самого человека, а также и того, что с ним непосредственно связано. В этой связи мы будем говорить о мире природе и мире людей, в которых как живёт, так ещё и существует человек. В этих мирах он проявляет себя в том или ином качестве. Хотя проблема человека и его жизни ставилась как философская проблема, но до сих пор о философии человека, а тем более о философии человеческой жизни имеются лишь только некие мыслительные конструкции, которые можно встретить в философских, а также изотерических, религиозных, магических, фантастических и мистических учениях, направлениях и литературы. Можно сказать, что философия человека и философия жизни, до настоящего времени, так и остаётся пока не разработанными.
Кроме этого, нам необходимо будет прояснить, что мы имеем в виду под самой философией, т.к. в настоящее время под ней понимают все, что угодно и считают её, чем угодно. Это связано с тем, что предельная дифференциация наук, а вместе с ними и самих наших знаний привела к тому, что она постигла и саму философию, вследствие чего рождение в лоне философии новых философских учений, представлений или просто новых философий есть не что иное, как рождение в лоне отдельной науки неких новых наук. Так, например, в физике говорят о физике твёрдого тела, физике плазмы, физике элементарных частиц и т.д. и т.п. Так и в философии говорят о философии морали, философии этики, философии эстетики и т.д. и т.п. Переход от проблемности наук, которые рождались в лоне предметной формы человеческого познания, к простому описанию и объяснению материальных форм, порождённых объектной, объективной формой нашего познания, привело к тому, что выделение некого многообразия объектов мира привело к появлению многообразия наук, а отсюда и соответствующих им философий. Эта тенденция, в настоящее время, пошла на убыль, но все ещё держится за счёт того, что видимая объективность слишком сильно нас тянет к себе, именно потому, что является видимой, а отсюда и существующей. В этой видимости нас уже не интересует то, что является потаённым и потенциальным, что составляет невидимую область, требующей для своего существования некого доказательства или же визуализации, как некого их видимого представления. Объективное этим не обладает, так как уже только своим видом доказывает истинность своего существования, а потому и возможность его познания.
При объектном рассмотрении человек и его жизнь являются существующими и объективными, а потому их рассматривают уже как некую реальность, не будущую никаких доказательств, а потому истинности о них наших знаний. Но если вернуться в лоно философии, то мы должны рассматривать жизнь и самого человека именно с точки зрения того, как он мыслит жизнь и самого себя, а также, почему он это делает именно так, а не как – то иначе. Именно в этом проявляется то, чем занимается и всегда занималась истинная философия. С этих позиции мы будем рассматривать как самого человека, так и его жизнь.
В ней мы представим проблему человека и человеческой жизни с позиции целостности, а потому не будем касаться того множества представлений, а тем более мнений по этим проблемам, а дадим своё видение их как проблем. Это ни в коем случае не означает, что мы пренебрегаем или же просто отбрасываем все то, что уже выявлено и открыто человеческим разумом в проблематике человека и человеческой жизни. То, что эти проблемы сложны, думаю, никто не сомневается, но ведь сложность как раз – то вызывает всегда наибольший интерес к такому или иному вопросу. Но, кроме интереса нас движет ещё и то, что современная цивилизация почти полностью выбросила из своего лона жизнь, а потому, развиваясь, стала просто деградировать в русло полного уничтожения жизни. На пороге второго и третьего тысячелетия мы снова сталкиваемся с проблемами сохранения жизни. Но, что – то сохранять можно только тогда, когда понимаешь, что она такое есть, а также и то, что жизнь очень легко и просто уничтожить.
Развитие нашего познания достигло такого предела, когда человечество становится, а, точнее сказать, уже стало на некую грань между жизнью и смертью. Эта грань, особенно, явно и остро проявляет себя в настоящее время. Находясь на ней, мы с наибольшей отчётливостью и остротой начинаем понимать, что смерть начинает брат верх над жизнью. Более того, развитие философии и наук показало, что человек познавая мир, познает ещё и самого себя. Но как оказывается, это познание больше связано с познанием себя, а не окружающей природы и мира. Познавая мир, мы видим в нем себя такими, какими являемся, а также ещё и то, что мы из себя представляем.
Все подходы к объяснению феномена человека и жизни привели лишь к тому, что нам так и не удалось создать ни метафизики человека, ни метафизики жизни, а потому и метафизики самой человеческой жизни. Это касается не только самой метафизики, но и всех существующих методов познания, а не только методов и способов частных наук и как, следствие самой философии. Они просто бессильны ответить на самые важные вопросы мироздания, волнующие человека. Мы рассмотрим, что дают нам уже существующие методы и способы познания для объяснения и разрешения, указанных нами выше проблем.
Далее мы рассмотрим основания, на которых стоит и строится то или иное представление о человеке и о его жизни, а также постараемся их обосновать. Мы не будем излагать все, имеющиеся по этим проблемам представления, а просто будем использовать их для построения некого нового уже системного представления, как о самом человеке, так и о его жизни. Оказывается, что разрешение этих проблем невозможно вне рамок понятий и представлений о времени. Именно эта попытка, до настоящего времени, так и не была осуществлена ни в науках, ни в самой философии. Имеющиеся взгляды по этим вопросам, представлены в основном через пространство и на самом пространстве. Они не привели к существенным результатам в нашем понимании человека и самой человеческой жизни. Оказывается, что именно в этом (в представлении на пространстве), выражается и состоит некая специфика и самого нашего познания. Это связано с тем, что все временное, мы переводим в пространственное, отражая его в статике, а ещё и в виде самой простейшей динамике, которой является простая трансляция того, что мы и познаем на пространстве. Само же пространственное не рассматривается во времени и даже не проецируется на него. Более того, время понимается, представляется и рассматривается нами как линейное, одномерное, а потому и как самое простейшее образование. Но, кроме этого, оно, как оказывается, ещё отягощается мерой, выраженной в виде числа, превращается в некое уже формальное образование.
Человек изменяется не только внешне, но и внутренне. У нас нет опыта познания этого внутреннего, разве что путём отождествления его с внешним. При этом внутреннее представляется нами не иначе и не чем иным как минимизированным внешним, а потому мы имеем очень схожие модели микро – и макромиров, макро – и микрокосмов. Различаются они ещё и тем, что выражены разными понятиями и имеют различные имена. Мы же, используя понятия, будем постоянно соотносить их с тем, что изучаем и познаем.
Обращаясь к проблеме человека и человеческой жизни, мы хотим утвердить при этом как самого человека, так и его жизнь как одну из основ мироздания, а ещё и как один из путей развития, изменения и генезиса самого человека. Поэтому нам придётся исключить из рассмотрения множество мнений, а также ещё и саму субъективность, имеющуюся в самой проблематике изучение и познание человека и человеческой жизни.
Говоря о человеке, и о жизни мы вообще – то не можем рассматривать их отдельно друг от друга. Ведь вне жизни нет человека, хотя возможно, вне его существования или же бытие самой жизни. Современная наука пришла к тому, что наделила живое жизнью, а отсюда уже все живое стало иметь и свою собственную жизнь. Так, вынеся из человека, присуще только ему, наука наделила им и все живое, а потому мы уже должны говорить о жизни любого живого существа. Но между понятиями живое и жизнь есть существенные различия, потому что одно из них определяет собой некую область природы называемою живой материей, а другое – что присуще самому человеку, как его некое качество. Жизнь выступает в лоне живого как объект, как познаваемое. Современная наука выделяет в лоне живого другой объект, которым является организм, отождествляемый с самим живым существом. В таком полагании становится понятным, что жизнь не есть то, что присуще всему живому, а потому и всем организмам, а только той её форме, которая называется человеком. Мы просто переносим жизнь на все живое, подчёркивая тем самым факт конечности его существования во времени, которым и наделяется человек. Жизнь же есть качество живого, а не просто то, что присуще всему живому. Можно говорить о жизни отдельного муравья или гусеницы, бабочки и т.д., по отношению к жизни человека, точнее сказать, ко времени его существования, которое мы и называем жизнью. Но ведь жизнь человека не есть жизнь муравья или бабочки. Этот пример указывает и показывает, что жизнь, присуща именно определенной форме живого – человеку, а не всему живому. Об этом подробнее мы расскажем в разделе “творящий космос”. Конечно то, что мы выделили, по всей видимости, вызовет бурю негодования особенно у учёных метафизического и диалектического толка, которые только и способны полагать жизнь и самого человека в лоно пространства, ломая и дробя их на части и куски, не понимая того, что просто превращают как одно, так и другое уже в неживую, мёртвую субстанцию. Для этого им необходимо такое дробление, т.к. через него – то они точно узнают, что есть такое жизнь и сам человек. Но, ведь, при этом они уже соотносят их с неживым и мёртвым. Именно так и таким образом в науку вводятся различие живого и неживого, а потому о живом судят не с точки зрения его самого, а с точки зрения мёртвого. Но то, что отлично в понятиях, вообще – то не означает различия по самой природе вещей. Внося эту идеальность в виде деления в реальность, мы её умерщвляем, а потому имеем дело с некими моделями или конструктами этой реальности, так называемым их подобием. Мы же исходим из того, что любая сколь угодно малая реальность не есть часть чего – то большого. Она есть тотальность и самость, которую мы можем изучать как некую неповторимость и индивидуальность. Помещение её в лоно некого общего вообще – то не означает того, что она стала уже некой её частью. В мире каждая часть есть некая целостность, потому что она существует самостоятельно и независимо от всего другого. Кроме этого, она самодостаточна и в этом нас убеждает именно факт её рождения. Наша субъективность лишает его этой самости и ввязывает его в зависимость от чего – то другого. Мы можем представить Солнечную системы без Земли, но мы не можем ответить на вопрос, что с ней будет и произойдёт, если её не станет в реальности. Если даже представить это в отношении Луны, то и здесь мы оказываемся бессильны, а потому обращаемся к фантазиям или мистификациям. Если даже потеряем руку или ногу, от этого наша жизнь может существенно изменится, но ведь все равно мы остаёмся живыми и продолжаем жить.
Говоря о человеке и о его жизни нам необходимо рассмотреть ещё и социальный мир, в котором человек проявляет самого себя, а ещё осуществляет и реализует свою жизнь. Социальный мир, как это не покажется парадоксальным, определяет облик современного человека, а вместе с этим и саму его жизнь. То, что он сложен, ни у кого не вызывает сомнения, а потому многие исследователи и учёные тонут в его многообразии, а также и разнообразии его проявлений. Поэтому мы будем говорить о самых общих чертах, о жизни и о самом человеке, не забывая при этом того, что человек является ещё и некой индивидуальностью, неповторимой самостью.
В философии жизни есть ещё одна сторона, которой является человек. В философии человека в этом качестве выступает ужа сама его жизнь. Эти две стороны есть выражение развития самой природы в форме человека, с её изменениями, которые представляют себя в том, что мы и называем нашей жизнью. В силу того, что человека полагают статическим, его представляют в философских учениях и системах в неком уже конкретном виде. Примерами такой его определённость, являются: человек – разумный, человек – деятельный, человек – познающий и т.д. и т.п. Оказывается, что это не касается и не связано с самой жизнью человека. Если жизнь есть динамика человека, то тогда мы можем кое-что понять из неё, путём вынесения жизни на пространство. Это мы представим в соответствующем разделе нашей книги.
Кроме этого, мы представим разнообразные методы и способы анализа человека и самой жизни, а также ещё и самый общий метод, исходя из целостности самой человеческой жизни, так называемую мантику человека. Через её построение, а затем и с её помощью мы рассмотрим будущее жизни, которое, как оказывается, очень тесно связано непосредственно с нами, а потому с осознанием своего будущего, которое позволяет нам строить этот мир более осознанно, и не боятся, как черт ладана, этого нового будущего. Именно в парадигме понимания и осознания человека и его жизни мы будем строить философию человека, философию жизни и философию самой человеческой жизни.
В них мы рассматриваем раздельно человека и жизнь, а затем, соединим их в неком общем синтезе, говоря при этом уже о человеческой жизни или о жизненном, живом человеке. Мы умышленно идём на изменения этих понятий, потому что, в одном случае, определяющим человека выступает его жизнь, а в другом – сама жизнь, определят человека. В этом есть различия, которые часто не замечают, а потому и просто отождествляют. Это отождествление выражается в понятии человеческая жизнь. Поэтому в такой определённости мы можем говорить только о качестве самой жизни, отождествляя её с человеком, потому что жизнь человеческая, жизненный и живой человек несут в себе одно, и тоже качество, которым является его жизнь.
Построение мантики и рассмотрение человека и его жизни в её собственном лоне позволяет выявить и предвосхитить будущее, а потому понять ещё и некий вечный круговорот, постоянно проявляющий в жизни народов и самой человеческой цивилизации, являющимся неким следствием генесиса отдельной человеческой жизни. Мы вступили в такой период своего развития, что можем проанализировать своё прошлое, вскрыть его цикличность и повторяемость, а потому управлять в будущем теми процессами и явлениями, которые были реализованы в те или иные исторические эпохи и периоды существования человечества. Это означает, что можно говорить не только о генесисе развития человека, а и о том, что он хранит информацию в своём ДНК, но ещё и о том, что такую память имеет и несёт в себе сама человеческая цивилизация. Память цивилизации хранится в знаниях, а потому и передаётся через них. По мере расширения нашего знания происходит ещё и его минимизация, а затем и локализация, выражением которой является некое его новое качество. Вот почему, мы идём на локализацию и минимизацию знаний и представлений в виде неких универсалии или инвариантов.
Жизненный опыт человека и человеческой цивилизации представляется в мантике как основа нашего познания. Его дифференциация приводит к тому, что мы имеем дело в рождении, жизнью и смертью, как некой цикличностью развития, как самого человека, так и всей человеческой цивилизации. Оказывается, что эти основания представляют собой не мантика, а Системология. Через них раскрывается цикличность развития человека и всего человечества. Мантические основания несут качества. Эти качества мы представим в нашей книге, а также, представим ещё и метод, с помощью которого можем их использовать для познания любой природной реальности.
В заключении укажем, что с первоначальным анализом жизни человека можно познакомиться в книге автора – “ Ах, эта жизнь человеческая!” В ней мы изложили основные моменты человеческое жизни, а также то, что под ней понимаем, а ещё, что под неё вкладываем и что под неё подводим.
Глава I. Философия жизни.
1.1. Жизнь. Живое и неживое.
Говоря о жизни нам необходимо выделить не только то, что лежит в её основе, но ещё и то, что является её носителем. В этой главе мы будем рассматривать в основном только жизнь по отношению к человеку как живому существу. Именно такое полагание позволяет нам выявить понятие живого и неживого, а также выделить в самом лоне живого то, что мы понимаем и называем жизнью. А потому начнём своё изложение с понятий живое и неживое, а затем перейдём к понятиям – жизни и смерти. Последнее, как оказывается, присуще даже тому, что мы называем неживым. Оказывается, что понятие смерти имеет отношение к живому, а не к мёртвому, которое является просто другим именем неживого. У неживого нет финального или критического состояния, какое имеет и присуще именно живому. Мы говорим о мёртвом как о том, что подвержено разрушению, а потому и просто исчезновению. Живое же умирает, а затем подвергается разрушению и исчезновению, как и само мёртвое.
Говоря о живом и неживом, мы говорим о неком качестве, которое несёт в себе материя. Сама природа лежит в лоне потенциальности и потаённости, а потому не несёт в себе этих качеств, хотя, в настоящее время, её ими все равно наделяют. Природа не есть объективное и существующее, а потому не может иметь качеств, присущих её носителям. Только с помощью их и посредством их, мы определяем и различаем понятие природы от понятия – материя, хотя сами носители несут на себе её качество. Вот почему мы говорим о мире природы, как о мире, состоящим из материальных структур и тел. Но сама природа не определяется через эти материальные структуры и тела. Она есть некое всеобщее качество самого мироздания, которое называют миром или просто космосом.
Появление качеств живого и неживого связано с тем, что в лоне самой науки появляется новый способ описания, объяснения и познания только видимых природных предметов, называемых уже объектами. Предметами, в таком полагании, стали явления природы, как то, что могло, появляется и исчезать. Переход от описания и познания предметов к описанию и познанию объектов позволил использовать в их изучении и описании способы систематики. Так в лоне учения о материи зародилась систематика, которую по отношению к космической материи выявил и создал Т. Браге, а по отношению к живой материи это осуществил К. Линей. Это есть первые виды систематик. Сами же они, в свою очередь, привели к рождению и появлению первых законов в описании и изучении как неживой, так и живой материи.
Переход от предметного представления конкретных наук к объектному их представлению и описанию, привёл к тому, что в качестве объекта стали выступать уже сами конкретные, природные сущности. Именно природные сущие, а не природные реальности, т.к. систематика требовала выполнения главного и основного условия – наличия некого идеального, отражающего в себе и собой некую сходность как тождественность всех природных сущих. Это привело к рождению в её лоне понятий рода и вида, составляющих основу самой систематики. Род стал нести в себе некоторое идеальное единство во множественном, которое уже составляло некоторое видимое его многообразие. Вот почему мы говорим о том, что живое и неживое имеет отношение только к самим объектам, как некоему существующему, в виде наличного бытия. Предметность при этом уходит в лоно потаённости и потенциальности, т.к. само понятие природы переходит в понятие рода, как того, что уже считается рождённым, а потому существующим или просто сущим. Это есть не что иное, как редукция понятия природы в понятия рода. Само сущее при этом становится и превращается в простую “естность”, в то, что есть, одним из конкретных проявлений которого является вещество, но уже, выступающее как некий вид материи. При этом сама материя полагается в лоно объективности в своей натуральной, телесной форме, что в свою очередь приводит к рождению понятий живых и неживых тел, а также живого и неживого вещества. Такова эволюция, а точнее сказать, генесис предметной формы познания как некого перехода в новую уже объективную форму познания. Как мы показали это связано ни с чем иным как с некой сменой самого метода нашего познания. Она привела к тому, что мир стал представляться нами в виде множества объектов, которые, мы должны не только описать, но ещё и познать. В рамках этой объективности мы только и можем говорить о живой и неживой материи, потому что материя в этом случае выступает как порождающая свои же собственные качества, которыми и являются живое и неживое. А раз это качества самой материи, то необходимо выявить ещё и то, что лежит в основе их такого выделения. Оказывается, что её является сама материя. Именно она рождает живое и неживое. Кроме этого, её ещё выражает её в виде некой видимой для нас формы. Эту форму в лоне материи называют телом или же просто натурой. А потому мы также будем, говорит о живых и неживых телах.
Мы показали, что, беря в качестве основания ту или иную сущность или же просто некий объект, мы можем определить его качество как по отношению к самому себе, так и по отношению к некому другому. Оказывается, что этим другим может быть то, что сходно с нами или же то, что с нами несходно. И вот тогда сходное с нами мы наделяем тем, что присуще нам, а несходное с нами обозначаем как некое противоположное нам. Ведь оно же нам не принадлежит, значить является неким чужим, а потому и не присущим нам. Отсюда мы имеем два противоположных качества, одно из которых несёт в себе метафизическое тождество с нами, а другое – то, что противоположно нам, а потому нам не тождественно. Так мы приходим к тому, что все имеющее противоположно нам является мёртвым, а потому неживым, т.к. ведь сами мы являемся живыми существами. Отрывая это, имеющееся в нас и полагая его в мир, вовне, мы уже имеем живое как то, что тождественно и сходно с нами. Им – то мы и замещаем себя, тем самым, как бы снимаем присущую нам субъективность. Но так определенное живое все равно несёт в себе субъективность, поэтому все понятия не только несут, но ещё и содержать в себе её, а потому содержатся ещё и в самом нашем познании.
Отличие живого и неживого связано ещё и с тем, что в движении материя проявляет себя как самодвижущая, как совершающая сама своё движение. Оказывается, что самодвижение присуще живой материи, а движение – мёртвой материи. Но самодвижение также является движением, а потому его, как, и движение можно представлять на пространстве. Оказывается, что движение рассматривается не по отношению к тому, что его вызывает, а к тому, что его может изменять и создавать. Движение неживой материи связано с тем, что на неё действуют силы, а живая материя движется сама по себе и поэтому говорят, что ей присуще именно самодвижение. Оказывается, что самодвижением материи так никто и не занимался. Зачем изучать то, что уже известно в рамках самого учения, а потому и нашего понимания самого движения. В неживой материи, оказывается, также существует самодвижение. Примером его является, вращение Земли вокруг своей оси. Почему она вращается, до настоящего времени, так и остаётся невыясненным и непонятным нам. Все, вращающиеся космические тела для нас также являются загадочными с точки зрения их движения. Но живое не вращается, а просто участвует в факте самого вращения нашей Земли. Живому не присуще такое самодвижение, которое имеет космическая материя. Живое обладает свободой собственного движения, а неживому – мы почему – то приписываем некую несвободу движения, т.к. говорим, что оно движется туда, куда его направляет сила. Оказывается, само понятие силы есть не что иное как “нечто” вынесенное из нашего же собственного лона. Качество, присущее нам, мы выносим, а затем ещё и наделяем им саму материю, которая в нем становится сильной или силовой материей. Эта сильная, силовая материя изменяет движения тел, а также может создавать его, если тела не движутся. Но, что заставляет двигаться живое? Может быть тоже некая сила, которую называют живой силой или просто энергией. Введение понятия живой силы не прижилось в физической науке, а потому было просто отброшено и его место заняло понятие – энергия. Её качество стало отражать и нести в себе силу, а точнее, её некую количественную интенцию, называемую энергичностью или энергитичностью. Чем больше сила, тем большая энергия тела. Это большее означает некое увеличение всех характеристик и параметров, с помощью которых описывается и изучается то или иное тело. Так и некая количественная мера живого стала называться жизнью, означающая жизненность, жизнестойкость или жизненную силу самой живой материи, а отсюда и самих живых тел. Поэтому определяя жизнь в лоне живого, мы имеем в виду уже некую её меру, а потому определяем её либо как время жизни, либо как судьбу, либо как то, что, действуя на нас или же нами управляет. А потому мы и связываем это с Богом или Мировым Разумом, а порой и с более развитыми космическими цивилизациями. Не имея фактов, подтверждающих их существование мы идём на мистификацию или же просто фантазируем, выдумываем их. Нам это нужно, а порой и просто необходимо в тех случаях, когда не можем понять свою собственную жизнь, направления её течения, а также и своего собственного развития и движения.
Говоря о жизни как о некой мере, которая отражает собой нашу стойкость или же любовь к ней, мы часто стараемся определить её через некие другие понятия, считая, что они являются более простыми, чем само понятие жизнь. Но определяя и подводя под неё другие понятия, мы тем самым теряем её сущность, потому что сама сущность жизни находится и выражается только в самом её имени. Понятие жизнь есть уже именованная сущность. Имя, несущее в себе некую суть, а потому ещё и того, кто наделяет её этим именем. И здесь мы имеем некий элемент субъективности, который полагается как в само имя, так и в понятие, несущее уже некую суть самого именованного.
Мы определили жизнь в лоне живого, в лоне же мёртвого или неживого, жизнь проявляет себя только тем, что обладает самодвижением, выраженной через некую свободу движения. Эта есть отличительная особенность самого живого по отношению к неживому. Оказывается, что в лоне неживого мы не можем ввести его меру, какой является в лоне живого жизнь. Мы сталкиваемся с очень необычным фактом, т.к. именно в лоне неживой материи вводим меры и характеристики того, что берём в качестве познаваемого. Но почему мы не можем вести количественную меру, несущую в себе саму суть и сущность неживого? Оказывается, что суть и сущность неживого лежит в самом понятии сущее. Существование, выраженное в самом понятии сущее, не отражает количества, а является чистым, идеальным качеством. В лоне материи само понятие материальности или материального несёт в себе некую суть, а потому отражает в себе ещё и саму сущность материи. Но неживая материя имеет свою меру, которая определяется никак некое количество, а как некая мера, связанная со способом измерения количества неживой материи. Этой мерой выступает масса, несущая в себе массивность, как некое качество, но определенное уже в лоне тотального полагания количества. Жизнь же не выступает, а потому не является неким качеством в лоне количества, каким является, например, масса. Это связано с тем, что жизнь не имеет меры, т.к. является неизмеримой, а потому и не имеющей своего собственного способа измерения. Масса же, как мера количества неживой материи имеет её, а потому именно её подчёркивают в самом определении массы. Но это вообще – то не означает того, что жизнь не имеет своего вполне определенного количества. Просто это количество лежит не в лоне меры, а, как оказывается, лежит в лоне математики и её мер. Хотя мера и определяется числом, но обязательно имеет и несёт в себе некий способ её определения и измерения. Так, например, температуру тел измеряют термометром, а мера хотя и фиксируется с помощью числа, но сама её фиксация происходим путём её некого отождествления с процессом расширения жидкости при изменении температуры. Именно он лежит в основе определения меры, которую мы и называем температурой. Если же вести аналогичную меру для определения количества жизни, то, как оказывается, мы можем ввести для её определения число, но не сможем найти способа определения или отождествления её с некой мерой, как, например, это имеет место при определении температуры. Это означает, что хотя число лежит в основе определения меры, но не является вообще – то её определяющим критерием. Отождествление меры и числа не вполне правильно, хотя это часто нами используется. Оказывается, что это связано ещё и с тем, что живое и неживое есть всего лишь некое наше представление о природе материи, существующей в форме тел. Изменение этого представления требует изменения не самой сути и сущности живого и неживого и самого понятия жизни, её определения и понимания. Понимание означает более глубокое проникновение в суть и сущность этих понятий. Вот почему мы изменяем свои представления. Ведь именно через них мы углубляем как познание самих себя, так и познание окружающего нас мира. Это устремление в свою собственную самость позволяет нам более тонко, а потому и более правильно описывать, и понимать окружающую нас природу, а вместе с ней и самих себя.
Обратимся снова к понятиям живое и неживое. Мы уже говорили, что понятие живого несёт в себе жизнь, а понятие неживого, мы связываем с мёртвым, неживым или же просто со смертью. Оказывается, что смерть не присуща неживому или мёртвому, а присуща именно живому, являясь неким его финальным состоянием, в котором живая материя превращается и становится уже неживой материей. Смерть есть не что иное, как переходное состояние от жизни к “смерти”; от живого состояния материи в её неживое состояние. Это состояние отличается от живого тем, что ему присуща неподвижность, как невозможность реализации своей свободы осуществления движения. Кроме этого, в этом состоянии начинаются процессы распада материи, составляющей живое тело. Эти процессы, сперва проявляются на самой форме, а затем постепенно происходит разрушения и самой телесной формы. Если обратится к эволюции неживой материи, то легко установить некую аналогию её поведения по отношению к живой материи. Неживая материя также как и живая распадается, и этот распад мы можем наблюдать непосредственно на её форме, а затем начинается процесс разрушения уже и самой формы. Оказывается, что различие их состоит только в том, что времена их полного разрушения различны. У неживой материи оно во много раз больше, чем у живой материи, а потому считаем неживую материю вечной, неизменной и абсолютной. Именно таковой мы считаем космическую материю, а потому постоянно устремляемся в космос лишь с одной единственной целью, чтобы абсолютизировать в нем то или иное наше представление. Поэтому только с ним мы связываем вечность при этом, часто не обращая внимания на то, что он сам (космос) и тела, находящиеся в нем, пребывают в неком другом отличном от земного состоянии. В этом состоянии нет живой материи, как это имеет место для земного состояния материи. Хотя материя в космосе и на Земле сходна и, даже более того, одинакова. Но есть в ней и существенные различия и даже то, что на Земле есть такие виды, которые не встречаются в космосе. Одним из таких её видов является жидкость или то, что мы просто называем водой. В космосе нет воды, как нет её и в окружающем нашу Землю пространстве. На Земле же она является основным элементом всего живого. Живое не может существовать без воды, как в космосе неживая материя не может существовать без пространства. Вот почему под пространством часто понимают космическую среду, в которой и существуют неживые тела. Вода же является средой необходимой для существования живой материи и живых тел. Кроме неё другим основным элементом для существования жизни является воздух, который участвует во всех процессах, протекающих в живых телах. В космосе его также нет. Оказывается, что все живое стоит именно на этих двух основных элементах и они – то ограничивают наши возможности рамками Земли, т.к. существуют только на ней. Более того, живое в процессе своей эволюции проходит три основных этапа, которыми являются рождение, жизнь и смерть. По отношению к этим двум основным элементам живое проявляет себя в виде рождения через своё зарождения в водной среде, жизни как перехода в воздушную среду и смерти как выхода из воздушной среды. Так рождается и человек. Поэтому его появление связано с переходом живой материи из водной среды в воздушную среду, а его исчезновение или разрушение с переходом из воздушной среды в состояние существования без неё. Неживые тела рождаются из более мелких материальных телец или частиц, которые существует в воздушной среде, а затем начинают в ней разрушатся и исчезать. Как хорошо видно из всего того, что нами было выявлено, живое и неживое тождественно в воздушной среде и в процессах разрушения и исчезновения телесной формы. Различие составляют зарождение и рождение живой и неживой материи. Неживая материя рождается путём остывания плазмы или же путём гравитационного притяжения маленьких частиц материи, в результате, которого образуются космические тела. Земные тела образуются путём остывания земного ядра, находящегося в плазменном и горячем состоянии. При остывании вещества ядра образуется неживая материя Земли. Живая материя Земли, как оказывается, появляется в результате слияния и соединения неких маленьких живых частичек, которые делясь, размножаются, а затем собираются в ту или иную форму живой материи. Если рождение неживых тел связано с процессами гравитационного притяжения маленьких частиц, то рождение живых тел связано с процессами соединения также маленьких, но уже живых частиц, называемых клетками. Если рассмотреть это на уровне живых и неживых тел, то тогда становятся более понятные процессы соединения живой и неживой материи. На уровне живого, а точнее, на уровне людей, гравитация проявляет себя в виде некого неосознанного влечения людей друг к другу, с целью соединения в некое единое “тело”. Этим единым “телом” является не что иное, как явление зарождения новой жизни и рождение человека. Именно так инстинктивно заложена в нас гравитация как некое притяжения человеческой материи или человеческих тел. Это не есть простое свидание или же отождествление гравитации к влечению людей друг к другу, а есть, скорее, некое объяснения этого влечения через процессы, присущие и самому космосу. Ведь это вполне объяснимо, а потому и вполне понятно, потому что сама наша Земля создавалась космосом, в котором существует и по настоящий день. Оторвать её от него мы не можем, потому что в этом случае, мы действительно попадём в область фантазирования и мистификации, а не понимания и осознания ведущей роли космоса в самом процессе формирования Земли как планеты и живой материи на ней. Гравитация есть не что иное, как внешне притяжение маленьких телец, результатом которого является рождение того или иного космического тела. Так и в живой материи она проявляет себя на уровне простого влечение двух человеческих телец к рождению уже некого нового человеческого тела. Это справедливо по отношению к любым живым телам, а потому является универсальным, т.к. проявляется как в природе, так и в самом человеке. Но оказывается, что это влечение имеет в себе некое качество, которое проявляет себя уже на уровне электромагнитных взаимодействий. Это есть не что иное, как более точно, и более глубокое проникновение в саму природу гравитационного взаимодействия. Электричество есть не что иное, как некое качественное влечение противоположностей друг к другу, а потому в самом электрическом взаимодействии это проявляется уже на уровне взаимодействия положительных и отрицательных зарядов. Электрические взаимодействия на уровне нашего бессознательно, есть некое влечение противоположных полов друг к другу (прим. Имеется в виду, что данные процессы у нас происходят в автономном течении, и мы на них не обращаем должного внимания). Если в “гравитации” это есть чисто влечение людей друг к другу, то в “электромагнетизме” – это уже есть не что иное, как качественное, а потому противоположное влечение людей разных полов. Это соответствует тому, что только противоположные заряды могут создавать некое новое образование, а потому их не образуют одинаковые заряды. Вот почему в этих разных представлениях о природе материи, мы, с необходимостью, вносим своё человеческое, которое мы вам сейчас не только предъявили, но и пояснили. Оказывается, что синтез гравитации и электромагнетизма является ничем иным как квантом, а потому именно ему и соответствует рождение новой жизни. По отношению к человеческому это есть не что иное, как рождение ребёнка, который снимает это качество и выступает уже в неком новом качестве, хотя, материально и телесно, он полностью нам тождественен, отличаясь от нас разве, что размерами своего тела. Именно его малость, подчёркивает в телесной материальности, что он является именно квантом. Так в парадигме тотальной материальности мы воспроизводим и самих себя. Можно сказать, что именно в познании мы используем то, что знаем и понимаем в себе и о самом себе. Но как мы показали, этот синтез приводит ещё к тому, что кроме кванта, он порождает ещё и тепло. Тепло хотя и несёт в себе материальность, но на самом деле связано не с силовым описанием всех указанных выше взаимодействий, а с энергетическим взаимодействием маленьких телец или частиц. Тепло не материализуется, т.к. участвует в процессах рождения и уничтожения материи и тел. Поэтому оно энергично, а потому не может быть подведено под какой – либо способ его измерения. Температура с помощью, которой мы измеряем тепло, не есть энергия тела, а есть лишь количества тепла, которое мы можем отнять или дать телу. Энергия существования тел не есть просто количество теплоты, которое они могут принять или же отдать в окружающее их пространство. Именно такова природа теплоты, а само тепло оказывается связано именно с пространственной структурой и строением самой материи. Это относиться и к живой материи.
Как оказывается, живая и неживая материя есть всего лишь некое наше представление о самой материи, хотя, в общем – то оно и соответствует действительности, но не самой реальной природе. Деление на живое и неживое необходимо для того, чтобы можно было соотнести их, выделим у них некие сходства и различия, иначе познать материю мы просто не сможем. Но как оказывается, устанавливая эти сходства и различия мы, с необходимостью, вносим в них ещё и самих себя, т.к. ведь определяем их сами. Более того, они несут в себе ещё и некие качества, которыми мы же сами их и наделяем. Эти качества мы выделяем, именно, из их неких общих свойств сходства или же различия. Качествами материи являются живое и неживое. А потому в лоне этих новых качеств материи мы уже говорим о веществе или о теле. Это приводит к тому, что возникают понятие живого и неживого вещества, а также живых и неживых тел. В силу того, что материя рассматривается в лоне своей естности, или как её ещё называют объективности, живое и неживое определяется как виды качествования материи в лоне уже некого положенного количества. Так что в этом общем лоне количества, которым выступает дуальность, или же просто число два, мы говорим о живом и неживом как неких качествованиях уже в лоне этой двоичности или дуальности. Материальность как качество присуще самой природе, а потому живое и неживое являются некими качествованиями в лоне этого материального качества, а также и самой природы. Но тем самым мы отрываем эти качествования и полагаем их тотально, тем самым утверждая их как некие качества, присуще как самой материи, так и природе, а потому и всему мирозданию. Но надо понимать, что описание в лоне единого и в лоне двоичности различно, а потому различны и те представления, которые мы в них получаем. Смешивая их, мы, тем самым приходим к тому, что и само ещё не рождённое, называемое природой обладает качествами живого и неживого. Разве, мы умеем в лоне потаённости, определить появится ли на свет живое или неживое? Наверное, наши великие учёные умы уже овладели этим, раз наделяют этими качествами и саму природу. О живом и неживом мы можем говорить только в лоне объективности, а потому и считаем, что материя также объективна, как и существующие тела, объекты, модели, а также различные технические устройства и конструкции. В таком представлении человек также является неким объектом познания или просто живым телом. Камень, лежащий на дороге, не является живым, т.к. ему не присуще то, что присуще человеку. Но ведь бабочка является живой, хотя присуще человеку у неё также очень мало. А потому в определении живого и неживого мы обычно используем то одно, то другое свойство, и всегда можно найти его, чтобы такое различие живого от неживого можно было установить. Но все – таки этот вопрос в рамках современной науки мы так полностью и не выяснен, тем более не установлено отличие живого от неживого раз и навсегда. Поэтому, нам необходимо обратится с некой основе самого деления материи на живую и неживую. Оказывается, что ею является ни что иное, как введённые И. Кантом основания самого нашего познания. Точнеё сказать то, как эти основы были положены, а также какие представление под собой имели и несли. Эти основы есть не что иное как понятия пространства и времени. Так пространственное стало полагаться как нечто существующее и объективное, а временное как нечто являющее и исчезающее. Пространственное в основном касается материи, понимаемой как некая форма, поэтому полагается вне зависимости от времени уже как некая неизменная тотальность. Эту неизменную, а потому и абсолютную тотальность и составила материя, которая существует вне времени и изменений, называемую неживой материей. Материю во времени стали понимать как живую, постоянно изменяющую и обладающую свойством появляться в мир, а также исчезать из него. Пространственное представление материи стало отражать её структуру и строение, или статику, а временное представление её изменения и генесис, или динамику. Но, как оказалось, динамику стало возможным представлять и на пространстве и эту пространственную динамику составило движение, представляемое как простое перемещение по пространству. Само пространство в этом случае стало уже неким подвижным или геометризованным пространством. Такое пространство заменяет собой время, а потому само истинное время уходит при этом в лоно некой потаённости и потенциальности. Так мы теряем время, и потому отождествляем саму жизнь с понятием живое, или же просто соединяем эти два понятия, говоря уже о жизни живого. При этом сама жизнь уже выступает как некое качество живого, часто несущее в себе не что иное, как некий промежуток времени, называемый временем жизни. Оказывается, кроме времени живое имеет ещё и некое пространство жизни, в котором оно реализует себя как живое. Поэтому жизнь имеет смысл как по отношению к пространству жизни, так и по отношению ко времени как некой протяжённости жизни – времени жизни. Жизнь несёт в себе смысл того по отношению к чему мы её определяем, а потому она выступает по отношению к этому определяющему, то в неком качество, то в неком количестве. Выше это мы вам не только показали, но ещё и выявили.
Все это говорит о том, что определение жизни и её имя очень тесно связано с тем или иным представлением, которое мы вкладываем в эту именованную сущность, называемую жизнью. Поэтому обратимся к представлениям о самой жизни, а потому и к самому её пониманию.
1.2. Представления о жизни.
В предыдущем разделе, мы говорили, о живом и о жизни по отношению к тому, что есть неживое и тому, что есть такое не жизнь. В этом части, мы будем говорить, о наших представлениях о самой жизни, используя непосредственно уже наш собственный жизненный опыт, а также и опыт самой человеческой цивилизации. Можно, конечно, говорить о том, что не является представлением, а ещё, по отношению к нему определять, что же есть такое жизнь. Но, если у нас есть некое представление о жизни, то его можно интерпретировать, с одной стороны, как некие знания о жизни, которые основаны на том или ином её смысле и содержании, с другой стороны – как непосредственно жизненный опыт индивидуальности или же самой человеческой цивилизации. Оказывается, что эти две стороны различаются только тем, какие временные рамки мы накладываем на саму жизнь. Если говорить, о больших временных рамках, то жизненный опыт есть такой вид представления, который мы и называем знаниями. Если же говорить о жизненном опыте индивидуальности то, это уже есть не что иное как её жизнь, которая имеет уже не большую временную меру. Но то, что эти две стороны покоятся именно на жизненном опыте это просто очевидно, а потому именно он и представляет основу наших представлений и о самой жизни. Различие их состоит в том, что одна сторона абсолютизируется по отношению к другой. Удивительно то, что эта абсолютизация есть выделенные в индивидуальностях их непосредственная схожесть, которая, отождествляясь, возводится нами в лоно некой тотальности и начинает выступать как абсолютное, присущее и всему человеческому. Это есть восхождение к всеобщему, абстрактному из лона индивидуального, понимаемого ещё и как некое конкретное и единичное.
Это восхождение в отношении жизни и жизненного опыта означает снятие самой жизни и жизненного опыта, а потому мы и говорим о тех или иных её представлениях. В наших представлениях жизнь часто выступает однобоко и однолико, с некой одной, определенной стороны её проявления. Более того, в них жизнь становится, а порой и просто превращается в некую идею, становясь идеальной жизнью. Поэтому восхождение ко всеобщему приводит к тому, что в этой всеобщности жизнь уже выступает как некое статическое образование. Поэтому её часто заменяют, а порой и просто подменяют другими понятиями, такими как любовь, счастье, радость, вера, судьба и т.д. и т.п., через которые и посредством которых, мы и хотим понять, что же есть такое сама жизнь. В этом случае мы просто определяем жизнь через нечто другое, например, через любовь или веру, или же судьбу, понимая при этом ещё и то, что жизнь не есть только это её определяющее или же просто её определение. В ней есть все. Точнее она сама есть все, как некая “всеятность”. Но одно дело определять жизнь через нечто другое, а совсем другое понять её. Оказывается, что для понимания жизни нам сначала необходимо иметь о ней хотя бы некое представление. Представляя жизнь, мы делаем первый шаг и к её пониманию. Именно в этом состоит ценность тех или иных представлений о жизни. Поэтому обратимся к тому, как нам представляется сама жизнь, и какие представления о жизни, мы можем получить из своего непосредственного жизненного опыта, а затем соотнести его с жизненным опытом самой человеческой цивилизации.
Мы уже указывали на то, что жизнь часто заменяют или просто подменяют некими другими понятиями или именами. Одним из них является понятие судьбы. Такая замена связана с тем, что мы часто просто не понимаем, а потому не можем объяснить некие события, происходящие или произошедшие с нами и которые возникают вопреки нашим желаниям и мечтам. Именно они приводят нашу жизнь в состояние неопределённости и даже крайней неожиданности, случайности. Мы пытаемся найти причину возникновения тех или иных событий, произошедших с нами и не найдя её, ссылаемся на судьбу, которая играет основную роль в объяснении того, чего мы не можем объяснить и понять. Поэтому часто ошибки и неудачи в жизни мы относим на неё, на то, что якобы такова наша судьба. В этом случае она начинает выступать уже как некая тотальность, ведущая нас по жизни, да ещё, и управляющая ею. А потому мы в свою собственную жизнь отдаём в залог судьбе, которая её и определяет. Судьба выступает как некая бессознательная тотальность, а потому и стоящая над самим человеком. Многие из нас отдаются на откуп судьбе, считают её главной причиной своих жизненных побед и жизненных поражений и неудач. Таково наше представление о жизни, в котором и которым является только судьба, как некий “фатум”, управляющий, как нашей жизнью, так и нами самими.
Помещая жизнь в лоно всеобщей тотальности, мы обозначаем её как судьбу, точнее сказать, мы их просто отождествляем. Поэтому они уже выступают как некие тождественные и взаимозаменяемые понятия. Вследствие этого для определённости жизни мы и используем понятие жизненного опыта. Неопределённость, непонимание и неосознание жизни приводит к замещению её понятием судьбы как некой управляющей нашей жизнью фатальности, обладающей ещё и некой силой. А потому, даже то, что понимаемо в нашей жизни мы все равно связываем с судьбой, если не осознаем этого понимаемого нами. Поэтому жизненный опыт мы подменяем судьбой, считая, что нам просто повезло в жизни и такова наша судьба. Различие судьбы и жизненного опыта мы уже в достаточной степени показали и пояснили. Представление о жизни, которую мы заменяем судьбой и есть не что иное, как некое наше представление и о самой жизни.
Ещё одним представлением жизни является то, что жизнь есть не что иное, как наши природные, точнее сказать, животные инстинкты. Именно они позволяют нам сохранять жизнь, продолжать свой жизненный путь. Особенно ярко они проявляют себя в отношениях между людьми, во взаимоотношениях в социальных группах и других социальных образованиях. Инстинкты являются нашей движущей силой, а потому часто проявляются в жизни как некий бессознательный её элемент. Хотя они очень сходны с судьбой в этой так называемой нами неопределённости. Мы часто не можем понять, почему поступаем так, а не иначе. Оказывается, что это связано с тем, что понимание и осознание наших действий и поступков всегда происходит позже, чем они произошли или были совершены. Поэтому в нашей жизни инстинкты играют свою особую роль, являясь при этом ни чем иным как нашими животными остатками, которые к тому же ещё и напоминают нам о нашем животном происхождении. Очень часто инстинкты связывают с чувствами, а порой и просто отождествляют. Именно так мы скрываем свои животные инстинкты и своё животное происхождение. Хотя чувство есть не что иное, как одна из составляющих самого нашего познания. А потому через него и посредством его, мы познаем и саму жизнь. Чувство может порождать тот или иной инстинкт, а потому и выступает уже как некое его понимание, а ещё и несёт в себе это понимание. Поэтому инстинкты есть простая реакция на внешне раздражение или воздействие. Чувство уже есть осознанное воздействие, которое порождает ту или иную нашу реакцию на него. Вот почему в чувстве есть знания, а потому ещё и некий жизненный опыт. В инстинктах этого нет, т.к. они есть непроизвольная реакция на то или иное раздражение, а потому для их существования необходима некая область, которой и является бессознательное в человеке.
Мы выделили три представления о жизни, которыми является судьба, чувство как осознанные инстинкты и жизненный опыт. Все эти представления о жизни стоят и строятся на тех или иных основаниях, а также на видении и отношении к жизни людей в тот или иной период их жизни. Кроме указанных нами представлений о жизни часто, оказывается, представляют не саму жизнь, а жизнь после смерти или “жизнь” после жизни. Мы рассматривали только представления о самой жизни, а потому не рассматривали жизнь после смерти, а также её саму во всем многообразии её представлений и проявлений. Эти представления связаны с тем, что жизнь в таком полагании идеализируется и абстрагируется, а потому выступает не по отношению к её конкретным носителям, а по отношению к некому единому и абсолютному, которым является либо Бог, либо сверхразум, либо природа, либо … и т.д. и т.п. Это есть не что иное, как полагание жизни в “космос”. Такое полагание, как мы уже знаем, приводит к вечности в понимании и самой жизни, а потому жизнь в этом лоне становится уже вечной и бесконечной. Именно так и таким образом жизнь отрывается от своего носителя и начинает существовать уже вне его лона и носителя – человека. Поэтому её можно абсолютизировать и возвести в лоно вечности. Жизнь уже не является жизнью, т.к. присуща тем природным реальностям, которые находятся в состоянии живого, являются сами живой материей. Поэтому выход за лоно самой жизни есть уже не она сама, а некое другое состояние, которое мы называем смертью. Это состояние есть состояние, в котором живая материя распадается, а потому не развивается, как это имеет место в состоянии, называемое нами живой материей. Объяснить, описать и понять это состояние мы можем только по внешним и внутренним проявлениям, т.к. отождествиться для познания с этим состоянием мы просто не можем. Ведь познать и объяснить означает отождествление с тем, что мы берём в качестве познаваемого. Отождествление со смертью приводит к смерти, а потому в этом состоянии говорить о познании вообще невозможно. Вот почему оно для нас выступает как некая фатальность во всех планах нашего бытия.
Если говорить, о жизни по отношению к индивидуальности то, как оказывается, каждая индивидуальность имеет своё собственное представление о ней. Все они связаны с тем, что именно полагает та или иная индивидуальность в своё понимание и представление о жизни. Оказывается, что с ней она обычно связывает ещё и свои желания и мечты. Это означает не что иное, как отождествление жизни с тем, что желает, а также ещё и с тем, о чем мечтает та или иная человеческая индивидуальность. Такое отождествление приводит и к тому, что жизнь превращается в желания и мечты этой индивидуальности. Так желая и мечтая, мы направляем всю нашу жизнь на то, чтобы их осуществить и реализовать. Но оказывается, что они могут быть реализованы только в социальном мире, а не в мире природы. По отношению к миру природы наши желания и мечты возникают только в некие определенные моменты и периоды нашей жизни, а также и жизни самой человеческой цивилизации. Это связано с тем, что мир природы мы не в состоянии изменять, но в состоянии разрушать его. Вследствие того, что мир людей или социальный мир не изменяется по своей сущности, и сути мы стараемся изменить мир природы, осуществляя над ней не процесс познания, а процесс её разрушения. Именно поэтому и вследствие этого, социальный мир не изменяется или же изменяется в худшую сторону. Социальный мир стал такой фатальностью, которая просто тяготит над его же создателями. Вот почему мы стараемся и стремимся утвердиться в социальном мире, т.к. природный мир со своей необходимостью не даёт нам для этого таких возможностей. Неизменность мира природы, точнее сказать, такое наше представление о нем и понимание приводит к тому, что этот мир бесконечен во всем. Поэтому мы можем черпать из него все, что хотим и сколько захотим. Социальный мир мы строим как изменяющийся, но изменяющийся именно так, как мы понимаем изменения, происходящие в мире природы. Поэтому и социальный мир несёт в себе эту фатальную неизменность, происходящую в мире природы. А потому, можно говорить о том, что наше понимание на основе такого представления о мире природы приводит к тому, что социальным мир начинает нести в себе такое же представление. На это указывает механическое представление о мире, которое стало представлением и самого социального мира как некой механической системы. В таком представлении жизнь выступает как некий механизм для реализации желаний и мечтаний в социальном мире. Вот почему мы так упорно ищем механизмы происходящего, не отдавая себе отчёта в том, что такого механизма просто не существует и не может быть. Но, поставив человека как некого создателя, всего существующего и являющегося, мы просто отождествили все это с ним самим, а потому получили и соответствующие представление о самом человеке. Поэтому современный человек есть не что иное, как механическая, техническая и мёртвая система. На это указывает наше движение к созданию искусственного человека, через создание искусственного интеллекта.
Начиная своё движения в познании с простейших представлений о мире, природе и самом человеке мы пришли в итоге к тому, что пытаемся создать самих же себя. Нам почему – то мало того, что это разрешается естественным и природным путём, а потому тешим себя тем, что пытаемся создать ещё и некое своё подобие. Оказывается, все, что мы познаем, мы направляем только пока на одну цель, которой является создание существа не только подобного, но ещё и тождественного нам. Но, как оказалось, даже та минимизация информации, которую мы имеем и можем накапливать в настоящее время в технических, а точнее сказать, информационных устройствах не позволяет нам создать и построить человека, имеющего такие же размеры, какие имеем мы с вами. А потому, уровень информационной минимизации систем говорит нам о том, что решение этой проблемы лежит в открытии и использовании ещё более минимизированных информационных устройств. Хорошо известно, что самой минимальной минимизацией материи является элементарная частица, наделённая размерами, массой и зарядом. В математическом смысле она есть не что иное, как просто точка. Эту точку мы и наделяем теми или иными материальными атрибутами. Поэтому ею является элементарная частица, число, событие, некий факт, бытие, некое состояние в природе или же в самом человеке. Наделяя её атрибутами, мы превращаем её ещё и в некую природную реальность, точнее, считаем самой природной реальностью. Поэтому и говорим об атоме, электроне, фотоне, кванте и т.д. Говоря, например, о социальном мире мы говорим о человеке уже как о минимальном элементе этого мира. Но говоря о самом человеке мы, с необходимостью, ищем тот минимальный элемент, из которого он якобы должен состоять. Оказывается, что найти этот элемент невозможно, а потому невозможно найти и минимальный элемент самой жизни. Оказывается, что такой подход к познанию природы и человека не даёт нам возможности познания ни самой природы, ни человека. Это означает, что такой подход к познанию жизни ни к чему не приводит и не может привести. Более того, этот метод познания был уже реализован через представление жизни в виде противоположностей, которыми являются рождение и смерть. Его открыл и представил миру великий Г. Гегель. В таком представлении жизнь уже представляет собой не что иное, как некие переливы рождения и смерти, как постоянное рождение и умирание. Именно такова диалектика понимания жизни через её предельные и противоположные стороны. Но, как оказывается, она вообще – то касается чисто внешней стороны или внешней динамики, разрывающей лоно жизни на противоположности, которые часто нейтрализуются и переходят в некое третье, которое мы снова связываем с жизнью, но при этом говорим о её неком новом качестве. Это качество хотя и проявляет себя через противоположности, но не является их некой суммой, а потому не может быть из них выделено и определено. Поэтому точечное представление, в частности, самой жизни является приходящим, а потому не является истинным и правильным.
Вся парадоксальность указанных выше представлений связана с тем, что мы не рассматриваем и не изучаем природные реальности в их неповторимой индивидуальности, а наделяем их некими качествами, которые выявили именно в самом человеке. От этого природа не становится такой, какой мы её с вами представляем, а ведёт себя так, что порой нам сложно понять все её переливы и многоликость проявления. Именно поиск некого единого ведёт нас к тому, что в природе и человеке мы ищем это единое и, найдя его, наделяем им все существующее. Но то, что присуще козе вообще – то не присуще корове. Мы же все – таки стараемся найти то, что присуще им обеим, а потому отождествляем их и познаем уже как некую козью корову или коровью козу. Вот наше познание в своём конкретном проявлении и виде. Оказывается, что природа едина именно в своём многообразии, а не в отождествлении этого многообразия ещё и с самим собой. До тех пор, пока мы будем это делать, до тех пор мы будем находиться в лоне некой тотальной всеобщности, а потому и безликости природного многообразия. Более того, при таком познании мы ни на йоту не подойдём к познанию самой природной реальности, т.к. в точечное представление мы можем помещать все, что угодно, а потому наделять её теми или иными абсолютными, неизменными атрибутами. Оказывается, что эти абсолютные атрибуты меняются со временем, хотя наши представления о мире и человеке постоянно меняются, как меняются и сами методы нашего познания. Это связано с тем, что точка принимает на себя все и сама является всем, а потому она не раскрывает нам истинную динамику самой природной индивидуальности, но даёт нам только идеальную природную всеобщность. Почему она идеальна и откуда берётся эта идеальность, мы уже пояснили. Вот отчего так велика наша тяга к познанию самой реальности во всей её полноте и красоте, а не в неком бездумном сходстве, которое к тому же возводится ещё и в лоне некой всеобщности и тотальности. Оказывается, в реальности столь мало сходного, но столь много различного, что пора строить науки не на сходстве, а на её различии. Мы же, только условно делим их на различные, а на самом же деле, создаём их как сходные. Именно поэтому мы постоянно сталкиваемся с тем, что они пересекаются или же просто переливаются одна в другую. При этом мы не понимаем того, что сама наука проявляется именно через генесис (развитие) её отдельных составляющих. Мы же эти отдельные составляющие представляем как некие обособленные и отдельные элементы, а потому стремимся их как – то связать между собой или же просто называем их некой совокупностью. Прекрасное слово, несущее в себе столь бессмысленный смысл в отношении мёртвой или неживой материи. Как будто она способна к некому совокуплению сама с собой. Вот уж поистине прекрасная и глубокая мысль о природе вещей.
Все, что мы представили выше, говорит нам о том, что точка является только формальной, минимизированной, а ещё и материализованной всеобщностью. А потому более простейшими формализованными всеобщностями являются циклы, которые затем сворачиваются в точку и которая начинает нести в себе тот или иной присущий ей атрибут. Заметим, что этот атрибут рождается в результате генесиса самой этой точки, а потому сворачивается в ней в виде некого внутреннего уже только ей присущего качества. Вот откуда элементарная частица имеет не только массу, но ещё заряд, спин, цвет (аромат) и т.д. и т.п. Оказывается, что математика динамики цикла на много проще математики самой точки. Об этом мы будем говорить в своё время и в соответствующем месте.
Ну, а что же жизнь! Оказывается, что в таком представлении жизнь есть множество событий, произошедших с нами. Эти события не связаны между собой, а потому представляются нами как некие локальные точки. Жизнь становится некой суммой (лат. summa – итог), произошедших с нами событий, а потому представляет собой неведомую нами фатальность, выраженную в виде тех или иных случайностей или неожиданностей. Жизнь как некая цикличность есть уже понятая в прошлом жизнь, а потому, позволяющая определить и некое её новое качество в будущем. Но не будем пока спешить, а отметим, что жизнь, как и все существующее, требует для своего познания некого нового представления, а потому и некого нового метода познания. Говорить о системном представлении жизни вряд ли уместно, т.к. до сих пор системное представление хотя и существует, но имеет непосредственное отношение к техническим системам или же системам, которые могут быть отождествлены с ними. Жизнь не попадает под систему, хотя с некой долей условности её можно считать системой. Хотя само представление о системе существует, но до сих пор соответствующей ей метод познания так и не был построен, хотя многие стараются подвести под неё старый математический аппарат, который был создан для объяснения и описания точечно – минимизированных познаваемых. Мы будем говорить о системном представлении жизни, а сейчас обратимся к пониманию и понятию жизни. Рассмотрим жизнь как некое понимание и как некое понятие и соотнесём с тем, как происходит именование того, что мы и называем жизнью.
1.3. Понимание и понятие жизни.
Говоря о понимании и понятии жизни нам необходимо их различить, т.к. часто понимают совсем не то, что содержит и несёт в себе то или иное понятие или имя. Оказывается, что понимание очень тесно связано со временем, а потому в различные времена понимание жизни было также различным. Точнее сказать, саму жизнь связывали с тем или иным благом – материальным или духовным. Наше время также не лишено этой интенциозности (Интенциональность (от лат. intentio «намерение») – понятие в философии, означающее центральное свойство человеческого сознания: быть направленным на некоторый предмет.) и некой определённости этих понятий и имён. Так, например, многие связывают жизнь с деньгами, а потому говорят, что жизнь есть деньги. Ведь, обладая этим посредником, между миром людей и миром вещей человек имеет безграничные возможности иметь все, что захочет и все, что пожелает. Именно поэтому в основу понимания жизни многие из нас полагают именно и только деньги. Другие же полагают счастье, а потому отождествляют с ним и саму жизнь. Так возникает некое множество понимания самой жизни, основанные на том или ином её видении человеческой индивидуальностью. Это порождает, как оказывается, ещё и множество её определений. Определение несёт в себе не что иное, как то, с чем мы отождествляем жизнь или же то, что для нас пока является непонятным и неясным. А потому это “чем” является уже неким объектом. Так и жизнь мы часто отождествляем с тем, что считаем объективным и существующим. В таком отождествлении жизнь становится сама объектом, несущая в себе только некую объективность от того, с чем мы её отождествляем. Эта объективность действительно принимается нами как существующая, хотя часто является чисто субъективной, фантастической, абстрактной или же магической. Так даже саму субъективность мы возводим в лоно объективности, сворачивая её в виде того или иного понятия. Это связано с тем, что мы не определили саму основу, которую полагаем в то или иное понятие, сворачивая тем самым в нем наше понимание. Вот почему мы говорим о понятии и понимании, т.к. в основе понятия лежит именно понимание, но уже, покоящееся на том или ином основании, которое к тому же ещё и составляет основу самого нашего познания. Оказывается, что в основу познания мы полагаем либо наше чувство, либо разум, а, потому, часто не осознавая этого полагания, мы нарушаем простую логику “конструирования” самого понятия. Нарушение её приводит к тому, что понятия превращаются в пустые формы, не несущие к себе никакого представления, не говоря уже о той сути и смысле, которые в него вкладывают. Эти формы есть не что иное, как простейшие и чисто формальные термины. Вследствие чего термины являются носителями только форм объектов, точнее сказать, внешне выраженных сторон объекта, которыми мы их к тому же ещё сами и наделяем. Это означает, что под понятие жизни подводится “все, что угодно”, поэтому в этом “все, что угодно” исчезает суть и смысл самой жизни, а потому и сама её сущность. Но, как оказывается, между сутью или смыслом и сущностью жизни есть различие, которое мы должны понимать. Суть и смысл несут в себе то или иное основание, а сущность только утверждает её как некое суще, просто как существующее. Вот почему мы подводим под жизнь некое многообразие её сторон, потому что не можем выявить и выделить в ней некого присущего ей основания. Более того, если даже и выделим его, то нам, с необходимостью, придётся иметь дело ещё и со всем тем, что считаем познаваемым, а потому наделять и его этим основанием. Основание необходимо для того, чтобы понять суть и смысл, а потому и сущность самой жизни, исходя именно из этого основания. Мы же, часто не указываем основания, а потому и подводим под то или иное понятие, то, что “понимаем”. Оказывается, что часто под него мы подводим именно то, что не понимаем, но по каким – то причинам считаем, что все – таки понимаем. Понимать, оказывается вообще – то не означает простого различия некого одного по отношению к другому. Ведь, мы можем просто внешне различить их и наделить этим различием как одно, так и другое. Так мы приходим к некому отождествлению различного, наделяя их обоих тем, что, быть может, вообще не присуще одному из них. Но этого требует само отождествление, а потому мы понятие определяем часто именно через этот, присущий познаваемому признак. Более того, именно через него мы и определяем само понятие. Поэтому наши понятия имеют либо чувственную, либо разумную основу. В современных науках их часто сводят к статическим и динамическим понятиям. Одни понятия отражают статику познаваемого, а другие – его динамику. Но, отражая статику и динамику познаваемого, они все равно несут в себе либо чувственное, либо разумное основание. Но в силу того, что чувственное и разумное со временем приобретают своё собственное многообразие, они перестают играть роль прежних оснований, т.к. требует для своей определённости неких, присущих именно им самим оснований. Так мы снова отправляемся на поиск оснований им присущих, а потому возвращаемся, к тому, что или кто их порождает. Этот возврат связан с полаганием того, что уже было положено, а потому часто вуалируется некими новыми именами, либо с тем, что ещё не выявлено в самой природе познающего. Оказывается, что мы избрали второй путь, хотя первый – является преобладающим.
Укажем, что декартовская телесность есть не что иное, как выделение в познающем неких оснований, которыми стали сама телесность и разум или мышление. Телесное делимо, а разумное нет, а потому может быть взято в качестве основания нашего познания. Именно под него Р. Декарту удаётся подвести математику, а затем построить свой дедуктивный метод познания. Но мы не отвлекаемся от основной темы изложения, а просто привели один из примеров оснований нашего познания, чтобы показать его неразрывную связь с самим нашим познанием. Это показывает ещё и то, что основания нашего познания являются тем, через что и с помощью чего мы строим сами понятия и подводим под них то или иное понимание. Оказывается, что это понимание составляет то или иное основание самого нашего познания. Нет основания нет и понимания, а потому есть либо мнение, либо суждение, либо некое простое представление о познаваемом. Можно мнить себе что угодно, а потому судить и представлять себе это, что угодно, уже, как угодно. Поэтому в понятии мы часто встречаем именно с этими топосами человеческой интенции. Оказывается, что в наших понятиях мы часто сталкиваемся с отношениями, которые существуют между людьми. Ими мы наделяем и само познаваемое, превращая его в некое подобие человеческого существа. Именно такое превращение уводит нас от истинной природы познания самого мироздания. Мы познаем уже некие отношения между элементами мироздания, отождествив при этом их с самими отношениями между людьми. Но чтобы это отождествление не было буквальным, мы снимаем его путём введения других имён этим отношениям. Так и само мироздание превращается в мир людей, в котором также существуют некие отношения, называемые уже взаимодействиями. Введение отношений привело к тому, что в самом мироздании мы стали наблюдать и некие отношения между существующими в нем телами. Особенно ярко отношения проявляются в виде неких связей в системном представлении мироздания, поэтому сами связи часто носят чисто субъективный характер.
Основу самих отношений несёт в себе некое субъективное начало, которое полагается нами в виде некого качества самой жизни. Поэтому это качество часто берётся как некое чисто внешне, присуще тому или иному познаваемому, особенность или признак, в которые примешивается ещё и наше отношение, проявляющееся в виде – нравится или не нравится, хорошо или плохо, красиво или не красиво и т.д. и т.п. Именно это наше внутреннее отражается, а то и просто растворяется в познаваемом, составляя тем самым наше понимание самого познаваемого. Эта сторона, как оказывается, часто становится преобладающей, а потому мы подводим под понимание чисто то, что для нас является наиболее важным в жизни. Оказывается, что понять жизнь не есть заменить её неким другим понятием или же определить её через нечто другое. Жизнь как любое понятие требует своего собственного основания, которое позволило бы нам объяснить и понять её. А потому говоря о философии жизни нам необходимо решить вопрос о том, как мы мыслим саму жизнь и почему мыслим её именно так, а не как – то иначе. И вот, оказывается, что если мы представляем жизнь как некое множество точек – событий, то тогда жизнь есть некий миг или мгновение, в котором мы находимся в состоянии живого. Это означает, что живое и жизнь очень тесно связаны, и разделить их порой очень сложно. Но в лоне живого мы можем определить, что есть жизнь, противопоставив её неживому. Именно по отношению к неживому, мы определяем, что есть живое и жизнь, а без него как понятие живого, так и жизни становится просто бессмысленными.
Возвращаясь к философии, мы констатируем, что философии принадлежит только то лоно, в котором мы мыслим именно так, а не иначе. По отношению к жизни философия выступает как то, что позволяет нам её мыслить именно так как мы её и мыслим. Вследствие того, что лону философии принадлежит метод мыслимости того, что мы берём в качестве познаваемого. Взяв в качестве познаваемого жизнь, мы, с необходимостью, говорим уже о философии жизни. А т.к. основу нашей мыслимости составляет метод познания, то говоря о философии, мы говорим ещё и о методе познания, который и должна нам дать именно философия. Поэтому именно с точки зрения метода познания, как некой мыслимости, мы говорим и о самом познаваемом. В лоне философии жизнь становится уже философией жизни, а потому, с необходимостью, мы должны рассмотреть её с позиции методов философии. Оказывается, что в лоне философии существуют множество представлений, но они не являются её некими логическими “конструктами”. Они есть некое утверждения тотально полагаемого познаваемого или же некой, присущей ему атрибутивности. Последнее есть не что иное, как формальная сторона познаваемого.
Понимание хотя и связано с тем или иным представлением, оно все – таки несёт в себе некий смысл и суть познаваемого, а потому выражается в том или ином понятии. Основу понятия составляет ни что иное, как имя познаваемого, которым мы наделяем его с целью конкретизации и отличия от других именованных сущностей. Неся в себе некую суть и смысл, имя становится понятием, переходит в понятие, т.к. становится уже понимаемым именем. Оказывается, что само имя уже, с необходимостью, несёт в себе некую суть, а потому и некий смысл, содержит в себе некое понимание, свёрнутое в понятие и наделённого именем. Поэтому как имя, так и понятие являются формальными атрибутами нашего познания. Постигая реальность и природу через имя, и понятие мы формализуем их, а потому, идеализируем само познаваемое, превращая его уже в некий объект познания. Так мы поступаем и с субъективностью, возводя её в лоно тотальности и идеальности, и помещаем его ещё и в лоно объективности. Такой путь в познании позволяет нам стать над реальностью и природой, позволяет нам превратить их в идеальное и объективное, а потому мы теряем истинно природное и не осуществляем его познание. Так, введя в лоно познания точку и наделив её различными атрибутами, мы стали познавать не реальную, первозданную природу и её изменениям, а некую идеальную, так называемую вторую природу. Все существующие работы по различным областям знания, пестрят этими идеальными, фантастическими и мистическими импровизациями человеческого разума, а природная реальность так и остаётся нами не познанной. Говоря о жизни, как об имени и как о понятии мы просто не можем понять, в чем их кардинальное различие. Конечно, мы можем различить их чисто субъективно, но от этого не углубимся ни на “толику” в саму суть и смысл имени или понятия. Поэтому, с необходимостью, возвращаемся к качествованию познаваемого, несущего в себе некие именования и понимания. Именованное и понимаемое выступают как некие стороны уже не самого познаваемого, а того, что мы над ним совершаем или уже совершили. Именовать – значить дать имя, а понять – значить подвести подо что – то уже известное нам. Известным для нас является ничто иное как имя. Вот мы по кругу гоняем имена и понятия, заменяя одно другим или же просто называя тоже самое познаваемое уже неким другим именем или понятием. Оказывается, что этот круг размыкается лишь тогда, когда мы отыскиваем некие новые основания самого нашего познания или же строим некий новый метод “мыслимости” того, что уже познали. Этот путь позволяет нам на некое время привести познанное к определенному порядку, чтобы увидеть через него все то, что нас интересует и все то, что мы познали. Именно его мы и оформляем в виде различных учений, теорий, концепций и т.д. и т.п., а потому выражаем его в виде тех или иных категорий, понятий, суждений, умозаключений и т.д. Имя же не требует к себе такого отношения, а потому ему не требуется некий или же хоть какой – либо “мало-мальский” порядок. Оно несёт в себе тот порядок, который на данный момент имеет сам познающий или же просто человек. Но в силу того, что мы столь плохо знаем себя, а точнее, скрываем себя от самих себя, то этот порядок нам просто неведомо, а потому мы его просто не знаем или же не обращаем на него должного внимания, поэтому и обозначаем все окружающее нас тем, что даём ему (окружающему) различные имена. Так одно имя с течением времени наслаивается на другое, а другое на третье и т.д., пока не возникнет некий “клубок”, который мы можем назвать “хаосом” имён и понятий. Много имён у одной и той же природной реальности. В этом множестве её имён мы начинаем просто гибнуть, т.к. замечаем, что некоторые имена не несут в себе ничего, присущего тому или иному познаваемому. Игра именами и понятиями привела к тому, что наше познание свелось, в настоящее время, к играм в виртуальные миры, которые создаются с помощью компьютеров и компьютерных систем. Мы стали играть не в познание с реальностью, а в игры с нашей собственной идеальностью, тем самым, замкнув процесс познания на игры с машинами подобными нашему мозгу. Мы играем уже со своими собственными мозгами, считая при этом, что о самой реальности мы уже все знаем. В этой игре мы даже не можем помыслить себе того, как она влияет на окружающий нас мир. Ведь наука уже давно открыла, что кроме материальных процессов, в мире протекают процессы, связанные с обменом энергией. Эту энергию мы не всегда умеем фиксировать, кроме того, не всегда можем её и регистрировать. Но если не регистрируем то, это вообще – то не означает, что её просто нет. Наш мир рождается и умирает, совершая постоянные переходы от энергии к материи и от материи к энергии. Это есть не только бесспорный факт, но ещё и научно доказанный факт. Игра с энергией тем более с той, которая для нас является несуществующей очень опасная затея. Она ещё пострашнее, чем игра с материальной (регистрируемой) энергией, потому что мы её просто не изучаем, отбрасываем как некую несущественную составляющую, а потому и ничего о ней не знаем. Так, по всей видимости, случилось и с познанием жизни, которую мы также считаем некой несущественной добавкой к космическим процессам, а потому просто от неё абстрагируемся. Поэтому о жизни, мы ничего не можем сказать, кроме того, что все есть жизнь и жизнь есть все.
В работах философов мы не встретим не только анализа самой жизни, но и аналитики понятия жизни. Более того, говорить о некой системе основу, которой составляет жизнь, вряд ли возможно и уместно. Есть только некие соображения или мысли о жизни, а также представления о ней у различных философов. Наша задача состоит в том, чтобы попытаться понять, почему мы представляем жизнь именно так, а не иначе, а также и то, почему именно так мы её представляем и мыслим. Именно в этом состоит философское понимание и философское рассмотрение проблемы жизни.
Обращаясь к аналитике понимания, и понятия жизни мы приходим к тому, что понимание и понятие жизни есть не что иное, как некие этапы или просто топосы движения к сути и смыслу самой жизни. Но, как оказывается, суть и смысл жизни самым тесным образом связаны со временем, в котором понимали жизнь тем или иным образом. Поэтому жизнь и понятие жизни самым непосредственным образом связано со временем и представлениями о жизни в то или иное время существования человечества. Отсюда невозможность не только её “схватывания” для осуществления познания, но и даже её простая фиксация. Вследствие этого мы подводим под жизнь все, что можно и все, что угодно, называем это самой жизнью. Мы не можем разорвать этот круг, в котором некое многообразие представлений о жизни концентрируется в само понятие – жизнь, а само понятие распадается на некое многообразие о ней наших представлений. В этой фатальной ограниченности мы просто бегаем по кругу и не можем выйти из него, а потому подводим под жизнь все, что пожелаем и все, что захотим. Но от этого наше познание жизни не становится полнее и глубже, просто мы расширяем его до бесконечности путём введения все новых и новых представлений. Оформляя их в виде новых понятий, мы приходим к некому многообразию понятий жизни, которые, как оказывается, являются ни чем иным как некими терминами, не несущими в себе хоть какого – то смысла и сути самой жизни. Вот откуда формальность, а потому и простое замещение жизни другими именами, а также подведение под неё этих других имён. Поэтому – то так трудно и почти невозможно определить жизнь через нечто другое, т.к. это другое имеет под собой некое уже бесконечное разнообразие.
Говоря, о философском понимании и понятии жизни нам необходимо выявить некую основу или основание, через которое можно понять, объяснить, а также просто описать саму жизнь, как в её индивидуальности, так и в её уже некой всеобщности. Это уже не есть некое конкретное, проявляющее себя и в виде некой всеобщности. Оно есть уже некое индивидуальное, проявляющее себя и как некая всеобщность. Это не есть конкретная индивидуальность, как некое идеальное и абстрактное, а есть некая живая, реальная, природная индивидуальность. Для её познания старые методы не применимы, т.к. переводят реальное, в некое идеальную субстанцию, считаемую к тому же ещё и некой универсальной и тотальной сущностью. Этот метод мы изложим ниже, а выше мы представили некоторые представления и подходы к пониманию и понятию жизни. Отметим, что основу понятия составляет ничто иное, как понимание, того, что мы вкладываем в само понятие жизни, но уже существующее в неком свёрнутом виде. Вот почему имя и понятие на первый взгляд кажутся схожими, а потому их просто отождествляют. Ведь, понять что – то означает ничто иное, как именовать то или иное понятие. Понятие несёт в себе некую форму нашего понимания, а понимание – некое содержание. В понятии форма и содержание выступают уже в некой гармонии, в неком неразличимом и нерасторжимом единстве. Вот почему, выпячивая форму, мы говорим о понятии, а выпячивая содержание – говорим уже о понимании. Свёрнутое понимание и есть понятие, а потому оформленное понимание также является понятием. Поэтому, сворачивая понимание жизни в некое понятие, мы говорим о ней уже, как о неком её понятии. Понимание есть неоформленное понятие, есть некое живое лоно, в котором рождается само понятие жизни. Говоря о понятии и понимании жизни, мы различаем их именно как некие этапы движения к формированию нашего понимания того, что же есть такое жизнь, а потому постоянно изменяем форму понятий, т.к. вносим в неё все более точное и более глубокое понимание самой жизни. Это означает и то, что между пониманием и понятием существует некий генесис, который позволяет нам увидеть и определить то движение, которое мы осуществляем в своём познании. Именно этот генесис и вскрытие этого генесиса и составляют ничто иное, как новый метод нашего познания. Оказывается, что сам этот генесис связан с теми основаниями, через которые мы можем его определить. Определив его, мы тем самым можем надеяться и на то, что сможем определить и то, что есть и сама жизнь. А потому рассмотрим жизнь в пространстве и определим, что она есть такое по отношению к нему.
1.4. Жизнь в пространстве.
Говоря о жизни в пространстве, мы говорим о жизни уже как о некой объективной реальности, точнее сказать, просто связываем с ней и саму жизнь. Это означает, что жизнь представлена некими объективно – существующими формами или же может быть просто выражена через них. Именно в этом смысле мы говорим о жизни, как о некой объективной реальности. Более того, именно её мы полагаем и как некую, определяющую её сущность. Примерами этого являются деньги или конкретные вещи. Но кроме них мы полагаем в качестве определяемой жизнь сущности некие идеальные понятия, такие как судьбу, воспитание, духовный рост, образование и т.д. и т.п. Именно в этом проявляется её неоднозначность, а потому многоликость и разнообразность. Мы же подведём под неё некое основание, которым будет, является пространство и определим через него и по отношению к нему, чем является жизнь и что она есть такое.
Полагая жизнь на пространство, мы говорим уже о пространстве жизни. Оказывается, что пространство жизни имеет в себе некую определённость, а потому мы идём на то, что выделяем в этом пространстве ещё и то, что является её непосредственным носителем. Если говорить о том, что жизнь есть живое, то тогда мы определяем её по отношению к живому и потому жизнь уже есть не что иное, как это живое. Это есть простое отождествление живого и самой жизни. Но об этом мы уже говорили выше, а потому обратимся к пространству жизни и его непосредственному носителю – человеку. Оказывается, что если оторвать от него пространство жизни, то мы уже имеем в виду некое идеальное пространство. Этим идеальным пространством является пространство индивидуальности или просто человеческое пространство. Оно, как оказывается, устраивается каждой индивидуальностью так как она того желает, но само пространство жизни индивидуальности, оказывается, присуще всем индивидуальностям и не зависит от них. Это пространство есть наша форма, наша телесная оболочка, которая непосредственно контактирует с внешним миром. И заметьте, что такое пространство жизни имеет каждый человек. Более того, это пространство жизни однообразно, т.к. имеет один и тот же состав и строение. В этом пространстве все индивидуальности просто тождественны, а потому неразличимы по отношению друг к другу. Если же обратится к самой форме к некой границе этого пространства, то тогда мы уже наблюдаем некие различия, связанные не непосредственно с самой формой, а с этой границей внешнего и внутреннего пространства самой индивидуальности. Различия, мы видим и обнаруживаем именно во внешней несхожести индивидуальностей. Но само – то пространство у всех индивидуальностей одинаково. Именно его можно взять как некую основу для определения, как жизни, так и самого живого. Живое пространство есть пространство, в котором происходят постоянные изменения, связанные непосредственно уже с самой индивидуальностью. Поэтому мёртвое пространство есть пространство, в котором не происходят изменения, связанные с самой индивидуальностью. Они связаны непосредственно с теми воздействиями, которые на неё оказывают своё влияния. Но как только мы учтём, что на индивидуальность тоже оказывают своё влияние внешние воздействия, то тогда живое, от неживого мы уже отличить просто не сможем. Оказывается, что мы перешли от пространства ко времени, а потому потеряли в определении жизни само пространство. Нам же необходимо остаться именно в пространстве жизни, а потому мы не можем подводить под него время. Более того, оказывается, что живое и жизнь лежат именно во времени, а не в пространстве, т.к. пространство даёт нам только определённость в строении и структуре самой жизни и живого, точнее сказать, того, что мы полагаем в качестве живого или жизни. Есть ли жизнь в пространстве, как существует живое в пространстве? Существование жизни в пространстве связанно с самим пространством, в котором протекает жизнь, а не с пространством самой индивидуальности. Но чтобы разобраться с этим нам необходимо обратится к пространству самой индивидуальности, точнее, к пространству жизни индивидуальности. Мы уже говорили, что это пространство есть некое тождественное и неразличимое для нас пространство, которое можно назвать пространством существования нашей формы или тела. Именно это пространство и назвали живым пространством, точнее сказать, просто живым. Но, как оказывается, форма есть форма, а тело есть тело и назвать их пространством или же связать их с пространством мы просто не можем. Это не есть пространство, т.к. пространство есть некая внешне – положенная нами же субстанция. Поэтому пространство жизни превращается в таком полагании в точку, которая обладает ещё и неким самодвижением или свободой по отношению к нему. Именно по этому самодвижению мы различаем живое и неживое, но в этом различии мы теряем живое, т.к. оно представляет собой точку, существующую в неком внешнем безграничном пространстве. В этом случае под пространством жизни мы понимаем уже все существующее безграничное пространство. Оказывается, что и сама точка определяется неким генесисом пространства, в котором она существует, а потому несёт на себе и некие его качества. Эти качествами мы наделяем эту точку, а затем этими же качествами наделяем и само пространство. Вот почему, если мы определяем жизнь через объективную реальность, то и она сама становится объективной реальностью. Если же мы наделяем жизнь тем или иным качеством объективной реальности, то и сама она несёт на себе это её качество.
Пространством жизни индивидуальности в данном случае является некое безграничное пространство, а потому она стремится к его полной экспансии, к экспансии уже всего пространства. При этом внутреннее пространство самой индивидуальности является ничем иным, как неким средством освоения этого внешнего пространства. Ведь на самом – то деле индивидуальность имеет ещё и некое внутреннее пространство, которое уже не является точечным пространством. Это внутреннее пространство мы и связываем со временем. Именно им определяем это внутреннее пространство. Такое положение дел связано с тем, что изменить пространство мы просто не можем и не в состоянии, т.к. оно определено и задано самой природой. Более того, это пространство так схоже с пространством других живых существ, что порой мы просто не можем понять, в чем же различие этих пространств, которыми являются пространство человека и пространство живых существ. Но при более глубоком их рассмотрении мы приходим к тому, что нервная система человека имеет кардинальное различие от нервной системы других существ. Более того, именно её развитие привело к образованию второй сигнальной системы человека, которая связана с появлением речи, а потому и способностью к формализации, идеализации и познанию окружающего мира и природы.
Вот почему говоря, о пространстве жизни индивидуальности, мы уже не можем просто считать его некой точкой, обладающей тем или иным качеством. Рассмотрение внутреннего пространства позволяет нам понять генесис развития самого этого пространства, а потому и то, как устраивает индивидуальность своё собственное окружающее её пространство жизни. Отметим, что данное пространство имеет не только некую материальную структуру и строение, которое, в настоящее время, мы в достаточной степени выявили, но ещё и некую информационную структуру, и строение, образованное, хотя материальной структурой, но несущей в себе тот или иной вид определенной энергетики. Именно она определяет информационную структуру и строения внутреннего пространства самой индивидуальности. Имея одинаковое строение и состав индивидуальности, различаются именно теми состояниями, а точнее, метасостояниями, в которых они могут находиться или же создавать их в себе. Способность фиксировать, понимать, а затем и осознавать их отличает живое человеческое от живого природного. А потому о жизни мы можем говорить по отношению ко всему живому, хотя конечно само понятие жизни имеет отношение скорее к живому человеческому, чем живому природному или просто к живым существам. Жизнь по отношению к живому выступает как некое его качество, а потому мы будем рассматривать жизнь именно в таком полагании. Это полагание означает, что жизнь присуща не всему живому, а только человеческой индивидуальности, хотя понятие жизни распространяют и на все живое. Оказывается, что в этом случае просто подчёркивают, что живому присуще качество, которое не имеет и не несёт в себе неживое. Но мы уже говорили, что деление на живое и неживое носит чисто условный характер, а потому в том или ином представлении просто может не существовать такого деления. А потому, вернёмся к внутреннему пространству индивидуальности как пространству жизни самой индивидуальности.
Оказывается, что пространство жизни индивидуальности не соответствует пространству, которое она формирует во внешнем мире. Это несоответствие связано с тем, что наше пространство организованно в виде некой организмической системы, а внешнее пространство мы строим как некое механическое пространство. Но если мы обратимся к устройству пространства жизни человечества то, оказывается, что это пространство мы строим по аналогии с внутренним пространством индивидуальности. В этом устройстве есть и огромные различия, а точнее, само это устройство отражает ничто иное как понимание нами своего собственного пространства жизни. Если же выделить основную тенденцию в устройстве пространства жизни то, оказывается, что она направлена именно на то, чтобы устроит его тождественным нашему внутреннему пространству. Хотим мы того или нет, но мы движемся именно в этом направлении, а потому и к этому тождеству внешнего и внутреннего, которыми являются – человеческое и природное. Вот почему мы не можем идеализировать и полагать индивидуальность как некую точку, наделённую теми или иными атрибутами. Ведь именно так познавая природу, материю, движения и т.д. мы наделяем их тем или иным присущим им атрибутам. Но, как оказывается, эти атрибуты дают нам только некие идеальные, а потому и неизменные представления о природе, материи, движении и т.д. Откуда же берётся и возникает такая идеализация, и почему мы просто не познаем саму природную реальность в её совершенной и неповторимой индивидуальности? Оказывается, это связано с тем, что мы берём, а часто и просто выделяем то, что нам кажется наиболее важным в ней, отбрасываем все то, что считаем менее важным или не существенным. При таком подходе, мы имеем, уже не саму природную реальность, а некую её часть или же “кусок”, который не соответствует ей самой, а является её неким идеальным элементом или же просто превращается в идею некой природной реальности, к тому же, мы порождаем её путём отождествления с другими природными реальностями, выделяя присущие им атрибуты. Именно так мы превращаем чувства человека в приборы, а разум человека в компьютер.
Рассматривая пространство жизни индивидуальности, мы констатируем факт устройства его таким же самым образом, каким устроено само внутреннее пространство жизни индивидуальности. Именно это мы хотели выделить и показать в нашем анализе пространства жизни индивидуальности, а также, существующую связь пространства жизни индивидуальности и жизненного пространства самой индивидуальности. Пространство жизни индивидуальности имеет резкие различия по отношению к жизненному пространству самой индивидуальности. Поэтому, если мы отождествим эти пространства то, тогда индивидуальность выступает как идеальная сущность, несущая на себе тот или иной положенный на неё атрибут, который выражает собой её некое качество или признак. Этой идеальной сущностью и является указанная нами выше точка. Вследствие этого точка есть некий свёрнутый генезис, несущей на себе то или иное качество, которое мы выделяем ни как результат генесиса, а как некий присущий ей атрибут. Поэтому проблема качества, стоящая перед философией и самой наукой так до настоящего времени не решена, потому что качество полагается нами самими, а не выявляется как некий результат генесиса самой сущности. Укажем, что под генесисом мы понимаем именно то, что полагали в него ещё греческие мыслители и философы – – генесис, означает порождение, точнее, как некое структурное порождение, включающее в себя все формы движения или изменений. В современной науке используют генезис как просто изменения или движения. Мы же будем иметь в виду греческий генесис, а не генезис и даже, более того, будем говорить о системном порождении, а не только о структурном порождении, внеся в него ещё и некое новое качество, называемое информационным качеством. Именно генесис позволяет нам раскрыть то качество, которое в результате генесиса сворачивается в точку, а потому и наделяет им саму точку. Если же не перейти к генесису, то мы останемся в старом методе познания и воспроизведём все то, что было нами изучено и выявлено как некое идеальное в нашем познании. А потому, мы говорим о том, что познание самой природной реальности невозможно без познания самого её генесиса.
Жизнь в пространстве индивидуальности как некой природной реальности связана с тем, что самого её пространство выносится во внешнее пространство и познаётся уже как, некий внешне-положенный по отношению к нему сущности. Более того, её изучение и познание осуществляется не в лоне жизненного пространства индивидуальности, а в лоне некого определенного качества. Сам носитель индивидуальности представляет собой не что иное, как некую модель, наделённую тем или иным качеством. Вот почему, полагая жизненное пространство индивидуальности вовне, мы познаем не само это пространство, а его идеальный аналог, т.к. представляем его не как некую целостность, а как некую совокупность частей её составляющих. Именно эти части не даёт нам понимания того, что же на самом деле есть такое сам носитель жизни.
Кроме пространства жизни индивидуальности и жизненного пространства индивидуальности имеется ещё и некое пространство существования самой жизни. Это пространство существования есть не что иное, как наша планета Земля. Существование жизни связано именно с тем, что наша планета есть некое состояние космической материи. По отношению к Земле жизнь имеет ещё и некое ограниченное пространство своего существования. Следовательно, жизнь существует в неких рамках или границах, а потому ограниченна по отношению к пространству. Более того, даже само пространство жизни ограниченно рамками Земли, поэтому мы не можем выйти за рамки этого пространства. Оказывается, что это ограничение проявляется в том, что жизненное пространство индивидуальности также является ограниченным. Мы несём на себе некое общее, некое присуще качество самой нашей Земле, проявляющееся и в нас самих. Это качество есть не что иное, как ограниченность пространства жизни индивидуальности, которое непосредственно связано с ограниченностью самой нашей Земли. Это ограничение есть некая тотальность, за которую мы не можем выйти и которую не можем изменить. Такова природа космоса, в котором находится наша Земля. Это есть ничто иное как отражение некого природного, точнее, некой природы самой Земли в человеческой индивидуальности. Более того, это отражено в самой природе живого вообще, а потому присуще и всему живому. Форма и есть не что иное, как ограниченность пространства жизни. Поэтому – то именно в ней она только и может существовать. Вне формы, нет жизни, и именно в этом проявляется некая материально – телесная основа самой жизни. Поэтому жизнь может существовать только в некой форме, т.к. вне её жизни вообще – то нет. Вследствие этого в самой форме происходят некие изменения, связанные не с изменением её самой, а с изменением неких внутренних состояний, которые, как оказывается, мы познаем не в лоне самой природной реальности и жизни, а в лоне некой идеальности, которую получаем путём помещение внутреннего вовне или просто во внешнее пространство. Но помещая вовне, мы не формируем это в виде некой формы, а потому получаем уже некое неживое, некое мёртвое несоответствующее самой природе вещей. Так мы создаём некие механизмы жизни, а сама жизнь при этом прячется в лоно некой своей потаённости и потенциальности. Аналогичное мы имеем и со временем, вынося его в пространство и полагая его на пространство. В этом случае мы получаем уже не само время и изучаем не время, а некие его математические отражения и то только через движения, рисуемые самой формой на этом пространстве. Время же уходит в некое лоно потаённости и потенциальности, а потому остаётся так и не познанным и непонятным нам. Это означает ни что иное, как то, что природа развивается именно через жизненное пространство индивидуальности, а существует и выражает себя через многообразие форм, которыми она и представлена на нем. Форма есть ещё и некое вполне определенное состояние самой природы, самого мироздания, а потому она несёт в себе именно это её состояние. Космос и мироздания как бы прячет свои состояния в формах, а потому познание генесиса формы означает познание не только её самой, но ещё и существующие её состояния. Поэтому – то состояния проявляются на самой форме, а не путём изменения формы. Если рассматриваем природу как некое внутреннее состояние космоса, считая при этом космос некой её формой то, тогда он проявляет себя через состояния природы или как мы ещё их называем природными явлениями. При этом нам необходимо учитывать, что природа существует в некой определенной нами форме, а потому мы говорим о состояниях и самого космоса. Все это говорит о том, что, познавая мир, мы постоянно ищем некую форму, в которую помещаем все изученное и познанное нами, а затем говорим о состояниях, в которых может находиться эта форма. При этом мы движемся в направлении построения некой иерархии, тем самым, не познавая саму природу и мир, а только распределяем их по неким ранжирам и порядкам. Это и есть некие пирамиды нашего познания, которые рушатся так же, как разрушаются финансовые пирамиды. Мир не есть некая пирамида, т.к. существует в своих особых состояниях, которые он представляет в виде бесконечного разнообразия существующих форм. То, что не имеет формы, является ничем иным как тем, что фиксирует и даёт жизнь этим внутренним состояниям, существующих форм. Поэтому мы называем это энергией, той не проявляющей себя субстанцией на пространстве, которая и воздействует на состояния той или иной формы.
Все это говорит о том, что жизнь также есть некое состояние живого, а потому и самой природы. Но эта природа ограничена рамками Земли. Внутренне пространство Земли также как и пространство жизни индивидуальности является живым, изменяющим, а потому и любое внутреннее пространство, хотя и имеет некую свою специфику в строении и составе все равно является живым пространством. Эту жизнь пространства обеспечивает энергия, через которую мы можем фиксировать то или иное состояние уже внутри формы. Изменение энергии приводит к изменению состояния, а изменения состояния к тому, что происходят изменения структуры и строения внутри самой формы. Вот почему современная наука полагает формы неизменными и абсолютными, а потому выступают и являются в ней некими тотальностями.
Вынося из лона человека жизнь, и помещая её в пространство, мы говорим о жизни в пространстве. При этом её носитель, как и она сама превращается в некую точку, которая и проявляет себя на нем в том или ином виде, неся на себе ещё и некий полагаемый на неё атрибут или качество. При этом сама жизнь только представляется на пространстве, сама же остаётся при этом в неком лоне потаённости и потенциальности. Это означает, что мы познаем не саму жизнь, а лишь её проявления. Поэтому познаем не саму жизнь, а уже некое идеальное представление о ней. Ведь в этом случае жизнь является уже неким пространственным идеальными образованием, которое мы называем судьбой. На пространстве мы видим свой жизненный путь, состоящий из таких же идеальных точек, через которые мы познаем и объясняем движения той или иной материальной сущности. Но нам более интересен вопрос о самом пространстве жизни, а также о том, как его создаёт сама индивидуальность. Такое представление жизни не даёт нам её понимания, т.к. она является некой свёрткой, которая представлена в пространстве в виде точки – сущности. Линия, которую рисует эта точка – сущность и называется судьбой. Об этом мы будем говорить в философии человека, в философии носителя самой жизни. При таком полагании жизни мы не только объяснить, но и понять, что же она такое есть. Тем более выявить её феноменальность и почему её считают ещё и неким феноменом. Без самого носителя жизни нам просто не обойтись, как не обойтись без самой жизни, говоря только о её носителе. Оказывается, что все – таки можно что – то объяснить и понять в этих предельных полаганиях. Тогда для осуществления этого нам необходимо уйти от идеализации и моделирования не только жизни, но и её носителя. Для того чтобы это проделать нам необходимо проанализировать жизнь и её носителя в старых основаниях нашего познания, которыми, как известно, являются пространство и время.
Жизнь в пространстве организуется не только индивидуальностью, но и теми существующими структурами, которые есть в социальном обществе. Само социальное общество также организует свою жизнь в пространстве, которое ограниченно размерами нашей Земли. Оказывается, что пространство жизни хотя и организованно социумом, но несёт на себе черты организации его самой индивидуальностью. Более того, его организация есть некая непрерывная цепь наложения и реализации через материю жизни всех предыдущих поколений. Вследствие этого пространство жизни социума представляет собой некую сумму пространств жизни предыдущих поколений людей. Вот почему и отчего пространство жизни социума столь разнообразно, а потому и сложно для нашего понимания.
Вследствие того, что пространство обладает свободой, эта его свобода воспринимается нами как некая возможность овладения, а затем и полного владения всем пространством жизни социума. Поэтому экспансия пространства означает, что жизнь начинает его захватывать в полном объёме. Именно это проявляется во всех сторонах жизни социума, а потому и в жизни всех существующих в нем структур и элементах его строения. А потому жизнь в пространстве проявляет себя в виде его экспансии, а не развития как улучшения самой жизни или его расширения для неё. С другой стороны, мы можем видеть и то, что пространство жизни уничтожается нами или же просто является заброшенным и предоставленным самому себе. Саму же экспансию в этом случае мы уже переносим на самих носителей жизни.
Понимание того, что пространство жизни ограниченно приводит к тому, что мы начинает осознавать невозможность выхода за его пределы. Именно эта невозможность выхода приводит к тому, что мы начинаем мистифицировать, идеализировать и моделировать саму жизнь. При этом мы о жизни не узнаем больше. Не узнаем больше и о самом окружающем нас мире и природе, так как и их мистифицируем, идеализируем и моделируем подобно самой жизни. Поэтому – то, познаем не мир, природу, жизнь и т.д., а их идеальные, магические, модельные, фантастические, религиозные и т.д. субстраты. Но само пространство жизни мы именно ими стремимся заполнить, т.к. не можем до сих пор понять то, что истина познания самой природной реальности заключается в познании и изучении именно её самой, точнее сказать, не в ней самой, а в “элементах” её составляющих. Изучая и познавая её в своей особой неповторимости, мы тем самым познаем и её саму. Но для того, чтобы осуществить это, нам необходимо перейти к познанию генесиса самой природной реальности. Именно генесис позволит нам выявить динамику её изменений и перехода в различные состояния, которые представляются нам в виде некого разнообразия природных реальностей. Например, изучая человека, мы, с необходимостью, должны изучать его генесис, а не его разнообразные модели или представления о нем. В этом случае мы можем понять динамику его развития и изменений, происходящих с ним, а потому объяснить переход его в некое новое состояние. В противном случае мы не управляем ни собой, ни природой, а просто заставляем делать то, что сами хотим и желаем. Это хотение и желание в современной науке лежит как некая основа эксперимента или опыта, который мы проводим с целью убеждения себя в том, что мы также можем это творить. Но творя, мы часто не отдаём себе отчёта в том, что это творение просто не отвечает самой природы вещей и что эта природа может просто нас уничтожить. Поэтому познавая метаморфозы природы, мы познаем и саму природу, но уже в её конкретном, реальном многообразии.
Жизнь в пространстве выражается нами в виде некой её структуры и строения, которое мы и выражаем на нем и с помощью его. Вот почему эти структуры и строения мы называем ещё и объектами жизни и связываем их с самой жизнью. Более того, жизнь на пространстве проявляет себя в виде изменения своей структуры и строения. Эта динамика есть пространственная динамика, несущая на себе изменения, существующих на нем структур, а также и их строения. Пространственная динамика жизни является ни чем иным как статикой жизни, а потому и сама жизнь в нем является статичной, поэтому именно так себя на нем и проявляет. Познавая эту статику пространства, мы устанавливаем некие характерные черты, присуще пространству жизни и наших предков. Эти характерные черты выражены в виде фактов и событий, а потому порой сложно объяснить, с чем они связаны и почему в них проявлены именно таким образом, а не каким – то другим. В таком представлении о жизни, мы не можем определить движение самой жизни в пространстве, а потому в пространстве жизнь только проявляет себя, а не утверждает себя в нем. Именно в пространстве и по отношению к нему мы осуществляем материализацию жизни, создавая так называемую вторую, искусственную природу, которую представляем уже в виде идеальных представлений о реальной природе, а затем переносим их на пространство, создавая тем самым вторую природу. Необходимость создания второй природы связана с тем, что первую природу мы используем как некий её материал, а потому его можно лепить, ломать, соединять, разъединять точно, так как мы это делаем, познавая первую природу. И здесь как не трудно догадаться мы используем отождествления методов и средств познания с построением и созданием объектов второй природы. Создавая вторую природы, мы должны понять то, что она есть не что иное, как отражение наших знаний о первой природе. Она есть некий этап нашего движения к истинному познанию именно первой природы. Вот почему и от чего вторая природа так сильно отличается от первой природы. Сам процесс этого движения связан с тем, что мы сами являемся творением первой природы, а потому чем больше отходим от неё, тем сильнее проявляется наше единство с первой природой, а отсюда и тотальное стремление к ней, к тому, чтобы просто с ней слиться. Не понимания этого движения приводит к тому, что мы вторую природу ставим выше первой, а потому тотально экспансируем её на благо второй природы. Вот почему наше пространство жизни превращается в геометризованные “клочки”, опустошённой первой природы. Поэтому, чем сильнее они геометризованны, тем сильнее и наша жажда по истинной природе, по той природе, которая нас создала.
Говоря о пространстве жизни нам необходимо понять, почему оно так ограниченно природой. Ведь это пространство, как нам сейчас известно, есть небольшая узкая полоска на поверхности самой Земли, граничащая с её поверхностью и безвоздушным пространством, которое граничит с её атмосферой. На Земле жизнь протекает в воздушной, водной, и поверхностном слое Земли или как его часто называю просто землёй. Эти три компоненты необходимы для жизни, а потому и сама жизнь из них слагается. Вот почему не найдя их в космосе мы говорим о том, что в нем невозможна жизнь, а потому мы имеем опыт только о земной жизни и о формах земной жизни, т.к. проанализировать возможность жизни, состоящую из неких других компонентов, мы не можем. Эта невозможность связана с тем, что мы не владеем генесисом развития и зарождения природы и её составляющих. Мы, оказывается, только способны идеализировать и мистифицировать реальность, выражая её в виде тех или иных представлений о том, как все появилось, включая сюда и появление самой жизни. Познание космоса говорит нам о том, что схожих с нашей галактикой или системой, в которых существует жизнь неограниченное множество в силу того, что сам космос также неограничен. Ответить на вопрос, что такое жизнь, значить ответить на вопрос о её месте в системе мироздания или окружающего нас космоса. Без знания генесиса космоса невозможно объяснить и понять появления в нем жизни, а потому и не можем ответить на этот вопрос, как не можем ответить на множество вопросов, постоянно нас мучающих. Заметим, что ответа на них нет, потому что касаются они вообще – то не реального, а идеального плана нашего бытия.
Вследствие того, что природа и космическое бытие проявляет себя в виде огромного разнообразия существующих форм на пространстве необходимо выявить и понять, что порождает эти формы в том виде, в котором они существуют и представляются нам. Это представление связано с тем, что мы сами являемся в существующий мир, а потому переносим это непосредственно и на него. Если же считать, что существующий мир для нас есть некая тотальность, то тогда по отношению к нему мы можем говорить о его развитии и изменении только с точки зрения существующих в нем элементов, как это имеет место и по отношению к самой жизни и вообще живому. Такое полагание говорит о том, что космос существует вечно, что он есть вечный огонь, который то угасает, то появляется вновь. Его тотальность проявляется в его размерах; в существующих в нем телах; в их рождении и смерти и т.д. и т.п. Именно в этом и состоит жизнь космоса, а потому находит своё отражение на всех элементах и составляющих, входящих в него. Одним из таких его элементов является наша Земля ограничением пространства жизни, которой является её форма. Поэтому форма, которую имеет индивидуальность и все живое также выражает собой не что иное, как их ограничения пространства жизни. Различие этих пространств состоит в различии, как их элементного состава, так и в их размерах. Не понимая генесис пространства жизни Земли и пространства жизни индивидуальности, мы идём на простое их отождествления, а потому подменяем, присуще человеческому земное, а земное – человеческому. Так мы отождествляем с целью познания и существующие связи между элементами пространств жизни Земли и человеческой индивидуальности. В науке эти пространства связывают со временем, т.к. они являются внутренними пространствами, которые несут в себе постоянно изменяющиеся элементы структуры и строения. Познавая, мы отображаем их на пространство, которое считаем чисто внешним пространством или же просто пустотой, по отношению к которой и познаем структуру и строения живого, а потому и саму жизнь. Мы выносим внутренне, то, что подвержено постоянным изменениям для того, чтобы убрать эту их особенность постоянного изменения и тем самым сделать эти элементы неизменными и абсолютными. Ведь при таком полагании их легче познавать. Но такое полагание приводит к тому, что во внешнем пространстве структура и строения внутреннего пространства становится уже неживой, а потому не несёт в себе жизни. Так желая познать жизнь, мы познаем смерть; желая познать живое, мы познаем неживое. Выворачивая внешнее во вне, мы, с необходимостью, идём на то, что изменяющееся превращаем в неизменное, живое в мёртвое, относительное в абсолютное и т.д. и т.п. В этом проявляется ни что иное, как основная тенденция нашего познания, связанная с отождествлением внешнего и внутреннего, природного и человеческого. Как показывает развитие самого нашего познания, мы так и не ответили на многие вопросы, которые постоянно ставило перед собой человечество и теперь нам понятно, почему на них мы так и не смогли найти и дать ответа. Обратимся к внутреннему пространству, которым является время, и рассмотрим жизнь в этом внутреннем пространстве или же просто во времени.
1.5. Жизнь во времени.
В предыдущем разделе, мы рассмотрели жизнь в пространстве, а также и само пространство жизни индивидуальности, включая в него и все существующее пространство жизни. Анализируя пространство жизни индивидуальности, мы столкнулись с тем, что это пространство является неким внутренним пространством, которое в познании мы связываем уже со временем. По отношению к внутреннему, мы говорим как о времени, а не о пространстве, т.к. это пространство заполнено материальной структурой и имеет своё строение и состав. Вследствие того, что форма определяется по отношению к внешнему пространству, а её содержание, строение и состав по отношению к внутреннему “пространству” считают, что внешнее есть само пространство, а внутреннее – уже является временем. Изменения, которые происходят внутри формы, связаны не с самими изменениями формы, а с изменениями, которые протекают во внутренней структуре. Непонимание того, в результате чего происходят эти изменения приводит к тому, что мы наделяем её неким новым атрибутом, которым становится уже время. Это непонимание связано ещё и с тем, что мы часто не можем зафиксировать изменения, которые протекают внутри той или иной формы. Фиксируя конечные состояния этих изменений, мы говорим о времени, в течение которого они произошли и совершились. Фиксация этих состояний означает некое их отображение на пространстве, которое мы определяем временем перехода той или иной формы из одного состояния в некое другое состояние. В этом случае время выступает и является просто неким интервалом протяжённости между ними. Поэтому время становится в таком полагании уже пространством, точнее сказать, о пространственном времени. Отображая время на пространстве, мы имеем не само время, а его протяжённость, которая на пространстве несёт ту же самую сущность и суть какие оно несло по отношению ко времени. Пространство и время в лоне протяжённости становятся, просто неразличимы и тождественны. Их различие можно выявить и установить, если ввести движение. Понимая движения как простое изменение, или же просто как любое изменение, означает, что мы под видимое подводим некое невидимое, чтобы визуализировать его с помощью пространства, а ещё и на самом пространстве. Но, как оказывается, изменения хотя и являются движением, но происходят и реализуются на неких структурах и формах, которые отражают себя на пространстве, а потому и на самой форме. Более того, они могут протекать с изменением самой формы, как это имеет место в существующей природе. У человека эти изменения происходят на самой форме, а не путём непосредственного её изменения. В природе же эти изменения протекают в виде изменения формы, например, у бабочки, растений и т.д. Через движение мы не можем объяснить и познать эти изменения, потому что в них принимает участие само изменяющееся, а не какие – то её части или элементы строения, состава и структуры. Изменения мы можем объяснить и понять только через генесис самой этой сущности, понимаемой уже как некая индивидуальность или же, как природная реальность. Наше же познание направлено на разрушение природной реальности, на её деления на части и куски, а потому мы представляем изменения этих частей и кусков как их некое движение. Это вовсе не означает того, что этот подход в изучении и познании является просто неверным или неправильным. Он есть один из этапов нашего движения к истине, и как мы сейчас понимаем, он себя к настоящему времени уже исчерпал. Поэтому мы от познания перешли к играм с разумными машинами, как когда – то играли с техникой и экспериментами при этом, не меняя их сути, а только модернизируя и улучшая их некие качествования, в рамках некого определенного количества. Конечно, очень интересно поиграть в такую же игру и с разумными машинами. И человечество принимает эту игру, заменяя тем самым, само познание на игру в познание и с самими знаниями. Неужели мы действительно все познали и поняли в природе и человеке, что нам осталось только играть с этим познанным нами! А раз все поняли то, почему мы ставим себе такие вопросы, на которые хотим ответить и на которые стремилось найти ответы на протяжении столь огромного времени своего существования человечество. Что есть жизнь во вселенной и каково её место в структуре и строении самого мироздания и космоса? Но кроме этих есть ещё и множество других вопросов так, что закрыть лоно познания нам просто не удастся, как не удаться свести их к различным играм, в которые так любят играть взрослые и дети.
Объясняя движение через изменения, или же полагая, движение и изменение как нечто тождественное, мы тем самым просто сводим любое изменение к самому движению. Это приводит к тому, что мы уже должны представить его на пространстве и привести к известному виду движения. Оказывается, что изменений в природе множество, а вот видов движения существует некое ограниченное и определенное число. Это ограничение связано с тем, что мы геометризуем движения, представляя его в виде той или иной линии, как будто сама форма не может быть выражением некого финального вида движения, несущего в себе уже некий его застывший вид. Более того, саму форму мы также геометризуем, как и движение, а потому не можем объяснить её через генесис времени и путём её разворачивания на пространстве. Это касается и жизни, потому что мы представляем её в виде некого конечного промежутка времени. Представляя её так, и таким образом мы ничего не можем сказать о ней самой, а потому и о том, что она есть такое. Ведь и в этом случае мы берём только некие финальные движения, между которыми она протекает и существует. Об изменениях жизни говорить в таком представлении вообще не имеет смысла. Поэтому движение является самой простейшей формой изменений, поэтому не может покрыть собой все существующие и протекающие в природе явления и процессы, которые имеют место и во второй, созданной нами природе.
Говоря о жизни во времени, мы приходим к тому, что делим это время на некие интервалы времени, связывая и называя их возрастом. Оказывается, что такое деление времени позволяет нам рассматривать жизнь как некие этапы изменений, происходящих и с самим человеком. Это имеет отношение ко всему живому. Определяя и деля так время жизни, мы уже говорим о неких возрастных особенностях человеческой индивидуальности. Эти особенности есть некие качествования, которые мы выделяем в лоне времени, понимая само время как некую протяжённость, как время жизни. Все время жизни мы складываем из времён нашего нахождения в том или ином возрасте. Но складывая его, мы можем говорить только о времени жизни, которое составляют эти так называемые “времена возрастов”. При этом мы не можем понять того, что происходит при переходе от одного возраста к другому, а только констатируем сам факт этого перехода или же просто его наличие.
Если жизнь оторвать от времени, то тогда мы будем иметь уже некую её идеализацию. Этой идеализацией является мистификация, фантазирование и моделирование жизни уже вне времени. Поэтому жизнь вне времени и жизнь вне пространства и составляют эту так называемую идеализацию. Но по отношению к идеализации времени жизни мы говорим о жизни, как о жизни после смерти, тем самым идеализируем не только саму жизнь, но ещё и самого его носителя. Так мы вносим и в него нечто вечное, нечто существующее в нем вне времени и пространства. Это нечто является душой или духом. Понимая то, что время связано с изменениями, происходящими с нами, мы требуем изменений и самого нашего состояния жизни как некого перехода от жизни в материальной форме к жизни в форме души и духа. Отсюда и идея, что человеческая душа может реинкарнировать, осуществлять своё движение к божественному началу или же просто деградировать в более низшие состояния, в мёртвую материю, которую считают и заменяют сатанинским началом. А потому для души существует некий свой путь изменений и развития, который направлен к божественному, или раю или же к сатанинскому, или аду. Эти представления о жизни связаны не с утверждением времени с целью её познания, а наоборот, с целью его негации, потому что в таком представлении время становится уже вечностью, временем без времени. Её можно понимать и как очень большое, огромное время жизни, или же просто как бесконечное время. Говорить же, о неком качестве времени мы не можем, потому что его качеством является качество самого пространства. Вот почему время несёт на себе то качествование, которое несёт в себе и само пространство. Напомним, что под качествованием мы понимаем качество, лежащее в рамках некого определенного количества. Природа проявляет себя на пространстве и именно через него себя и представляет. Время же выступает в роли того, что определяет этот её пространственный вид, а потому и является для нас некой невидимой и неуловимой субстанцией. Вот почему на пространстве и через него мы визуализируем время той или иной материальной структуры, которая является уже определенным состоянием природы, выраженным в виде той или иной формы. Природа развивается в лоне времени, потому что в лоне пространства она проявляет свои состояния, которые мы воспринимаем как её различные материальные объекты, как её непосредственные выразители. С этих позиций для нас проясняются некоторые моменты так называемого живого состояния природы, выраженного на пространстве в виде живой материи, а ещё и в форме живых тел. Природа в таком представлении выступает уже не как некое сущее, существующее, а как вещее, как некое вещающее нам о себе. Поэтому несёт в себе не только протяжённость, но ещё и информационность, путём сохранения своих состояний на пространстве и через него их ещё и проявляющая. Время остаётся в самой структуре, а потому раскрыть его без генесиса нам просто не удастся, а не то, чтобы ещё и понять его.
Если рассматривать жизнь как некий временной генесис природы, то тогда время жизни есть количество времени в течение, которого природа пребывает в состоянии живого. Это время различно для различных живых форм и потому, познавая генесис форм и состояний, мы можем говорить, почему время жизни той или иной природной реальности именно такое, а не другое значение. Но в этом случае мы уже говорим о времени как о неком количестве, в рамках которого природная реальность пребывает в живом состоянии. Без самой природной реальности познания её форм и состояний просто невозможно. Это связано ещё и с тем, что природа проявляет свою многоликость, хотя и выраженную на пространстве в виде существующих объектов и тел и даже того, что мы называем явлениями природы.
Представление о времени как о некой линейной и одномерной структуре привели к тому, что мы можем говорить только о времени жизни, или же просто о времени существование материи в той или иной форме. Это означает ничто иное, как то, что жизнь имеет и некую протяжённость во времени. Как показывает сама жизнь эта протяжённость, хотя и связана непосредственно с ней, но не является её определяющим фактором, потому что форма тел не является линейной, хотя и является протяжённой. Эта нелинейность форм связана именно с тем, что время на пространстве проявляет себя не линейным образом и особенно сильно это проявляется и заметно тогда, когда мы имеем в виду внутреннее строение и структуру самой этой формы. Вот почему и отчего мы прячем внутрь структуры и строения тех или иных форм время. Обратившись к существующему миру и космосу, мы приходим к тому, что время жизни в них столь огромно, что его просто невозможно ни с чем сравнить, а потому и помещаем его в лоне некой потенциальности и потаённости, или же просто считаем бесконечным. Оказывается, космос также живёт во времени и космические формы несут в себе время. То, что оно огромно не означает того, что его у них его вообще нет. Космос также имеет свой генесис, свои определенные только ему присуще формы, которые также выражены на пространстве.
Говоря о жизни в лоне времени, мы, с необходимостью, говорим о том, что время является неким определяющим фактором существования тех или иных форм живого. Но почему происходят эти переходы от одной формы к другой, или из одного состояния в другое? В этом состоит одна из основных, главных истин самого мироздания. То, что способно рождаются, то способно и умирать, но смерть связана с тем, что, являясь, она даёт возможность дальнейшему развитию природы, её генесису. Отсюда следует, что живое есть некое определенное состояния космоса, играющее основную роль в его строении и структуре – осуществлять динамику его собственного развития. Именно в этом состоит ценность космического назначения живого, а потому и его ценность и для самого человечества, и для каждой человеческой индивидуальности. Вот почему и отчего мы говорим о больших и малых мирах, как о макрокосме и микрокосме.
Все это говорит о том, что жизнь в космосе не является неким феноменом, а есть просто одно из его состояний. Вследствие чего это состояние должно рассматриваться и познаваться именно в лоне самого космоса. Говоря о самой природе космоса, мы можем ответить на вопрос о том, что такое жизнь и в чем её сущность, потому что в нем жизнь не является неким единичным фактом или феноменом, как не является единичным фактом схожесть многих природных реальностей друг с другом, хотя и несущих в себе и некие присущие им особенности и отличия. Космос стремится к изменению себя через создания такого многообразия, которое, с необходимостью, приводит к усложнению структуры и строения его самого. Это усложнение несёт в себе динамику развития и самого носителя – космоса. То, что жизнь и его носители развивается в неких определенных условиях, говорит о том, что природа порождает эти формы как некие отражения своего состояния, а потому земному состоянию соответствует земная динамика, которую несёт в себе живая материя. Но в силу того, что наиболее изменяющей составляющей живого является человек, он начинает выступать как основной элемент, как основная составляющая земной динамики, а потому и самого космоса. Вот почему мы видим и начинаем понимать, какую роль в развитии Земли играет человек, а также и то, к чему приводит и уже привела его деятельность. Отсюда и наш страх за то, что творим на Земле, а потому и за то её состояние, которое мы и имеем на настоящее время.
Жизнь в таком полагании выступает как некое качество живого, т.к. требует для себя постоянного развития и изменений. Мы же, создавая вторую природу, используя для этого первую, или космическую природу, возводя её в ранг материала из которой можем конструировать и создавать все, что нам захочется, и чего пожелаем. Эти пожелания и хотения не отвечают генесису развития природы и космоса, потому что мы их познаем не в реальности, а в виде неких идеальных объектов, из которых, в свою очередь, создаём чисто математические модели и лепим из них так называемую вторую природу. Говоря о второй природе нам необходимо понять, что основным аппаратом нашего познания является математика. Именно подведение под природу и космос математики ознаменовало собой развитие технической эры человечества, породило и эпоху технической и техногенной цивилизации. Говоря о математике, мы должны понять и осознать, что было положено в её основу, а также и то, на чем она зародилась, а впоследствии и появилась. Обращаясь к истории зарождения математики, мы должны констатировать, что её появление связано с формализацией, с простой констатацией того, что мы видим. Видимое стало выступать и является основой формализации, а затем и зарождения самой математики. Но венцом её явилось представление видимого в виде неких знаков и линий, которые затем и составили основу математического аппарата и формализма. Наша способность формализации связана именно с тем, что видимое для нас представляет собой нечто истинное пусть даже не вполне точное отражение и воспроизведение познаваемого человеком. Эта наша способность связана в первую очередь с нашим разумом и его генесисом. Сам же разум выступает в роли того, что удерживает, сохраняет, а потому и хранит в себе некие структуры и строения, которые мы видим. Это привело ещё и к тому, что разум стал являться неким “хранилищем” информации. Поэтому его генесис связан с тем, что сохраняет те изменения, которые когда – то произошли с её носителем. Разум поэтому есть некая статика человека, а чувство является его динамикой. Оказывается, чувство также подвержено развитию и изменениям, а потому имеет свой собственный генесис. Но не будем отвлекаться от основной темы нашего изложения.
Жизнь во времени, как мы показали, связана с тем, что мы переходим в некое другое состояние, называемое смертью. Это состояние есть полное отсутствие динамики, а потому есть некое статическое состояние, характеризуемое тем, что наша материя в этом состоянии подвержена процессу разложения на более простые элементы и составляющие. Именно это означает, что мы являемся одним из сложнейших образований космоса, в котором кроме информационной составляющей, проявлением которой является наша телесная форма, существует и есть ещё некая энергетическая составляющая, несущая в себе наши возможные состояния. Она уже проявляется на самой нашей телесной форме, а потому не является, так ярко выраженной как выражена наша телесная и материальная форма. Оказывается, что эти состояния мы и связываем со временем, потому что до настоящего времени их почти не знаем и не можем не только познать, но и просто описать. Более того, наука эти состояния полагает в некой тотальности, а потому утверждает в виде той или иной основы уже и самого нашего познания. Вот почему и вследствие чего мы говорим о разумном или чувственном познании, основу которого составляет разум или чувство. В таком полагании разуму отводят статику познаваемого, а динамика его постигается уже с помощью чувства. Полагая в эти основания жизнь, мы говорим о ней как о разумной и о чувственной жизни, связывая и отождествляя тем самым их с некими нашими структурами, которыми являются наш мозг и сердце. А отсюда и познание мозгом или сердцем, о котором говорят те, кто так и не удосужился даже прикоснутся к одной из самой прекраснейшей из человеческих интенции, называемой познанием. Не хочет познавать человек, а просто хочет жить, как говорят простые люди. Но если жить и не знать о жизни ничего разве это можно назвать жизнью. Жизнь только тогда прекрасна, когда знаешь о ней как можно больше, потому что лишь тогда появляется возможность узнать о ней ещё больше. Если же не познавать жизнь, то тогда разве мы сможем устраивать её, так как пожелаем и захотим не только в пространстве, но ещё и во времени.
Оказывается, что наше понимание жизни во времени стоят на представлениях о самом времени на том, как мы его себе представляем. Если время мы геометризуем линией, то время также становится линейным. Если же, мы линию представляем как некое множество точек, то и время становится этим множеством точек или же просто точечным временем. Эти точки времени мы называем событиями, а ещё наделяют их числами. Это время есть историческое время, точнее, представление времени в исторической науке. Вот почему современная история есть история дат и событий, соответствующих тем или иным моментам времени, которые им к тому же ещё и приписываются.
Кроме указанного выше представления времени существует ещё время, представленное в виде прошлого, настоящего и будущего. Такое представление времени имеет скорее отношение к самому носителю жизни, чем к нему самому. Оказывается, что это представление есть ничто иное, как наше представление настоящего через прошлое и будущее. Это есть дуальное представление настоящего или, можно сказать, диалектика времени. Диалектика времени задаёт собой и диалектику жизни, если мы полагаем жизнь в лоно времени. Наиболее часто употребляемое представление времени есть его полагание как повторяющегося, возвращающегося обратно. Это время в геометризации имеет вид окружности. Жизнь в таком представлении времени представляет собой также некое движение по кругу. В этом случае жизнь представляет собой постоянную смену путём возврата к ней самой же. При этом качество самой жизни в таком представлении не изменяется.
Именно по отношению к этому представлению мы и рассматриваем жизнь как некое время жизни. Поэтому мы и говорим о времени нашей жизни. Обращаясь к опыту познания мы, с необходимостью, приходим к тому, что время жизни различных природных реальностей имеет различную протяжённость. Именно по этой протяжённости, мы и судим о жизни. В космосе время жизни его носителей столь огромно, что мы его часто считаем бесконечным или же просто от него абстрагируемся. В этом случае мерой времени жизни выступает время жизни человека, а потому время жизни космических объектов по отношению к этому времени уже имеет бесконечную протяжённость. Но космическое время не есть человеческое время, как время жизни бабочки просто несравнимо со временем жизни человека. Универсальность числа в протяжённости, или мере не даёт возможности различать времена жизни различных природных реальностей. Это означает, что время в различных материальных структурах имеет некую свою меру, и эта мера не сводима к мере самого человека. Универсализация мер и её минимизация привела к тому, что на больших и малых расстояниях и отрезках времени мы уже не можем различать пространственную и временную протяжённости. В этом случае меры пространства и времени становятся тождественными и неразличимыми, а то и просто совпадают. А потому говорить о времени и пространстве в больших и малых протяжённостях мы уже не можем. Может быть, уже сама протяжённость при этом исчезает. Её исчезновение связано с тем, что в качестве некой минимизации познаваемого мы берём точку, как идеальный объект, который не имеет протяжённости, а потому и попросту не существует во времени. Но это не означает того, что эта точка не имеет присущего ей качества. Именно качеством отличается одна точка от другой. Именно это мы и наблюдаем в современной науке. Так точка является материальной, заряженной, спиновой, массовой и т.д. На неё мы накладываем то или иное качество, а потому она уже становится её неким носителем. Так полагая на неё жизнь, мы можем говорить о неком моменте нашей жизни или жизни человеческой цивилизации. Но точечное представление о жизни не даёт нам возможности проанализировать её в неком общем потоке непрерывности, а потому мы имеем жизнь уже как некий набор несвязанных друг с другом ситуаций, которые и характеризуются точечным их представлением. Подробный анализ жизни в той или иной форме нашей мыслимости мы дадим несколько позже и в соответствующих разделах нашей книги. А сейчас укажем на то, что жизнь во времени есть ничто иное, как время, в течение которого живое находится в этом состоянии живого, обладая жизнью. Следовательно, жизнь во времени есть просто некий интервал времени между нашим рождением и смертью, которые и связывают с началом и концом жизни.
1.6. Философия жизни.
В этой части книги мы рассмотрим саму философию жизни. Для этого нам придётся рассмотреть саму философию, а потому и то, какую основную проблему она решает. После этого нам необходимо будет поместить в её лоно жизнь и рассмотреть её. А потому обратимся к самой философии.
В настоящее время под философией понимают и называют её именем все, что угодно. Так говоря о вкусе – говорят о философии вкуса, о моде – как философии моды и т.д. Но, как оказывается, все это очень далеко от истины философии, которая решает одну из главнейших и сложнейших проблем самого человеческого познания. Эта проблема связана с тем, как мы познаем и почему познаем именно, так и таким образом, а не как – то иначе. А потому философия есть одна из самых сложнейших наук, существующих в человеческом познании. Многие связывают с философией просто некое наше представление о той или иной вещи или же некое наше мнение о ней. Именно отсюда и поэтому отождествление объективного, видимого нами с самой философией. Отсюда и такое превратное представление о философии. Не понимание проблем, решаемых философией, низвергают её в лоно некой “научки”, под которую можно свести свои собственные мнения по тому или иному вопросу или же относительно того или иного объекта. Мы же говорим о философии, как о том опыте познания, который связан с тем, как мы познаем мир и почему именно так его познаем.
Обращаясь к истинному лону философии, мы уже, с необходимостью, констатируем, что философия решает проблему поиска некого нового метода познания. Ведь не имея под рукой того, как мы познаем мир, мы не можем говорить о его познании. Оказывается, что под методом современная наука понимает просто некий способ, некую нашу способность описания и объяснения изучаемого. Более того, эти методы часто сводятся просто к описанию той или иной модели, которую строят на основе тех или иных выявленных и выделенных атрибутов в самом познаваемом. Мы же говорим в лоне философии о методе самого нашего познания. Этот метод обладает некой универсальностью и потому даёт нам некое представление о мире как о целостности и как, о неком едином. Так в лоне философии пока выделены два метода познания, которые как оказывается, лежат в лоне некого количества, а потому несут в себе качествования их и различающие. Этими методами познания являются метафизика и диалектика. Системная методология, которая претендует на третий метод познания так до настоящего времени и не разработана, хотя попыток её разработки можно найти в научной литературе огромное многообразие. Системология как метод познания также не разработана, т.к. просто не смогла выйти за рамки количественности, в лоно которой и была положена. Математический аппарат, с помощью которого можно было бы описать, и объяснить систему оказался таким сложным, что не мог применяться к объектам или познаваемых число, которых было больше двух. Именно на этом количестве пока стоит и покоится и само наше познание. Укажем, что третий элемент познания появляющийся как некий синтез двух элементов является ничем иным как простым сведением диалектики к метафизике, а не появление третьего элемента, несущего в себе качествования первого и второго элемента уже в виде их некой простой суммы. Хотя его и полагают как третий элемент, но он ничего не даёт нам в познании как двух других, так и того, из чего вышли эти два элемента. Ведь и они являются неким представлением первоначально положенного познаваемого. Знаменитая проблема описания и объяснения трех тел всплывает перед нами все в той же актуальности и неразрешимости. Это означает, что проблема троичности, ещё рождённая в XVIII веке так до настоящего времени, ждёт своего разрешения. Связывая троичность с системностью, мы тем самым актуализируем саму системность через троичность, которая выражает собой количественность в лоне которой лежит качествование, называемого нами системностью. Вот почему проблема системности не может быть решена без разрешения самой проблемы троичности.
Кроме такого понимания философии её понимают ещё и как любовь к мудрости. Это есть ничто иное, как смысловая канва (главная идея (мысль), стержень повествования), составляющих данное слова понятий), переведённых с греческого языка. Но как оказывается, эта канва самым тесным образом связана с нашим пониманием философии. Ведь любовь и мудрость есть ничто иное, как главные составляющие самой философии, а не науки. Поэтому без их проникновения в её лоно нам просто не удастся. Более того, любовь и мудрость, положенные в неком единстве, которым является и выступает философия, с необходимостью, требует их учёта и в самом процессе нашего познания. Ведь мудрость несёт наше мышление или разум, а носителем любви являются наши чувства, которые не есть простые ощущения или же некая реакция на то или иное раздражение. Эти чувства, с необходимостью, становятся и являются разумными чувствами, как и сам разум, становится и является уже чувствующим разумом. Этим мы хотим показать только то, что синтез одного и другого вообще – то не является одним и тем же, потому что несёт в себе различные качества, а не качествования. В качествованиях они оба тождественны, а потому и отождествляются нами.
Говоря о философии жизни, мы, с необходимостью, помещаем саму жизнь в её лоно, а потому можем говорить как о мудрости жизни, так и о любви к ней. Поэтому жизнь должна рассматриваться именно с этих указанных нами позиций, если мы хотим и желаем говорить уже о философии жизни. Кроме этого, укажем ещё и на то, что нам необходимо будет разъяснить и понять, почему мы понимаем жизнь именно так, а не иначе; почему мыслим её, так как мыслим. Рассматривая жизнь в лоне философии, мы приходим к тому, что философия жизни есть любовь к мудрости жизни или мудрая любовь к жизни. По отношению к жизни любовь и мудрость выступают и являются некими основаниями, через которые мы можем объяснить жизнь, а потому уже говорить и, о самой жизни. Без них мы говорим просто о жизни или же отождествляем её с тем или иным атрибутом, присущем ей. В этом случае мы говорим об определении жизни, потому что она определяется или же просто подводится под нечто другое. Полагая жизнь в лоно мудрости, мы говорим о жизни как о неком жизненном опыте, потому что именно он является ничем иным как мудростью самой жизни. Познавая свой жизненный опыт, а также опыт человеческой цивилизации мы устраиваем свою жизнь более определенно и понимаемо нам. Вот почему сравниваем одну цивилизацию с другой, ищем в нем то, что даёт нам дальнейшее развитие, а не повторение того, что уже было прожито и реализовано ею. Мудрость жизни позволяет нам сохранять и укреплять необходимые для неё элементы и процессы. Любовь к жизни есть ничто иное как некое наше состояние, выражением которого она и является. Но само это состояние не остаётся постоянным, а изменяется, поэтому изменяется качество самой любви вследствие того, что наш жизненный опыт постоянно расширяется, уточняется и углубляется. А потому можно говорить о любви как о неком состоянии, в котором может находиться человек, а можно как о том, что присуще ему как некому разумному, мудрому существу. Если любовь есть некое состояние, то тогда мы, с необходимостью, приходим к тому, что это состояние может исчезать или же не появиться вовсе. Аналогичное мы можем утверждать и по отношению к мудрости или разуму, потому что и их можно считать также некими состояниями. Ведь мы же не всегда думаем, и на это указывает нам наше поведение, которое порой разумным назвать просто невозможно. Все это показывает нам, что любовь также как и мудрость являются ничем иным как некими нашими состояниями, которые могут появляться и проявляться, а могут не появляться и не проявляться в нас. Считая их некими состояниями, мы можем подводить под них нечто, что уже служит и является их неким определением. Вот почему и под саму жизнь мы подводим её различные атрибуты, определяя её через будущее, через воспитание, через счастье, через добро, через … и т.д. и т.п. Так мы поступаем всегда, когда определяем то, что нам неизвестно, подводя под него уже нечто известное нам. В определении мы отождествляем некое одно и некое другое, сводя их тем самым к некому единому. Так, например, определяя жизнь как время, мы отождествляем время и жизнь, получая в итоге их некое единое, которое называется временем жизни. Оказывается, что этим единым является некая простая сумма того, что мы подводим под это одно. Но можно время положить и в лоно самой жизни, тогда мы уже говорим о жизни во времени. Это указывает на то, что жизнь определяется не временем жизни, а протекает во времени, имеет свою некую протяжённость. Жизнь полагается в том случае в лоно времени. Но если время положить в лоно жизни, то тогда мы уже говорим не о времени жизни, а о самой жизни во времени. Жизнь во времени есть жизненный опыт, а время в жизни есть то время в течение, которого мы пребываем в состоянии живого. Это состояние может быть фиксировано нами, но они не может быть проанализировано разумом. Его мы и связываем с любовью. Если же оно нами не фиксируются, то тогда вызывают у нас любовь, которую мы и связываем с мудростью. Жизнь во времени есть любовь в мудрости, а время в жизни есть мудрость в любви. Оказывается, что это не одно и тоже, хотя многим может показаться, что это действительно одно и тоже. В современной науке они действительно считается тождественными. Это связано с тем, что мы под статическим неизменяющимся может понимать нечто динамическое изменяющее, а под динамическим – нечто статическое. Мы требуем от своего познания полагания некого статического в динамическое, а в динамическом некого статического, потому что в противном случае мы просто не сможем осуществить сам акт познания. Но откуда такая эклектика до сих пор так и остаётся пока неясным и невыясненным. Оказывается, что динамика может быть познана именно в самой динамике, а не в статике. Ведь если мы вводим статику, то тогда, с необходимостью, уже должны моделировать и идеализировать познаваемое, останавливая его, отрывая от генесиса его собственного развития и изменения. Именно таково и само наше познание. А потому мы часто имеем дело со статикой как с моделями и с динамикой, так с методами описания этих моделей. Оказывается, в таком подходе жизнь, мы просто не сможем познать, потому что нам придётся говорить о ней как о некой статике в лоне некой динамике, или же о динамике, но при этом считая её саму уже некой статикой. Но что такое статика жизни и чем она является? Оказывается, что статикой жизни является смерть, если мы рассматриваем её в лоне времени. В пространстве статика жизни существует в виде видимых и визуализированных объектов, которые оставили для нас предыдущие поколения. Именно поэтому мы говорим о статике жизни только на пространстве, а о её динамике только во времени. Если нет пространства и времени, то тогда разрешить апорию, возникающую в понимании статики и динамики жизни просто невозможно. Оказывается, это справедливо и по отношению к самому нашему познанию, а потому с этим мы сталкиваемся постоянно при объяснении и описании того или иного познаваемого. Жизнь не может быть положена в лоно статики, потому что в статике её просто не существует. А потому, являясь динамикой, она требует для своего познания и понимания только одной динамики. Именно и потому возникает непреодолимая сложность уже при её простом рассмотрении, не говоря о её познании и понимании. Вследствие этого и такая её многоликая определённость через другие атрибуты.
Рассматривая жизнь в старых ещё кантовских основаниях, которыми являются пространство, и время мы можем говорить о ней как о жизни в пространстве и как о жизни во времени. Помещая жизнь в пространственное – временной континуум мы можем проанализировать её как с точки зрения её пространственных форм и структур, так и с точки зрения времени их существования. Это есть некое статодинамическое описание жизни и, как оказывается, оно более правильно и точно описывает и объясняет жизнь. Но эти основания приводят нас к механическому пониманию жизни, потому что задают не изменения её форм и структур, а только связи, существующие между элементами самих этих форм и структур. В этом проявляется механичность и модальность данного подхода, с помощью которого мы пытаемся понять и объяснить уже саму жизнь. Так мы объясняем и все то, что берём в качестве познаваемого. Более того, все это связано ещё и с тем, что мы временное, изменяющееся помещаем в пространство, тем самым останавливаем его, превращая в некое статическое образование, которое затем познаем путём деления на части или некие удобные для нашего познания куски. При этом временное, изменчивое становится уже неизменным и пространственным. Это также приводит к тому, что мы снова превращаем изменчивое в некое неизменное, тем самым сводя динамику к статике. Вот почему в таком представлении динамикой является движение, которое понимается как некая простая трансляция познаваемого по самому пространству. Эта трансляция есть ничто иное как некая визуализация изменений на пространстве, точнее, отражение временного на пространстве. Поэтому мы постоянно должны пересматривать это неизменное вследствие того, что изменяются наши представления о самом этом временном. Так, например, сущее как существующее переходит в лоно бытия как того, что бывает, а потому несёт в себе некую временную суть и временной атрибут. Поэтому мы можем говорить как о сущем в бытии, так и о бытии в сущем. Это означает, что можно существовать через бывание или просто быть в существующем или же о существовании в бывании или о существовании в том, что бывает. Следовательно, быть в сущем или существовать в бытии есть не что иное, как быть в чем – то или быть чем – то. Оказывается, что быть в чем – то и быть чем – то для науки настоящего является просто одним и тем же. Но в одном случае мы говорим о предмете науки, а в другом – уже о её объекте. Аналогично, помещая в живое жизнь, мы говорим о ней как о неком предмете живого, говоря же о самой жизни мы, с необходимостью, превращаем её уже в некий объект, отождествляя её тем самым с самим живым. Тем самым мы приходим к тому же самому полаганию, которое и имели. Предметность несёт в себе некую объективность, т.к. выражает себя через формы, а потому и объектность несёт в себе некую предметность, т.к. лежит в некой определенной форме. Возводя все это в лоно универсальности, мы получаем, что, рассматривая мир с точки зрения его строения мы, с необходимостью, приходим к тому, что и каждый элемент этого его строения является уже и самим миром, несёт в себе и сам мир. Поэтому делить и мир на внешнее и внутренне просто неверно, т.к. внешнее обязательно станет неким внутренним более внешнего, а внутреннее более внутренним некого внутреннего. Недаром поэтому мир часто сравнивают с перчаткой, которую выворачивают с одной стороны на другую, в итоге при этом, как оказывается, меняется только внешняя сторона её при этом суть самой “перчатки2 не меняется. Именно эта неизменная суть привела науку в настоящее время к тому, что она просто остановилась в своём развитии. Сколько можно выворачивать перчатку, крутя внешнюю и внутреннюю её стороны при этом, не меняя самой её сути. Вот в этом колесе внешнего и внутреннего, мы и постоянно находимся, не можем выйти из него. Поэтому для познания нам необходимо изменить, а потому выявить некие новые основания его самого, а не играть в вечную шарманку с самим нашим познанием.
Беря в качестве оснований любовь и мудрость, и полагая на них жизнь, мы приходим уже к некому пониманию жизни, как со стороны мудрости, так и со стороны любви. Поэтому можно говорить о мудрой жизни и о любви к жизни. Мудрость жизни есть ничто иное как постижения жизни через жизненный опыт, а любовь к жизни есть её постижения со стороны того положительного, что создаёт у нас некие возвышенные чувства. Любовь к жизни тесно связана с сохранением и развитием жизни, а не её уничтожением и разрушением. В настоящее время вследствие того, что в качестве оснований положены некие модели и идеальные объекты, несущее в себе эти модели и объекты, а потому и отражающие на этих основаниях и несущие в себе их некую сущность, суть и смысл. Умение управлять искусственными процессами, вообще – то не означает умения управлять и естественными явлениями природы. Но наше познание идёт и на это отождествление, а потому искусственная и естественная составляющие окружающего нас мира просто отождествляются. Изменяя естественные состояния природы или же, просто имитируя её поведение, мы тем самым, не постигаем саму природу, а потому приписываем ей те качества и качествования, которые присущи и самому человеку. О новых основаниях нашего познания мы будем говорить ниже, а сейчас обратимся к тому смыслу и сути, которые несёт в себе философия.
Жизнь как некое качество живого мыслится нами в виде некого качествования, лежащего в лоне самого качества, называемого нами живым. Жизнь потому есть некое качествование, лежащее в лоно самого живого. Поэтому, о жизни мы говорим со стороны её некого качества и понимаем под ним качество самой жизни. Так, например, если мы говорим о качестве человеческой жизни, то при этом не имеем в виду качество самого живого. В лоне жизни само живое уже становится объективным, а потому и характеризуется объектами, которые называются живыми существами. Живое объективизируется, выступая в виде объектов, жизнь при этом становится уже некой предметностью, присущей всем живым объектам. О качестве жизни самого живого, мы уже просто не говорим, потому что оно имеет отношение только к человеческой жизни. И опять мы попадаем в лоно предметности и объектности. Такое положение связано с тем, что наша зрительная способность проявляет себя в том, что мы, с необходимостью, фиксируем, а фиксируя, останавливаем изучаемое для того, чтобы осуществить его сравнение с нами или же с неким другим объектом. Именно ещё такой способностью мы обладаем. Мы требуем неизменности того, что берём в качестве познаваемого, т.к. обладаем сами этим качеством неизменности. Оно проявляется в виде того, что каждый из нас имеет присущую именно и только человеческому существу форму. Проявление этой формы требует от познающего отождествления с познаваемым уже в их неком единстве, которое мы и называем формой. Отождествление не только формы, но и самой несомой нами сущности приводит к тому, что мы наделяем и само познаваемое тем, чем сами обладаем и что сами несём. Изменения, которые мы в себе наблюдаем, переносим их и на природу, тем самым, требуя и от неё этих же изменений. Все это означает, что, познавая природу, мы скорее познаем себя, стремимся к познанию своей собственной самости. В этой стремлении мы наделяем и любое познаваемое человеческими атрибутами, т.к. отрываем их от своей самости и полагаем их в пространство, в котором они становятся некими абсолютными и неизменными сущими.
Понимание жизни связанно с тем, как и в виде какой модели, мы её представляем. Под эту модель мы подводим саму жизнь. Так если мы говорим о методе описания и познания движения, то тогда помещая в это лоно жизнь, мы с необходимостью, приходим к представлению о жизни как о неком движении. Жизнь как движения, с необходимостью, несёт на себе все атрибуты самого движения. Так носителем жизни в такой модели является “человек – точка”. Поэтому жизнь как движение этой модели есть ничто иное, как её некая трансляция по пространству, отражает себя на пространстве в виде тех или иных точек событий, которым мы приписываем время и факт, а также представляют собой ещё и точки. Множество этих точек составляют движение, которое проявляет себя на пространстве в виде линии жизни, называемую нами ещё и просто самой жизнью. Откуда же возникает такое представление о жизни и почему мы её мыслим именно так? Оказывается, это связано с тем, что само человеческое познание сконцентрировалось вокруг описания и объяснения движения. Поэтому все, что может быть отождествлено с ним, мыслится именно так, как мыслится само движение. Мыслим же мы движение так потому, что смысл и суть самого движения есть ничто иное, как утверждение нашей способности видеть. С помощью этого имени мы утверждаем сам факт того, что мы можем видеть, выраженного в словах да вижу (д – виже – ние). Использование окончания и введение его есть ничто иное как снятие родо – видового атрибута имени и полагание его в неком синтезированном имени, которое не несёт в себе ни рода, ни вида. В современной филологии это есть ничто иное, как виды рода, которыми являются мужской, женский и средний род. Именно средний род есть ничто иное, как некий вид снятия или простого синтеза мужского и женского родов в неком среднем роде. Используя средний род, мы тем самым пытаемся снять конкретное, присущее человеку для того, чтобы водрузить его уже в некой всеобщей тотальности. В науке все понятия имеет и несут на себе эту нашу мыслимость, а потому их в науке существует огромное множество. Так примером таких понятий являются сущее и бытие, событие и изменение, движение и развитие и т.д. Все это говорит о том, что мы мыслим природу так же, как, мыслим и самого человека. Мы мыслим её так потому, что именно мы её мыслим, а потому и наделяем её, присущими нам атрибутами. Вот почему все, что мы познаем, мы полагаем в природу, а потому считаем и её именно таковой какой познали. Порой не отдаём себе отчёта в том, что в самом процессе познания мы используем идеализации, которые являются просто только лишь одной из сторон познаваемого. Мы познаем не саму природу вещей, а только их модели и идеальные объекты, которые к тому же несут в себе соответствующие им модели. Говоря о познании как о процессе, мы тем самым говорим о некой модели самого нашего познания, а потому, с необходимостью, идём на то, что моделируем и то, что познаем.
Наиболее явно и ярко это проявляется в современном образовании. Так если мы считаем наш мозг некой машиной для запоминания, хранения и обработки информации, то тогда и все, что мы познаем, с необходимостью, несёт на себе все эти указанные атрибуты самого нашего мышления. Современное образование стоит именно на этих атрибутах, т.к. за знания часто принимают и выдают просто нашу способность к запоминанию, а не к самому познанию. В таком полагании мозг функционирует как машина, записывая на него различную информацию и осуществляя её простое запоминание. Мы не учим детей познанию, тому, как познавать, а учим только запоминанию и воспроизведению того, что считаем якобы изученном ими. Именно это в скором будущем приведёт к тому, что современное образование просто рухнет в своей механической воспроизводимости машин – людей. В настоящее время эта тенденция уже начинает себя проявлять. Она проявляется в том, что дети не умеют, не только использовать свои знания, но и начинают понимать, что для жизни они им просто не нужны. Эта не востребованность связана с тем, что под знания стали подводит, а то и просто отождествлять с фактами, субъективными мнениями, информацией, событиями и т.д., а не учить добывать знания, конструировать их из фактов, субъективных мнений, информации, событий и т.д. Знания лишь тогда являются знаниями, если они организованны. Оказывается, что организовать их можно только в том случае если научить их методам, которыми организует свои знания та или иная конкретная наука. Мы перестали учить детей тому, как делать что- то, а стали просто загружать их информацией, к тому же ещё, отождествляя её с самими знаниями. Модель человека – машины в современном образовании на “лицо”, а отсюда и не востребованность к самим машинным знаниям.
Классическая философия кроме всего того, о чем мы уже говорили выше, с необходимостью, требует привлечения в своё лоно новых понятий и категорий. Так философия сущего строится на своих категориях и понятиях, а философия бытия – уже на своих. Различие их состоит в том, что сущее в лоне некоего нового метода познания превращается уже в бытие. Именно с точки зрения метода различаются сущее и бытие. Их различие часто связывают с их различием имён, но это вообще – то неправильно и мы это уже неоднократно показывали и объясняли. Новый метод позволяет нам объяснить и описать мир с точки зрения нового представления, в котором и по отношению, к которому он утверждает и само это новое представление о мире. Говоря о философии жизни с точки зрения классического подхода нам необходимо ввести новые категории и понятия уже философии жизни. Если мы полагаем жизнь в лоно философии тогда все философские понятия и категории уже становятся применимы и к самой жизни. Если же мы ставим жизнь выше философии и полагаем уже саму философию в лоно жизни, то тогда нам необходимо строить и выявлять новые категории и понятия философии уже по отношению к жизни. В лоне философии жизни все философские понятия, с необходимостью, должны преломится через жизнь, а потому стать живыми, динамическими понятиями и категориями, которые уже будет нести и отражать в себе именно саму жизнь. Оказывается, что таких понятий и категорий в философии просто нет, потому что её лоно есть некое лоно универсальности, а потому оно требует подведение под него того, что мы хотим изучить, объяснить и описать. Вот почему мы говорили о жизни с точки зрения философских оснований, которыми являются любовь и мудрость, как о любви к жизни и как о мудрости жизни. Но, как оказывается, что все – таки главным в построении философии жизни является отыскание некого нового метода познания, который бы позволил нам объяснить и понять жизнь как жизнь, а не как её некий заменитель, являющийся уже её некой моделью или идеальным объектом. А потому мы рассмотрим и это в соответствующем разделе нашей книги.
1.7. Смысл жизни.
Говоря о жизни, нам необходимо определить какую суть и смысл несут в себе не только понятие и имя жизнь, но и что она есть такое. Появление понятия жизнь, связано с выделением в лоне естественного живого и неживого. Точнее, это связано с неким делением материи на живую и неживую материю. Выявление структуры живого и подведение под его изучения систематики привело к тому, что в лоне самого живого, которое стали связывать с самими живыми объектами появляется некое его новое качество, называемое жизнью. Жизнь в лоне объективности живого превращается в некое качество живого, которое несут в себе живые существа. Их жизнь является уже их неким новым качеством. Так в лоне объективности появляется предметность, носителем, которого и становится жизнь. Живое становится уже как объективное, как видимое и существующее, а потому выделяется и полагается уже в виде живого вещества или же живой материи. Неразличимость живого и жизни приводит к тому, что их начинают просто отождествлять, полагая живое, обладающее жизнью и жизнь как то, что принадлежит только живой материи и живому веществу. И здесь мы обнаруживаем ничто иное, как некое отождествление нас самих, являющихся живыми существами с живыми существами самой природы. Это отождествление приводит к тому, что даже поведение живых существ мы принимаем за своё собственное поведение. Именно отсюда и именно таким образом Ч. Дарвин, вводит в биологию борьбу за существование, как главный двигатель существования живых существ. Являясь живым существом, человек также ведёт борьбу за своё существование, а потому, часто не осознавая этого проявляет свою чисто животную природу. Поэтому в таком представлении и мыслимости человек отождествляет себя с неким живым существом, имеющим с ним наибольшее сходство. То, что есть некое эмбриональное сходство верно, но то, что человек произошёл от некого прародителя, чисто земного, живого существа едва ли является правильным и верным. На этот вопрос не может ответить эволюционная теория биологической науки, т.к. берет чисто внешние изменения, происходящие с тем или иным живым существом и рассматривает его только с точки зрения его изменчивости и наследственности, которые не касаются энергетической и информационной составляющих, как самой природы, так и человека. Без них мы говорим только в внешней эволюции живой материи и живого вещества, включая сюда и их объективные составляющие, которыми являются все живые существа Земли. То, что живое принадлежит только Земле и только в её лоне может существовать означает, что Земля задаёт некие границы существования живого. В этом состоянии мы не можем существовать вне Земли, а потому ищем такое состояние, которое позволило бы нам выйти за эти границы нашего существования. Наше движение к нему привело к тому, что мы стали трансформировать жизнь в космос, создавая тем самым некие модели жизни вне состояния живого, присущего нам как земным существам. Такую трансформацию осуществил человек в рамках религии, получив тем самым универсальное человекоподобное существо, называемое Богом. Движение к этому существу и жизнь для него и ради него стало ничем иным как неким смыслом и сутью самой жизни человека, которая реализует себя в виде живой, земной материи. Сама же жизнь на Земле начинает терять всякий смысл, а потому теряет и свою суть. Это связано с тем, что движение к этой жизни возможно через множество различных путей, которые сконцентрированы в виде мировых религий. Но кроме этой трансформации жизни её помещают в лоне чисто биологической смерти, тем самым, трансформируя её уже в некое человекоподобное существо противоположное Богу. Так появляется антидвижение, как некий вид падения в оживлённую или ожившую смерть. Этим существом является Сатана или антиБог. Каждая мировая религия имеет ещё и своего антиБога или же Сатану, с которым и ведёт свою неукротимую и вечную борьбу. Обращая это представление на самого человека мы, с необходимостью, приходим к тому, что жизнь идеализируется, мистифицируется, фантазируется и т.д. для того, чтобы хоть как – то отвратить человека от его финального конца – смерти. Это связано с тем, что мы отрываем жизнь от реальности, а потому, с необходимостью, идём на её универсализацию, означающую ничто иное, как полагание в космос некого присущего нам качества, называемого жизнью. Хотя жизнь присуща всему и каждому живому существу, но положенная вне его она уже становится только некой стороной самой жизни, которую мы и называем идеей жизни, а не самой жизнью. Вот почему мы говорим, что познать жизнь можно только в её реальности, а не в идеальности. Поэтому из самой жизни мы должны выделить истинные и реальные составляющие, которые позволят нам её познавать, объяснять и описывать. Раз жизнь реальна, то отрывая её от реальности, мы познаем уже некую идеальную, не реальную жизнь или же, можно сказать, просто саму идею жизни. Вне реальности жизнь, её смысл и суть просто исчезают и часто становятся просто невостребованными. Но как только мы попадаем в лоно реальности, жизнь начинает проявлять себя в таком огромном разнообразии и многообразии, что понять её просто невозможно. Оказывается, что понять её невозможно, потому что она лежит в основе самого нашего познания, а потому, являясь его основой, может быть только ею и являться. Поэтому познавать её мы не можем, потому что для её познания нам необходимы некие новые основания, которые отражали бы в себе не только реальность, но ещё бы позволяли нам анализировать через них уже и саму жизнь.
Обращаясь к понятию жизни мы, с необходимостью, приходим к тому, что связываем её с некими атрибутами, характеризующими саму жизнь. Более того, часто их просто отождествляют ещё и с самой жизнью. Об этом мы уже говорили во введении в философию жизни. Оказывается, что под неё можно подвести любой жизненный атрибут и считать жизнью, что угодно, то, что имеет непосредственное отношение к ней или же с ней как-то связанной. Вот почему с жизнью, мы связываем другие понятия, стараясь тем самым определить её и через нечто другое. Так, если мы определяем жизнь, как движение, то тогда сама она становится просто неким видом движения живой материи. Если же мы, определяем её как изменение, то тогда и она несёт в себе изменение, а потому и определяется через это понятие. Но определяя, таким образом, понятие мы просто отождествляем его с неким другим, точнее, замещаем его этим другим, а потому и тем самым ничего нового о ней ничего сказать не можем. Сама суть и смысл понятия лежит именно в его имени. Именем жизни является сама жизнь, а потому, чтобы раскрыть его смысл и суть нам необходимо обратится к толкованию этого понятия. В науке, жизнь определяют, как некий способ существование белковых тел. Но говоря о способе мы, с необходимостью, ещё утверждаем то, что определяющим её является некая способность существования самих белковых тел. Поразительный факт! Белковые тела обладают некой способностью к своему существованию. А потому у них есть свои собственные способности. Оказывается, что такая их способность связана с тем, что её просто отождествили со способностью самого человека. Поэтому способность есть нечто иное, как отражение человеческого в определении и познании белковых тел. Разве это не говорит о том, что мы идём на отождествление некого одного с другим для того, чтобы определить это первое. Такое отождествление осуществляется и по отношению к некому другому, но в этой определённости другого происходит также ещё и наше отождествление с ним, а затем ещё и его полагание в первое. В этом случае мы как бы определяем одно через другое, но это другое отождествлено с нами и, более того, ещё и отстранено от нас. Поэтому создаётся впечатление как будто бы, мы определяем это одно через другое уже более объективно, потому что не примешиваем к нему нашу субъективность. Именно так и таким образом мы определяем признаки предмета и объекта и его отличие от других предметов и объектов. Но тот или иной признак мы выбираем сами, а потому абстрагируемся от других признаков тем самым, идеализируя в определении только то, что считаем якобы присуще одному, а потому уже не присуще некому другому. Это приводит к тому, что осуществляется деление на признаки различия и признаки сходства. По ним и на основании их, мы говорим и утверждаем о том, что поняли и познали нечто в самом познаваемом, а потому и само познаваемом. Эти признаки различия и сходства мы часто обозначаем и называем качеством самого познаваемого. Но в такой определённости мы, с необходимостью, имеем огромный элемент субъективности и объективности, как отождествление различных признаков познаваемого, хотя основу такой определённости должно составлять то или иное основание, но уж полагаемое как основа самого нашего познания. Так, например, если мы определяем движение как изменение вообще, то это означает некое отождествление видимого с изменяющимся. Именно изменяющее мы можем фиксировать с помощью зрения, а потому определяем то, что видим как то, что изменяется. Но даже если нет изменений, мы можем видеть, а потому говорим о движении именно как уже о видимом изменении. При этом определяющим движение является изменения, происходящие в самой природе. Если нет видимого изменения, то говорить о движении мы уже не можем, а потому говорим об изменениях, которые происходят с самим познаваемым. Поэтому невидимые изменения мы и полагаем как то, что составляет, определяющий топос и самого движения. Говоря о невидимых изменениях, мы, тем самым, подчёркиваем только то, что изменения всегда невидимы, а могут проявлять себя через движение. Именно по нему мы говорим об изменениях. Если есть движение, то, с необходимостью, должны происходит и некие изменения. Сами же изменения необязательно видимы. Именно так и таким образом ведёт себя природа, а не так как мы её представляем. Это означает и то, что движение является некой интенцией разума, а изменения связаны с некой интенцией чувства. Следовательно, в основу определяющего, мы полагаем чувство, а то, что определяем, с необходимостью, должно принадлежать разуму. Так определить что – то это значить подвести нечто чувственное нами под разумное и утвердить его через это чувственное. Вот именно и поэтому, познавая, мы переводим чувственное в разумное, осуществляя тем самым его визуализацию. Если же мы определим изменения как движения, то тогда в качестве основания нашего познания мы уже полагаем разум, а потому, с необходимостью, обнаруживаем, что изменения не могут быть охвачены движением, потому что тогда мы должны констатировать факт наличия в природе невидимых движений или движений, которые нам являются, а затем и исчезают. Оказывается, что если мы все – таки на это идём то, тогда все изменения должны быть сведены к движениям, которые, с необходимостью, должны быть ещё и видимыми. Объективность и визуальность движения требует объективности и визуальности самих этих изменений. Видимые изменения лежат в лоне движения, а потому мы идём на редукцию изменений, сводя их просто к движению. Разум требует ограниченности чувства и именно по отношению к нему разум выступает как ограниченный, объективный, а ещё и как некий критерий истины. Именно в этом лежит его механичность, как некая, положенная ещё Р. Декартом простота. Разум прост – материя делима, ограничена и протяжена, а потому и наделяется простотой, которой обладает уже сам разум. Это и показывает нам то, что хотим мы этого или нет, наделяем другое тем, что выявили и положили в некое первое. Материя наделена разумом, так как постигается именно им. В этом и состоит её простота и простейшая объективизация, полагаемая ещё и как некая тотальности.
Мы показали, как осуществляется определённость некого одного через другое. Оказывается, что этим другим является либо сам познаваемый, либо само познаваемое. Но познаваемое отождествляется с познаваемым, а потому несёт в себе их некое тождественное единство, которым мы наделяем определяющее, а затем ещё определяем и само определяемое. Современное познание или познание, которое утвердилось и существует, в настоящее время, есть именно объективное познание, стоящее на разуме и на его ограниченности, которую мы представили и показали выше. Объективизация и простота разума привела к тому, что мы стали объективизировать все что познавали, что привело к тому, что мы стали определять объективное через саму объективность, формальное через саму форму, движение через само движение и т.д. Все это привело к тому, что под неё стали подводить субъективность, наделяя тем самым и само познание этой субъективностью, превращая тем самым науку в некое множество или совокупность различных мнений, которые и выдаются за истинную науку. Чтобы в этом убедится достаточно взглянуть на работы современных учёных и на те проблемы, которые они якобы решают.
Все это показывает, что без выявления новых оснований, а также без построения нового метода, с помощью которого можно было бы познать уже саму природную реальность, а не модели и идеальные объекты её замещающие, т.к. мы не сможем продвинуться в нашем дальнейшем познании ни на шаг. А потому говорить о сущности, сути и смысле жизни, определяя её через некое другое, мы уже не можем, т.к. это приведёт нас к её простому отождествлению с этим другим, тем самым сама жизнь спрячется за этим новым её определяющим. Это и означает, что само понятие жизни уходит в некое лоно потаённости. Более того, возводя жизнь в лоне тотальности, мы уже имеем дело не с ней самой, а с неким идеальным, универсальным и модельным её представлением, а потому познать её также уже не сможем. Жизнь, с необходимостью, реальна. Она фатально реальна, и подойти к её познанию можно только и именно из этого лона реальности. Более того, только в самой реальности и по отношению к самой этой реальности жизнь имеет свой некий смысл.
Говоря о смысле жизни, мы часто подразумеваем под ним непосредственно самого её носителя, которым является человек. Являясь живым в неком многообразии всего земного живого, человек выделяется из него именно тем, что его жизнь имеет некий смысл. Можно ли говорить о смысле жизни самого живого, например мотылька, бабочки, жука, паука и других живых существ? На этот вопрос ответить при современном уровне познания просто невозможно и, как оказывается, это связано с тем, что жизнь есть некое качество не всего живого, а только той её формы, которая осознала себя как живое. Этой формой и является человек. Поэтому жизнь выступает как некая ценность, а не только простое качество всего живого. Эту ценность может выделить и выявить только человек, т.к. осознает её уже как некую тотальность не только по отношению к себе, но и по отношению к другим человеческим существам. Все это приводит к тому, что природа, породившая нашу Галактику, а в ней солнечную систему и планеты, одной из которых является наша Земля не может не обладать тем, чем обладает и несёт в себе человек. Более того, все это указывает на то, что человек является всего лишь некой ступенькой или неким определенным этапом в развитии и генесисе самой природы. Если оторвать его от природы, то тогда говорить о смысле жизни, а потому и о самом живом просто бессмысленно, потому что живое в этом случае становится просто некой формой существования материи. В этом случае жизнь превращается в качество существования живой материи, т.к. остальная материя по отношению к ней выступает как мёртвая материя. Оказывается, что мёртвой материи на много больше, чем живой материи и именно поэтому мы познаем и изучаем именно мёртвую, а не живую материю. Изучая мёртвую материю, мы, с необходимостью, должны приводить в это состояние саму живую материю. Это мы делаем до настоящего времени, а потому и довольно успешно в этом преуспели. Смысл живого, а потому и смысл самого человека лежит в самом лоне живого. Точнее, он лежит в том, что природа создаёт живое, которое является ничем иным как её динамикой. А потому мы можем говорить о том, что динамика природа является нам именно через многообразия форм живой материи. А потому мы не можем её не постичь и понять, т.к. сами также как и она являемся чисто динамическими существами. То, что природа отображает себя на пространстве в виде неких определенных структур, это правильно, но то, что эти структуру несут в себе динамику просто неверно и неправильно.
На пространстве природа представлена в виде статических структур, которые не несут в себе динамики. Вот почему динамику мы задаём сами, изменяя эти структуры путём различных воздействий. Эти воздействия хотя и несут в себе естественные компоненты, но проявляются на них как некие искусственные компоненты, называемые процессами. Явления отличаются от процессов тем, что протекают в естественных условиях. Сами же процессы есть уже некая искусственная имитация того или иного явления природы. Поэтому процессы всегда несут в себе элемент разрушения уже потому, что обладают некой неполнотой познанного нами явления. Более того, не учитывается и общий генесис развития самой природной реальности. Без его учёта говорить о познании самой природной реальности вообще не имеет смысла.
Мы уже говорили, что смысл и суть жизни, с необходимостью, следует из смысла и сути самого живого. Как мы показали и выявили живое, имеет смысл и суть именно в лоно природы, потому что является её основным и главным компонентом развития. Природа развивается через живое, а потому суть и смысл живого именно в развитии самого себя. В силу этого природа является саморазвивающейся, а потому имеет и свой собственный генесис. Не понимая, его мы представляем её генесис в виде коллапсирующих точек, точнее, просто в виде точек, которые являются идеальными моделями природной реальности, а потому и самой природы. В силу этого мы представляем природу не как некий генесис, а как множество точек – событий, которые соединяются и разъединяются, создавая тем самым видимые нами материальные структуры. Кроме этого, точки – события мы наделяем ещё и временем, которое имеет также точечное представление. Вне генесиса жизнь представляет собой множество точек – событий, которые образуют её. Отсюда жизнь несёт в себе некий элемент случайности, потому что представляется нам как некая череда, произошедших с нами событий. Случайность, помещённая в лоно самого нашего познания, воспроизводит себя и на каждом элементе познания. Так, например, если мы уничтожаем жизнь, то знаем, что она исчезнет, но не можем точно сказать, когда это произойдёт. Оказывается, в точечно – событийном представлении сказать об этом даже приблизительно невозможно, но в генесисе мы можем определить этот момент времени. Об этом мы будем говорить в соответствующем месте нашей книги.
Смысл жизни, как и смысл самого живого, состоит в том, что, представляя себя на пространстве в виде структур, природа наделяет их теми состояниями, которые сама имеет. Поэтому мы говорим о явлениях природы в лоне предметности, а в лоне объективности – о её состояниях, о состояниях её элементов и объектов природы, называемых ещё материальными телами или материальными структурами. Природа же существует во времени и её лоном является время. Не поняв его, мы тем самым ничего не можем сказать о ней, только разве о тех качествах, которые сами же ей и приписываем, а потому и о смысле и сути элементов её составляющих. Более того, без полного анализа и понимания её материальных, составляющих познанных и понятых нами как на уровне пространства, так и на уровне времени, мы также не можем выявить её смысл и суть. Оказывается, что это справедливо и по отношению к самой жизни, а потому обратимся к сохранению жизни, а также и к более общему сохранению своих структур и элементов уже самой природой.
1.8. Сохранение жизни.
Обращаясь к сохранению жизни, мы должны выявить его в лоне самой природы. Почему, для чего и зачем природа сохраняет, создаваемые ею структуры и элементы, а ещё является нам в виде тех или иных состояний. Это означает, что сохранение жизни связано самым тесным образом с сохранением, которые осуществляет природа, как в лоне космоса, так и в лоне Земли. Оказывается, природа, являясь порождающим началом самого мироздания, наделила им и все земное живое. Более того, это связано ещё и с тем, что, являясь порождающим началом природы, мы мыслим её именно так, а не иначе. Вот почему познающий требует от природы того, что сам в себе имеет. На этом основана философия познания, основанная на отождествлении познаваемого и познающего. Что есть в природе, то есть в человеке и что есть в человеке, то, с необходимостью, должно быть и в самой природе. Но, как показывает наше познание, в природе, которую сотворил человек, есть то, чего нет в первой природе. Поэтому он назвал её второй или искусственной природой. Сопоставляя вторую и первую природу, мы, с необходимостью, приходим к тому, что они очень разительно различаются друг от друга. Вторая природа есть не что иное, как некое искусственное образование, которое вообще не схожа с первой природой. Более того, она в основном есть не что иное, как природа простого уничтожения первой природы, её материальных структур и элементов, а не творящая, порождающая нечто новое природа. Но ведь и в первой природе мы наблюдаем разрушение и уничтожения материальных структур и элементов. Это действительно в ней происходит, но, чтобы понять различия разрушения в первой и второй природах нам необходимо их проанализировать. Первая природа обладает творением нового, и мы это наблюдаем в виде пространственных структур и явлений, которые она из них образует или же просто являет нам. Эти пространственные структуры и элементы не несут в себе динамики, являясь лишь некими её “сгустками” или просто некими этапами её генесиса. Поэтому динамика самой природы проявляется не на элементах, а на состояниях, которые эти элементы имеют и создают внутри формы своей проявленности по отношению к пространству. Динамика материального тела проявляется по отношению к другим телам не в факте его движения, а в факте его поведения по отношению к другим телам. Оказывается, что именно по движению мы и устанавливаем его поведение. Но при этом нам необходимо представить и всю природу только как движущуюся, а потому неспособной к своей собственной динамике и генесису. Отражение природы, её динамики на пространстве является ничем иным как моментов прерывности в непрерывном потоке её изменений и развития. Прерывность необходима для того, чтобы удерживать, сохранять то, что является наиболее универсальным в своём поведении по отношению к тем элементам и структурам, которые этим ещё не обладают. Вот почему, стартуя из некого начального состояния, называемого нашим рождением, мы считаем, что это состояние есть некое чистое, простое, а ещё ничем не наполненная форма, разве, что имеющая в себе ту же самую, присущую всем людям материальную структуру. В таком полагании “старт” есть не что иное, как начало жизни, наше рождение, то новое, что являет нам наша же природа, а потому и сама природа, реализовав себя в нас и через нас. Природа прячет свою динамику в структурах и строении тел, которые мы воспринимаем только как некое расположение элементов в этих их структурах, в виде строения и состава. Оказывается, что это “прятание” есть не что иное, как некая возможность дальнейшего их развития и изменения. Сами же структуры и строение несут в себе только некий момент генесиса самой природы, представленной в неком многообразии её существования. Природа сохраняет себя только для того, чтобы постоянно сохранять свою динамику, изменять и развивать её не через элементы строения и структуры, а через их постоянное изменение своего пространственного расположения. Мы же эти элементы структур и строения природы постоянно изменяем путём простого изменения их названия, а не путём выявления несомой ими сущности и смысла. Поэтому познаем природу на различных уровнях её организации, выделяем их, а затем и тотально разделяем их друг от друга. Так, например, мы делим мир на макромир и микромир или же на надсистему и подсистему, как делим время на будущее и прошлое, а пространство на большое и малое.
