Система естествознания
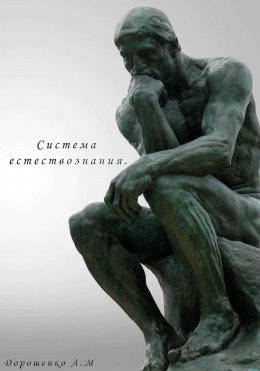
Содержание
Введение 2
Глава I. Естествознание – учение о естественном 16
1.1. Природное и естественное 16
1.2. Естественное и искусственное 32
1.3. Естествознание как система знаний о естественном 40
Глава II. Науки о естественном 51
2.1. Математика и физика 51
2.2. Химия 67
2.3. Биология 80
2.4. География 87
2.5. Экология 93
Глава III. Естествознание как система наук о естественном 109
3.1. Физика – система природы 111
3.2. Химия – наука о системе превращения вещества 132
3.3. Биология – как система живого вещества 146
3.4. Системность географии и экологии 162
3.5. Система естествознания 182
3.6. Системные законы 227
3.7. Пространственный и временной анализ системы
естествознания 262
Заключение 293
Приложение 301
Введение.
В настоящей книге мы представим общий анализ учения о естественном. В настоящее время и в современном научном мире учение о естественном просто и часто называют ещё и естествознанием. Естествознание как учение о естественном появилось на рубеже XVII – XVIII веков. Во многих работах и научных изысканиях, естествознание выступало как некое знание о естественном и представляло собой, скорее, некое учение о природе, отличающее от истинной науке о природе – физики тем, что уже включала в себя всю существующую природу, как естность, как то, что есть и существует, является к тому же ещё и видимым нам. Его также определяют ещё и как некую область знаний, отличную от искусственного, которое уже образовано нашими знаниями о том, что создано и сделано непосредственно руками человека. По отношению к искусственному, естественное является тем, что не создано руками человека, а создано уже самой природой. Это связано с тем, что область деятельности человека выделили, определили и обозначили как искусственную сферу деятельности, а знания о ней – как уже искусственные или гуманитарные знания. Выделение искусственного, привело к тому, что по отношению к нему природное и стало выступать уже как естественное и естествознание. Знания о природном в её естественности, в виде наличного бытия, стали называть естественными знаниями или просто естествознанием, в отличии, от использования этих знаний для создания различных приборов, устройств, механизмов и машин, которые образовали собой некую область искусственного, имеющего отношения только к прикладному естествознанию. Эти знания и получили названия искусственных знаний, которые стали включать в себя способы и методы изготовления различных устройств, сооружений, а также других необходимых человеку предметов, объектов и средств для его деятельности с целью удовлетворения насущных и все возрастающих потребностей. Эту сферу знаний можно было бы назвать искусствознанием, но её назвали техникой, т.к. смысл греческого слова (технэ), которая несёт в себе смысл именно искусственно созданного, изготовленного уже непосредственно самим человеком, используя природу в виде материи и полагая её ещё просто как природный материал. Из этого материала и стала создаваться как сама техника в виде неких средств, так и технологий, как способов и методов конструирования и изготовления самой техники.
Под естествознание часто подразумевают, а то и просто отождествляют его с физической наукой, вследствие чего его определяют как науку о природе. Это приводит к тому, что физическая наука и естествознание просто отождествляются или же считают тождественными. Оказывается, что их отождествление осуществляется и на более глубоком уровне понимания. Это связано с тем, что нами был совершён переход от изучения, объяснения и познания предмета познания к изучению, объяснению и познанию уже объекта познания. В качестве познаваемого стал выступать объект, а не предмет. Сами основания, составляющие естествознание, определяют простым сведением их к основаниям той или иной науки, которая изучает некий определенный круг природных сущностей и явлений, а также и самого человека. Так, например, одни считают, что в основе учения о естественном лежит физическая наука, другие – биологическая наука или же химическая наука. Современные учёные подводят под них уже и экологию. Мы ещё будем говорить о процессе подведения одних наук под другие в отдельных главах нашей книги.
Очень часто появление новых представлений, учений и даже новых наук, связано с тем, что возникает необходимость углубления, а вследствие этого разделение и дифференциация, имеющихся в них знаний. Более того, это касается и самих конкретных наук. Это разделение часто осуществляется без анализа самих оснований их такого деления, а также и их полагания как различных в ту или иную отдельную, конкретную науку. Так случилось и с естествознанием, а, в настоящее время, например, аналогичное имеет место с экологией.
В книге мы представим систему естествознания, её развитие и самый общий генесис (происхождение, возникновение, рождение, зарождение) её развития, который представим через развитие отдельных, конкретных, так называемых, сейчас, естественных наук. Затем проведём анализ и самого естествознания, используя для этого существующие основания, которыми, как хорошо известно, являются пространство и время. В конце книги, мы представим результаты анализа и объясним через них генесис некоторых конкретных природных реальностей. Кроме этого, покажем, что естествознание является системой знаний уже потому, что составляющие её элементы также являются системами. В связи с этим дадим метод анализа системы на пространстве и времени, который мы назвали пространственно – временным анализом или методом “Ключа И. Канта”.
Что касается самих методов анализа систем, то с ними можно будет подробно ознакомиться в книге автора “Метамеханика природы”. Эти методы обладают универсальной всеобщностью, позволяют строить не только системы знаний, но и другие, интересующие нас системы, а также проводит их объективный анализ, в отличие от анализа идеальных и модельных систем, которые представлены современной наукой, а потому часто носят субъективный характер, потому что основаны на видения того или иного учёного, создавшего и построившего ту или иную систему знаний о естественном или же просто некую систему. Математический аппарат, используемый при построении модельных и технических систем довольно сложен и абстрактен, поэтому не позволяет анализировать их в полной мере и объёме, особенно, если это касается познание самих природных реальностей. Но, эта проблема не есть проблема самой системы, а есть, скорее, проблема нашего представления и понимания, определения и осознания некого нового качества, которое, в настоящее время, называется системным представлением или просто учением о системах или же просто системным представлением.
Выделенная из лона познания и возведённая в ранг тотальности троичность, определила в лоне количества некое новое качество, точнее сказать, “качествование”, которое и получило название системного качества, нашедшая своё выражение в понятии система. О качествовании мы говорим только тогда, когда определяем его в рамках некого определенного количества. Элементы, образующие это “качествование” и стали называть элементами системы, а позже, их стали просто отождествлять с самими элементами системы, а то и просто считать их сами системой. Такое представление и понимание системы связано с тем, что с помощью математики невозможно было объяснить, описать и понять саму выявленную учёными троичность. В этой связи математический аппарат, используемый при описании и познании систем просто перестал работать на столь сложном объекте, которым и является система. Новый математический аппарат описания систем так, до настоящего времени, не удалось построить и создать. Вследствие чего система стала просто “качествовать” в нашем познании как некая неопределённая, а ещё и как просто неопределимая тотальность. Именно в этой связи мы не говорим об описании и познании систем, имеющих число элементов большее трех.
Заинтересованный читатель, а также учёный, найдёт в нашей книге то, что позволит ему успешно двигаться в познании уже самих природных реальностей, а не их неких представителей, носителей или заменителей, являющиеся просто их некими идеальными объектами, моделями и конструктами. В этом состоит сила, представленного в нашей книге метода, который мы назвали методом генесиса систем. Его могут применять и использовать не только учёные, но и любой из вас, кому интересна наука. Ведь, именно он позволяет познать реальный мир, а не модельный и конструктивный, искусственный мир. Более того, это позволит нам определить ещё и то, что мы о нем знаем и куда стремимся в своём познании.
Эта книга представляет собой ещё и некий анализ нашего собственного опыта познания. Но, он не есть чисто субъективное мнение автора, а есть анализ всего учения о естественном с момента его появления и перехода в новое качество, названное нами системным качество, которым и является естествознание, как учение о естественном или же просто о естестве.
В ней, мы представим анализ естественных наук, которые составляют систему естествознания. В настоящее время говорить о системе естествознания вряд ли уместно и правильно, т.к. естественные науки не организованны ещё в некоторую общую целостность, а, скорее, представляют собой множество неупорядоченных и разрозненных знаний. Такое состояние естествознания связано с тем, что естественные науки сами не являются системными, а потому не могут образовывать систему знаний, тем более, нести в себе ещё и системное качество. Поэтому нам придётся представить как само системное качество, так и те основания, которые лежат в основе и рождении, а также и в дальнейшем развитии системного качества, а потому и самой системы.
Рассматривая естественное, нам необходимо было выяснить и понять не только его отличие от искусственного, являющегося реальным и природным, но которое в свою очередь является идеальным и действительным уже в лоне самого познаваемого, а потому ещё и в лоне самого нашего познания. Само познаваемое и то, как мы его представляем и познаем, всегда находятся в неком неразделимом и нерасторжимом единстве, вследствие чего, бывает порой очень сложно выделить, а ещё и различить само познаваемое, от того, как мы осуществляем его познание. Извечно стоящий и решаемый вопрос о том, чем различается познаваемое от знаний, которые мы о нем имеем, снова всплывает перед нами с необходимой очевидностью и остротой. А потому, нам необходимо было рассмотреть и найти ответ на этот вопрос. Он возник ещё и в связи с самим естествознанием, с его определением и пониманием. Является ли естествознание просто некой “суммой” знаний о естественном, или же естествознание является наукой, в которой, с необходимостью, есть как свой собственный предмет, так ещё и объект познания, а потому и свои собственные способы и методы познания. Такая постановка вопроса уже требовала рассмотрения всех естественных наук с одной лишь целью, чтобы, быть может, в них нам удастся найти ответ на этот вопрос. Но, как оказалось, нас ожидало ещё и нечто другое. Анализ естественных наук показал, что все они страдают одним огромным недостатком, который связан с тем, что их развитие, а также ещё и само их зарождение, обязано переходу нашего познания от изучения предмета познания к изучению уже самого объекта познания. В тотальном полагании они часто приводят к тому, что та или иная естественная наука выходит за сферу решаемых ею проблем, или же просто определяется как некая новая проблема, полагаемая в основу новой науки о естественном или же определяющая некую новую сферу приложения той или иной конкретной, естественной науки. Все это приводит к тому, что естественные науки начинают размываться и расплываться, проникая в других сферы и области, а не только знаний о естественном. Такое их положение приводит к тому, что они просто перемешиваются, образуя некую смесь различных областей знаний, которую часто выдают ещё и за некий их синтез или же интеграцию, но уже в некое неопределённое или неопределимое целое. В образовании это синтез часто связывают, а ещё и определяют как некие межпредметные связи. Так и таким образом мы стремимся осуществить великий синтез всего во всем, не понимая и не осознавая к чему в этом синтезе мы должны прийти и к чему в нем ещё и стремимся, а тем более, что можем в результате его получить и создать. При таком синтезе, науки превращаются в некую смесь, которую невозможно не то, что понять, а, так сказать, даже просто “переварить”. Это, скорее, приводит к развалу самих наук, а не к их развитию. Мы просто подводим под одно познаваемое некое другое познаваемое, говоря при этом, что они есть различное, но уже находящееся в лоне некого неразличимого их единства или просто тождества. Оказывается, что само это тождество мы не устанавливаем, а просто именуем по – другому, являя миру ещё одно познаваемое, уже несущее в себе и то и другое, некое “совместное”, смешанное познаваемое, но состоящее из первоначально взятых познаваемых. Наш разум столь изощрен в своих импровизациях и утехах, что начинает искать в этом “синтезе” ещё и так называемые стыки наук, на которых всегда, и так считают многие, возникает что – то новенькое и даже гениальное. И этих стыков, в настоящее время, в науке появилось такое превеликое множество и разнообразие, что оно уже полностью превзошло даже само количество, существующих в мире самих природных реальностей. Так, например, на стыке физики и химии, была образована и образовалась новая область, которую называют физической химией. Её считают некой уже новой наукой. Но, как оказывается, её можно назвать ещё и химической физикой. Химик, наверное, назовёт её – физической химией, а физик – химической физикой, а может быть, и наоборот. Разницы ведь никакой! Но, что есть такое этот синтез и для чего он нужен и необходим нам, никто не знает и просто не ведает. Если даже и представляют его, то это выглядит так размыто и запутано, что понять ничего невозможно, потому что, как оказывается, просто и понимать – то нечего. И таких наук, в настоящее время, образовалось и существует превеликое множество. К ним относятся биохимия, математическая физика, физическая химия, физическая география, химическая физика и т.д. и т.п. То, что эти науки есть просто некая попытка синтеза, вполне очевидна из их названия, но то, что они дают нам в познании, пока так и остаётся невыясненным, а отсюда и их не востребованность самим нашим познанием. Так обстоит дело и с самим естествознанием, если говорить, что оно есть некий синтез всех естественных наук, или же их некий общий “стык”, или же просто их интеграция. Таково положение науки, а также и самих конкретных наук на современном этапе развития, независимо от того является ли она математикой, физикой, химией, этикой, эстетикой или же естествознанием, искусствознанием, культурологией, социологией и т.д. и т.п.
Не следует бродить в потёмках и искать то, что уже есть, что открыто и выявлено предыдущими поколениями. Нужно обратится к опыту самой науки, рассмотреть и понять её движение и развитие, так сказать, некий её генесис. Главным при таком рассмотрении является и остаётся вопрос о выявлении и выделении тех оснований, на которых строилась, создавалась, а затем ещё и развивалась сама наука. Без этого науки вообще нет, как нет и её конкретных видов. Поэтому нам пришлось пойти на выявления оснований в естественных науках только лишь для того, чтобы понять рождение этого общего и присущего им качества, названного естественным, а также ещё и его перехода в новое качество, которое и назвали системным качеством. Для этого мы и провели анализ всех естественных наук, включая математику, географию, а также ещё и современную новую науку – экологию.
Анализ наук позволил выявить, что внутри них есть некие две самые общие сферы, одной из которых является познание их предмета и объекта, а другой – их уже некое прикладное значение, а также, ещё и приложения знаний из них к самому социальному миру. Оказывается, что эти две сферы имеют огромные различия по отношению к знаниям. Это различие, связано с тем, что в прикладных знаниях присутствует математика, а в самих научных знаниях присутствуют только и в основном сами способы и методы познания, которые отражают в себе изучение и объяснение, и очень редко, понимание и осознания уже самого познаваемого. Такое понимание и представление знаний, привело к тому, что научные знания стали являться теми знаниями, которые мы получаем в результате только познания, а практические или прикладные знания стали теми знаниями, которые стали только использовать для создания чего – то необходимого и нужного нам, а ещё и для управления этим созданным нами. Если отождествить эти знания, то научные знания станут просто практическими знаниями и тогда различить их будет уже просто невозможно. Именно такое положение дел в науках настоящего времени. Прикладная часть знаний стала тотальной по отношению к научным знаниям, которые называют теоретическими или фундаментальными знаниями. Преобладание прикладных знаний привело к тому, что фундаментальные знания стали просто не нужны, потому что они связаны именно с рождением и с формированием самих знаний. Аналогичное можно наблюдать и внутри самих наук, а не только на их стыках, синтезе или интеграции. Так лоно самой науки распалось на два независимых направления, которыми, в настоящее время, стали являться наука и техника. Вследствие такого положения дел в самой науке, нам пришлось рассмотреть качество системности по отношению к фундаментальным, а также ещё и прикладным, техническим знаниям. Но, как оказалось, такое рассмотрение привело лишь к тому, что системность, как некое новое качество стало проявлять себя не только в теоретических, фундаментальных знаниях, но также ещё и в прикладных, технических знаниях.
В лоне системного представления, наука становится уже сама некой системой или просто системой наук, а техника – уже системой техники или просто технической системой. Рассматривая эти системы, мы пришли к тому, что как научные, так и технические системы не имеет непосредственного отношения к существующей природе, а потому и к самой природной реальности. И вот поэтому, их часто, а то и просто отождествляют. Так в системологии – учении о системах, а также, их различие определяется просто различием элементов их составляющих или же полагаемых в них самих. Их фиксация позволила выявить, что такие системы являются ещё и статическими системами, в которых нет даже простейшей, элементарной динамики, разве, что связанной с их простейшими движениями. Такие системы не отвечают реальности, являясь уже чисто искусственными и идеальными образованиями. Оказывается, что фундаментальные знания также образуют некие, но уже искусственные системы, вследствие чего, уже становятся неразличимыми с ними и по отношению к ним. Поэтому нам пришлось пойти на выявления в лоне фундаментальной науки и фундаментальных знаний реального познаваемого, которое бы соответствовало самой природе и явлениям, в ней протекающих. В рамках статических систем мы можем говорить о природных реальностях, но познать их в этом лоне мы уже не можем, потому что для этого у нас просто нет подходящего метода. Кроме того, природные реальности ещё и постоянно изменяются, являются не только динамическими – внешне – движущимися, но и динамическими внутри – эволюционными, а, точнее сказать, генесисными образованиями. Вследствие чего и возникла необходимость построения новой динамики, которую мы и назвали динамикой систем или просто системной динамикой. Но для того, чтобы её построить нам пришлось строить динамику самих систем, представляя её в виде соответствующих законов, которые получили названия законов систем или системных законов.
Системные законы позволяют построить систему в её эволюционном и уже динамическом виде. Этот её вид несёт в себе ещё и её динамику. Как, оказалось, эту динамику можно использовать и для построения любых систем. Главным в этом подходе является то, что он позволяет познавать нам уже сами природные реальности, а не их некие заменители, носители или представители, которыми являются идеальные объекты, предметы, модели, конструкты и т.д. и т.п.
В представлении о генесисе систем, нам удалось выявить различие между естественным и реальным, искусственным и действительным, техническим и модельным. Все это привело к тому, что нам также удалось построить систему естественных наук, которую мы и назвали системой естествознания. Её мы и представим в данной книги.
Кроме этого, мы представим ещё и новый метод познания, который имеет непосредственное отношение к познанию уже самих природных реальностей. При их описании и познании мы старались выявить и представить ещё и аналитику некоторых понятий, основанную не на использовании формального имени и понятии, а уже на сущности, сути и смысле, положенных в то или иное познаваемое, а ещё и в его имя. Имена несут в себе сущность, а не значение называемого объекта, которое, скорее, составляет и является его неким качеством, но может не нести в себе никакой её сущности, сути и смысла. Хотя, есть такие имена, которые не несут в себе сущности, являясь простыми терминами, т.к. несут в себе лишь видимое отличие одного от некого другого. Поэтому в самом имени могут вообще и не присутствовать. Поэтому они несут в себе только идею, и то только в предельном, абстрактом виде, а чаще, просто в форме, полностью оторванной от реальности и попросту ей не соответствующей. Мы, конечно, не строили аналитический аппарат, а только показали его применение и использование. В полной мере мы представим его в книге “ Универсальная философия”.
В рамках данной книги нам, конечно, не удалось развернуть все построенное нами на примерах анализа конкретных природных реальностей. Да, в этом и нет необходимости, т.к., полезнее будет вам самим применить его для изучения и познания какой – нибудь природной реальности, а потом насладится и самим процессом её познания. Поэтому, мы привели только общую схему и общий метод, который вы можете использовать для открытия того, что, хотя нам уже и известно, но порой так и остаётся непонятным, неясным и невыясненным в достаточной степени. На этом пути вас ждёт множество новых открытий не только в лоне самой природы, но и в лоне самого человека, а также ещё и нас самих и тех миров, в которых он проживает и которые сам же для себя создаёт и строит.
В книге, мы не стали подробно анализировать все конструктивные элементы наук о естественном, а просто выявили и выделили те основания, которые в них содержаться и лежат, а ещё сравнили их с уже существующими основаниями. В результате этого сравнения, а также их анализа нам удалось выявить, что различия, которые мы в них полагаем, являются чисто внешними, условными, преходящими, а потому и требующие своих изменений, движений, а ещё и развития. То, что они являются преходящими, привело нас к тому, что их изменение связано только с самой сменой наших представлений, в которых мы их рассматривали и полагали. Сама природная реальность пассивна к такому полаганию, а потому сама способна не только совершать движения, но ещё и изменятся, эволюционировать. Эти изменения мы и положили как основу уже нового представления, а также ещё и самого нашего познания. Она, ведь, касается, в первую очередь, самой природной реальности, а не идеальности, которая есть всего лишь продукт, к тому же, только нашего внешнего восприятия этой реальности. На этом, нам пора бы и остановится, т.к. вам самим будет более интересно разобраться в дальнейшем без наших постоянных пояснений и разъяснений.
Глава I. Естествознание как учение о естественном.
1.1. Природное и естественное.
Приступая к рассмотрению естественного невозможно, не обратится к тому, когда и в связи с чем, оно появилось, а ещё, как оно превратилось, перешло и стало ещё и естествознанием. Те или иные понятия и их появления, обусловлены и связаны с углублением и изменением наших представлений как о самом познаваемом, так и самом процессе нашего познания. Аналогично обстоит дело и с самим понятием естественное. Создание и построение простейших приборов и устройств привело к тому, что материя стала являться, а ещё и превратилась в неким материал, используемым для их конструирования и изготовления. Приборы и устройства, с необходимостью, требовали использования материи, а также и её изменений, путём создания такой её формы, которая нужна и необходима для совершения ими определенных действий или же просто совершения некоторой работы. Эти изменения связаны не с изменениями самой материи, протекающими в лоне природы, а с изменениями, которые осуществляет над материей уже сам человек. Отображение и сопоставление этих изменений с природными изменениями, привело к тому, что они стали просто не соответствовать им, а потому и стали воспроизводится или просто повторяться, имитироваться человеком. Эти изменения материи являются уже некими искусственными изменениями, т.к. связаны с непосредственным воздействием на материю самого человека. То, что не могло быть создано человеком, было названо и определено как естественное, как первородная или просто как девственная природа. Основанием для такого деления явилось то, что наука переходит из лона познания и описания предмета познания, в лоно познания и описания объекта познания. Но это связано ещё и с тем, что отношение человек – природа сменяется, а затем и просто заменяются на отношения субъект – объект. Объект и его качество, приводит к тому, что мир начинает представлять собой уже некую “естность”, в которой выражается только сам факт его наличия, как простого существования, которое отражается в слове “есть”. Все есть объект, а потому сам мир является уже неким объектом. Есть Солнце, Луна, вода, воздух и т.д. и т.п. Это объекты, выражающие собой естность, которая и составила основу рождения и появления самого понятия естественное или просто естества. Знания о естественном стали называться естественными знаниям или просто естествознанием. Само естествознание при этом стало нести в себе тотальное утверждение знаний, о том, что они есть, существуют как наличное бытие, являясь, к тому же, ещё и в некой уже видимой нам форме, а потому являются ещё и объективными. В силу того, что искусственное уже проявляло себя, но ещё не стало преобладающим, ещё и полагалось в лоно этой, всеобщей объективности.
Понятие естественного, отражало в себе все то, что могло быть переведено или же представлено в визуализированном, видимом нам виде. Так явления природы стали считать естественными явлениями, в том случае, если они могли быть представлены или предъявлены в визуальном, видимом виде или же стать просто воспроизводимыми, а потому и управляемыми уже самим человеком. Эта визуализация и управление стало осуществляться с помощью приборов, которые составили основу опыта или эксперимента, а чуть позже, опытной и экспериментальной физики. Сами знания в таком полагании, стали представлять собой то, что может быть использовано для создания той или иной естности, но уже непосредственно самим человеком. Тотальное утверждения знаний, приводит к тому, что человек создаёт из материи некую новую “естность”, используя для этого знания естественных явлений. Этой тотальностью очень скоро станет, а в настоящее время уже стала, техника.
Утверждение естественных знаний в форме естествознания, задало некое новое направления и всему нашему познанию. И действительно, дальнейшее развитие получила именно естественная компонента знаний, преобладая над искусственными знаниями. Искусственные знания составляла математика и простейшие механические и технические устройства. Это период развития науки, связывают с бурным развитием самого естествознания, в которое стали складывать и накапливать все, появляющиеся знания о естественном, составляющие в основном материю, её виды, а также процессы, с ними происходящие, но уже не саму природу. Естественное стало нести и отражать в себе некое новое качество мира, точнее сказать, новое представление о самом мире, который сам в лоне естественного стал объективным и “естным”. Есть как “естность”, утверждает тотальную абсолютность существующего в форме уже наличного бытия.
Этот период развития нашего познания, осуществлялся в направлении анализа явлений природы и первых систематизаций природных элементов, открытие новых явлений природы, которые и помещались в лоно уже естественных знаний. В силу того, что единственной наукой, изучающей естественное, а природное при этом ушло в лоно своей потаённости и потенциальности, являлась физическая наука. Она и стала основой развития и самого естествознания. Физическая наука в этом лоне становится, а затем превращается просто в физические знания, просто в знания о природе. По мере расширения и конкретизации наших знаний о естественном в лоно естествознания стало проникать не только то, что являлось нам, но ещё и то, с помощью чего можно бы было воспроизвести то или иное явление природы, в некой форме, которая полагалась существующей и в самой природе. Здесь мы имею в виду животных, растения, воду, воздух и другие природные реальности. Применять природное к понятию объекта не имеет смысла, т.к. природное означает и несёт в себе то, что находится ещё при рождении, ещё не рождённое, а потому и не перешедшее в лоно объективности, в лоно своего существования и не ставшее видимым нам. А потому к нему не может быть применено понятие “естности”, так и понятие наличного бытия. Природное в лоне “естности” становится ничем иным как реальным, тем, что несёт в себе объективность, вследствие чего и сама природа в нем становится уже материей. Поэтому природное и реальное есть ничто иное, как различные способы выражения материи в лоне предметности и объективности. Вот почему, мы говорим о природной реальности, а не о природном объекте. Мы можем говорить о реальном, а не природном объекте. Реальный объект приводит нас к тому, что знания о нем, мы получаем путём его представления в виде некого идеального объекта или модели, а потому реальное и идеальное имеет отношение только к нашему пониманию, но и представлению уже самого познаваемого.
Вследствие чего, природное и естественное отражает собой предметность и объективность самого нашего познания и в самом нашем познании. К самому объекту эти понятия не применимы, применимы же они только к самому познаваемому. Вряд ли имеет смысл говорить о природном или естественном объекте. Оказывается, что естественное порождает в своём лоне ещё и понятие искусственное, которое определяют по отношению к самой природе. Но, как оказывается, их можно определить и по отношению к любой другой, тотально положенной сущности. По отношению к природе они выступают как естественная или как искусственная природа. Одна из них является первой природой, а другая – второй природой. По отношению к знаниям мы применяем понятия естественного и искусственного, но не можем применять понятие реального и идеального, т.к. они используются для определённости уже самого объекта. Оказывается, что эти понятия часто перемешиваются, а потому, применяя их к чему угодно, мы не замечаем того, что просто используем в своей речи несовместимые и бессмысленные обороты и фразы, которые, конечно, могут иметь некий переносный смысл, но уже по отношению к своей собственной сущности, а не познаваемому. Так происходит искажения смысла, сути и сущности, а потому ведёт ещё и полному их уничтожению.
Этот первоначальный анализ приводит к тому, что со всей ясностью в естественном проявляется именно сама природа, которую помещают ещё и в рамки знаний, определяя как естествознание. Но, если ли природа в лоне естественного, а также ещё и в лоне самого естествознания? Для ответа на этот вопрос нам необходимо вернутся к истокам появления самого понятия природа. Как известно, природа составляет предмет физической науки. Эту её определённость выявил и впервые представил великий Аристотель. Поэтому, природа лежит в лоне физической науки, а потому нам придётся проанализировать её, с одной стороны, как предмет науки, а, с другой стороны, просто как некое понятие.
Предмет есть нечто предварительно – помеченное с целью определённости для осуществления самого процесса нашего познания. А потому оно есть то, что мы, как бы “схватываем”, как бы “помечаем” для осуществления самого нашего познания. Она есть ещё и некая предварительно – помеченная область. Например, это могут быть космические тела или же пространство, в котором они находятся и существуют. Эта предварительно – помещённая область несёт в себе некое качество, которое выражено в самом понятии предмета. Вот почему науки определяются своей предметностью или предметом изучения. Для физической науки этой предметностью является природа, которая есть ещё и некое качество самой предметности, названное Аристотелем природой – природное. Отождествление предметного и природного приводит к тому, что природное, помещаясь в лоно предметного, определяется в нем, как то, что мы уже изучаем и познаем. В лоне физической науки предметность раскрывается через природность, а потому предметом физической науки является и выступает именно сама природа.
Это приводит к тому, что предмет науки отождествляется с тем, что позволяет его раскрыть, объяснить, описать, а ещё и познать. В таком отождествление предмет и природа являются ничем иным как тем, что определяет себя через себя же, но при этом несёт в себе ещё и нечто другое. Вот почему мы говорим, что предметом физической науки является природа, а природа есть уже её предмет. Но, что есть эта полагаемая область предметности, которую Аристотель вкладывает и в само понятие природы. Природа есть то, что находится при – родах, ещё зарождается, не рождённая и не перешедшая в лоно своего существования, не ставшая ещё как сущность. Именно в этом проявляется главная и основная проблема, которую решает физическая наука – найти, что находится при родах, рождается, но, ещё и то, что находится и в процессе своего зарождения. Такое представление природы позволяет понять, почему физическая наука начинает своё бурное развития с изучения и объяснения явлений природы, а не “объектов” природы, осуществляя это путём отыскания того, как рождается – тепло, свет, вода, воздух, космос, электричество, магнетизм и т.д. и т.п. Но это приводит и к тому, что лоно рождения начинает трансформироваться в лоно рождения отдельных явлений природы, что впоследствии приведёт к дифференциации физической науки на отдельные сферы, области, разделы, части и элементы. Но, оставаясь в лоне тотальности явлений, она становится уже физикой явлений, хотя, их рассматривают и в лоне самой физической науки, называя просто физическими явлениями.
Познавая и объясняя что – то, мы помечаем ещё и то, что берём в качестве познаваемого, а потому ищем в нем то, что его порождает. Например, если мы выбираем и помечаем область света и говорим, что это что – то является им, то тогда в рамках физической науки, мы должны ответить на вопрос о том, как рождается свет. Аналогично обстоит дело и с тем, что мы берём в качестве познаваемого, будь то тепло, электричество, гравитация, магнетизм или же Солнце, Земля, Вселенная, космос и т.д. и т.п.
В настоящее время, мы знаем, как рождается свет, а также ещё и то, что он есть такое. Разве это не подтверждает того, что при всех своих качаниях и скачках от одного познаваемого к другому, физическая наука все – таки удерживает познаваемое в своих рамках, которыми является ничто иное как определение того, как что – то зарождается и рождается. Именно в этом проявляется её сила, а ещё и то, что сама физическая наука до сих пор пока не растворилась в самом лоне естественного и естествознания. Это подтверждают, разработанные И. Ньютоном законы движения материи и выявленная им сила, которая не только изменяет движения материи, но ещё и порождает его. После этого пояснения мы можем перейти к анализу как самого понятия естественное, так и самого естествознания.
С переходом от изучения природы – человек к изучению объекта – субъекта происходит изменения и самих наших представлений о природе. Природа при этом объективизируется, а человек – уже субъективизируется. Это приводит к тому, что природа выступает в качестве объекта, а человек – в качестве субъекта. Объективность природы приводит ещё и к тому, что вместо неё мы изучаем и познаем материю, полагаемую уже как объективная природа. Более того, полагаясь в своей тотальности, материя пренебрегает природой, переводит её в лоно потаённости и потенциальности. Поэтому материю понимают и полагают как объективную реальность. Сама природа при этом становится ничем иным уже как явлением.
Природа редуцируется в понятие материи, в виде того, что рождает, то, что способно порождать. Поэтому в её лоне, материя выступает как нечто уже рождённое и способное к самостоятельному существованию. Понятие, которое отражает в себе эту интенцию материи также редуцируется и превращается в понятие – род, рода. Это приводит к тому, что в лоне материального появляется ещё и то, что выступает в виде её некой объективности, выраженной в понятии рода. Именно таким образом осуществляется переход от рождающегося к тому, что уже явилось как рождённое, выступает как родившееся, как существующее, а потому просто как суще. Тем, что рождает, выступает уже материя. Материализация требует объективности, естного в лоне предметности, которая сама уже стала и превратилась в объективность.
Физическая наука переходит в своё новое лоно, покидая лоно рождения, становясь и выступая уже в качестве того, что рождает, а ещё и как происходит это рождение. Поэтому, первые учения, для объяснения тепла, света и т.д., связывают с материальными объектами, которыми являются Земля, Луна, Солнце и другие космические и земные сущие. Сама природа при этом становится уже материей. А сама материя при этом становится просто объектом. Это приводит к тому, что в нашем познании начинает ещё закладываться и некая специфическая, так сказать, материальная объективность, которая обуславливает выделение, а затем и наделения той или иной науки неким объектом её изучения и познания. Но, для того чтобы познавать необходим ещё и некий аппарат познания, с помощью которого можно бы было раскрыть, изучать и познать познаваемое, полагаемое в качестве того или иного объекта. Этот аппарат создаёт Р. Декарт, путём подведения под само познаваемое математики. Вследствие того, что математика имеет в своём лоне не только числа, но ещё линии и фигуры, которые в лоне самой математики представлены алгеброй и геометрией. Их и подводят под описание и изучения объектов, создавая тем самым уже некое лоно математической объективности, в которой познаваемое выступает как естественное, а не как природная реальность. Вот почему природное остаётся не “отягощённым” математикой, а естественное и естествознание уже наделяются ею. Подведение математики под материю есть не что иное, как её объективизация, которая проявляет себя и как некая естность, выражением которой является объективная реальность, а знания о ней – как уже естествознание. Все то, что не могло быть представлено как объективное, составило уже искусственное, потому что не могло быть положено в лоно математики, а являлось просто некой материализацией самих человеческих идей, желаний, потребностей, воображения и т.д. Примерами этого являются архитектура, скульптура, живопись, литература и т.д. и т.п. Оказывается, что сама математика является искусственной, созданной человеком, а потому не существующей в самой природе вещей. Остальные науки, в которых невозможно было использовать математику, назвали гуманитарными науками, подчёркивая при этом их субъективное, некое человеческое основание, в отличие от объективного, естественного, математического основания для выделения естественного, а отсюда и самого такого их разделения. Удержание субъективного, связано с появлением гуманитарных наук, которые стали отражать в себе чисто человеческую сторону самого процесса нашего познания. У нас нет возможности дать полный анализ, а также представить основания гуманитарных наук, тем более, дать необходимые разъяснения по поводу самого качества – гуманитарное, в рамках нашей книги. Укажем только на то, что анализ, который мы представим далее, может быть использован и применён к любым наукам, а потому чтобы не уходить от главной темы нашего изложения, мы не будем представлять его в рамках данной книги. Но представленный аппарат может быть успешно использован и применён для анализа гуманитарного знания, а потому и самих гуманитарных наук. Можете попробовать проделать его сами.
Введение в физическую науку понятие естности как того, что рождено и уже существует, отражённое ещё и в понятии рода, позволило представить само познаваемое в виде того или иного разнообразия его видов. Вследствие чего само познаваемое стало нести в себе уже это их некое родовое качество. Понятие же вида есть снятое качество с нашей способности видеть, зреть, которое, в первую очередь, обнаруживается и проявляется именно и посредством движения материи. Вот почему виды часто связывают с движением материи, т.к. в самом понятии движения проявляет себя наше действие, которое мы и называем нашей способностью видеть, а также ещё и некое утверждение, выраженной в понятии “вижу”. Это приводит к тому, что основу нашего объективного познания составляет движение материи, её изучение, объяснение и познание. Движение становится тем, через что проявляет себя материя, а потому является ещё и тем, что её саму и порождает. Движение стало той сущностью, которая стала объективизировать материю, но только в её внешних проявлениях. Само движение стало объективизировать через математику, а потому и с помощью математики. Так возникло количественное описания материи, в отличие, от её качественного описания и познания материи. Материя в лоне естности стала объектом естественных наук, а потому ещё и объектом уже и самого естествознания. Математика позволила объективизировать и минимизировать материю, используя для этого числа – алгебру, а также линии и фигуры – геометрию.
Выделение объектов и использование для их изучения математики, связано с появлением в лоне естествознания ещё одной науки, науки описания Земли – географии. Её связь с геометрией настолько очевидна, что не вызывает ни малейшего сомнения, потому что, в основе географии лежит именно геометрия. Землемерие – геометрия и землеописание – география различается тем, что при их описании и познании пользуется тем или иным представлением геометрических линий и фигур, выражающее и несущее в себе особенности самой нашей Земли. Это привело к тому, что в развитии нашей цивилизации наступила настоящая революция, или так называемый научный “бум”, связанный с великими научными открытиями и созданием метризованных видов земной поверхности, получивших название географических карт и глобусов. Это означало, что основу самого нашего познания стала составлять геоцентрическая система мира, центром которого и стала наша Земля. Земля и все, что с ней связано, а также и то, что на ней существует, стало составлять некое многообразие, изучаемых объектов уже самой географической науки. Рождение географической науки есть тотальное полагание объекта её изучения, в основу и самого нашего познания. Заметим, что эта наука стала определяться не тем, какую проблему она должна решать, а просто и именно самим объектом изучения. Кроме объекта изучения методом описания в ней стал метод картографии.
В книге “Метамеханика природы”, мы говорили и даже дали свои пояснения по поводу появления химической науки, а также, выявили основания, объект и метод, используемый в ней для познания своего объекта. Напомним, что в основу химической науки было положено изучения превращение вещества из одного вида в другой вид. Само же рождение химической науки связано с тем, что в лоне физической науки появляется понятие – понятие вещество, которое и приводит к рождению химической науки. С открытием молекулярного строения вещества, химическая наука стала изучать молекулярные переходы и превращения вещества уже путём изменения их молекулярной структуры, состава и строения. Хотя, сама химическая наука зарождалась на основе учения о флогистоне (флогистон – «сверхтонкая материя», «огненная субстанция»), как той тончайшей субстанции, которая участвовала и поддерживала сам процесс горения. Изучение горения, его объяснение и описание стало одной из основных задач, решаемой химической наукой, поэтому её часто связывают, а ещё и определяют как просто учение о горении. Но, в изучении горения были выявлены вещества, которые непосредственно не участвуют в самом процессе горения. Это привело к открытию первых газов и веществ, а затем выявлению их структуры в виде молекулярного и атомного строение. Вещество стало представлять собой материю, а потому и было помещено в лоно естественного, а затем, ещё и в само естествознание. Хотя назвать химическую науку естественной наукой можно только с некой долей условности, потому что, хотя, её основу и составляет вещество, но изменения его осуществляются, в основном, именно и только путём искусственного воздействия на него. Более того, как оказалось, в рамках учения о веществе, рассматриваемого с точки зрения его превращения, было выявлено и обнаружено, что оно изменяется не только путём некого внешнего воздействия, но ещё и путём эволюции или просто своей собственной жизни. Это изменение и превращения вещества оформилось в отдельную науку, которая получила название биологической науки. Так возникла и сама биологическая наука как наука о живой материи. При этом химия стала наукой о неживой материи. Переходы вещества из одного состояния в другое, а также от одной структуры к другой, привело к возникновению химии как науке о неживом веществе, а биологии как науки о живом веществе. Хотя, их часто рассматривают, полагая в лоно природы, превращая тем самым в некие уже сопричастные области и с самой физической наукой. Вследствие этого физическая наука уходит в лоно потаённости и просто потенцируется. Поэтому её и определяют как одну из наук о неживой природе. Нужно понимать, что химия и биология принадлежат лону естественного, а не природного, как принадлежит ему и сама физическая наука. В этом месте мы имеем ничто иное, как простое отождествление природы, материи и самого вещества. Вот какие поистине чудеса творятся в наших науках!
Открытия в области биологии клеточного и белкового строения вещества привело к тому, что она становится уже некой самостоятельной наукой, изучающей живую материю, тем самым, превращаясь ещё в одну из естественных наук. Изменения биологического вещества происходит не путём воздействия на него человека, а путём естественной эволюции самого живого. Но, как в физике, так в химии и биологии возникает некая новая область, связанная с практическим использованием и применением их знаний и как следствие этому и самих объектов этих наук. Именно это практическая и прикладная составляющая знаний составила то, что мы и называем теперь естествознанием. Все, полученные знания должны, с необходимостью, использоваться и иметь своё практическое, прикладное применение, и только в этом случае, знания являются для нас некой естность, а потому и объективными знаниями, также как ими являются и сами объекты нашего познания. Если же их нельзя использовать в этом русле, то тогда они нам просто не нужны, а потому их уже можно считать просто не существующими и не нужными. Но позднее, эти знания приведут к рождению техники, а затем и к их тотальности уже и в самом нашем познании. Пока же эти знания есть знания об объективности, которую мы должны и можем познавать. Эту объективность знаний и связали с самим естествознанием. Укажем, что понятие естественное имеет смысл только по отношению к искусственному без него оно просто не существует и не может быть определено. По отношению к материи это выражает ещё и некий факт её дуального представления. Но, это не есть сама материя, тем более, её дуальность (двойственность), а потому естественное и искусственное не являются противоположностями и просто не могут их составлять и определять. Вследствие этого, естествознания часто понимают и как науку о том, что не создано руками человека, а создано только самой природой. Поэтому по отношению к самим знаниям, это есть знания о том, что создано самой природой. То, что не создано ею называется идеальными знаниями, данные знания построены на математике, как на том, что даёт нам уже некое идеальное представление о самом познаваемом. Создано самим человеком, образует искусственные знания, которые позже назовут техническими знаниями, стоящие на познании идеальных объектах, моделях и математических соотношениях. Мы пока ничего не говорили об экологической науке просто потому, что рассмотрим её несколько позже.
Представленный анализ природного и естественного, которое выраженно в предметах и знаниях об этих предметах, которые мы уже полагаем в качестве объектов и самого нашего познания. Мы выявили и установили, что естествознание и физическая наука являются все – таки различными науками. Но, если мы выделим из лона физической науки только её объективную сторону, то тогда она уже превратится в естествознание. Вот почему физику часто полагают в основу естествознания, или же считают её саму естествознанием, потому что берут не саму физическую науку, а только её объективную составляющую, а также ещё и знания об этой объективности. Мы показали, что физическая наука не является наукой о познании только объективной реальности, даже в том случае, если она изучает и познает только то, что мы считаем и полагаем как объективную реальность. Именно естественное содержит в себе объективизированную материю, знания о которой и составляют то, что мы называем и понимаем ещё и как естествознание.
Естествознание и знание о естественном не могут быть отождествлены, потому что, знания, которые мы имеем о той или иной природной реальности всегда являются приближенными, неточными и которые справедливы только при тех или иных, ещё и неизменных условиях. Но, все- таки при всем том, что мы имеем в естествознании мы, с необходимостью, должны констатировать, что оно есть. Это некая первая попытка синтеза, всех имеющихся знаний о естественном, о том, что существует уже как объективная реальность и как само суще. При этом вопрос о том, как соотносятся знания о том, что мы познали с тем, что оно есть такое как природная реальность не может быть разрешён, а потому знания и то, что есть природная реальность, просто отождествляются в самом нашем познании и выступают уже как неразличимые и тождественные. Познав объект, мы считаем, что наши знания о нем являются им самим и именно таковой он является и есть на самом деле. Разрешить проблему наших знаний о природной реальности, а что есть сама как природная реальность до настоящего времени нам пока, так и не удалось.
1.2. Естественное и искусственное.
В предыдущем разделе книги, мы говорили о естественном и искусственном, и показали с чем связано их рождение и появление, а также о том, как в возможно описания и познания природы, полагаемой уже в качестве материи. В этой части мы будем говорить о естественном только по отношению к искусственному, т.к. под ним часто понимают просто само искусство или искусствознание, которое лежит в социальном, человеческом мире, а не в природном, материальном мире. Вследствие этого нам необходимо определить, что есть такое искусственное в рамках естественного.
Естественное есть то, что познаётся нами как взятое непосредственно из самой природной реальности или, как её ещё называют, первозданной, девственной природы. Искусственное это и то, что мы создаём, используя полученные знания о природе и материи, а также свою способность моделирования и конструирования из естественного, как материального, взятого уже в качестве материала. Следовательно, искусственное есть то, что создаётся нами из материи, точнее сказать, из познанной нами материи, находящейся в лоне естественного, но уже взятой в качестве своей объективности, как объекты природы. Такое её полагание привело к тому, что искусственное по отношению к естественному было определено ещё и как чисто техническое, позже превратившееся просто в технику. Ещё у греков искусственное и искусство обозначалось понятием - (технэ, означающей искусство, как универсальное познание и его практическое использование), которым мы стали обозначать объекты самой техники, являющиеся уже некими искусственными объектами, созданные руками человека.
В основе естественного лежит материя, понимаемая уже как объективная реальность. Вследствие чего знания о ней считают также естественными знаниями. В основе конструирования простейших механизмов и технических устройств в лоне естественного лежат наши чувственные восприятия или ощущениях, на которых и с помощью которых, мы объективируем то, что берём в качестве конструктивных элементов для создания искусственной природы. Ими являются сами природные реальности или же их некие части. Примерами, этого могут являться простейшие устройства для измерения температуры, времени, электрического тока, силы света и т.д. и т.п. Наша способность ощущения тепла привела к построению прибора, способного его визуализировать. Этим устройством и стал термометр, определяющий меру количества тепла, которым выступает температура человеческого тела. Ощущение периодичности и повторяемости явлений природы – в прибор для её измерения – часы; давления атмосферы – в барометр; давления газа – в манометр и т.д. и т.п. Первые приборы стали теми средствами, которые стали переводить наши чувственные ощущения в визуальные показания приборов. В основу их моделирования и конструирования, кроме знаний о естественном, была положена ещё и сама материя, но уже в виде материала. Таким образом, в основе конструирования лежит сама материя, служащая неким материалом для изготовления элементов конструкций или же тех или иных устройств, приборов и машин. Форма этих конструкций кардинально отличается от природных форм, хотя и является схожей с ними. Различие же их связано с тем, что при их конструировании используются геометрические формы и линии – математику. Через построения устройств и приборов была осуществлена “негация” (отрицание) материи, вследствие чего, она стала выступать как мёртвая материя, как материал конструирования. Такая возможность появилась вследствие того, что актуализировалось движения материи, а не она сама. Через движения её фиксируется и определяется, что происходит и с самой материей. Но, если материя совершает свои собственные движения, которые невозможно использовать, то тогда мы идём на то, что начинаем через неё воспроизводить и создавать, то или иное, имитирующее её движение устройство, прибор или машину. Это воспроизводство движения материи в самом простейшем случае есть её трансляция, как простое перемещение в пространстве.
Дальнейшее развитие техники связано с тем, что в лоне движения выделятся проблема, связанная с увеличения скорости движения тел. А это уже означало то, что от простейших приборов и устройств, начинает совершаться переход к устройствам и приборам, которые способны не только сами создавать движение, но ещё и способные увеличивать скорость своего движения. Этими устройствами становятся тепловая и электрическая машины, а затем и сама материя, которой является вода, воздух, света и т.д., под действием которых и создаётся тот или иной вид движения. Использование математики и её дальнейшая формализация по отношению к материи и движению приводит к тому, что использования устройств и машин выводит нас за рамки самого процесса познания вследствие того, что они сами становятся уже некими элементами нашего познания, а потому способствуют его развитию. Позднее они сами начинают составлять ещё и некую всеобщую тотальность самого нашего познания.
Мы развиваем и усовершенствуем машины и устройства, создаём на их базе новые их виды, которые выступают для нас в такой же объективной и естественной форме, как выступает и сама материя. Но эта материя уже является неким искусственным материалом, из которого создаётся нечто, путём моделирования и конструирования, да ещё и с обязательным использованием математики. Именно поэтому, мы говорим о такой материи как об идеальной и несоответствующей самой природе. Вот почему идеальную материю мы помещаем в лоно естественного, т.к. в этом лоне материя выступает только в своих количественных, а не качественных атрибутах. В лоне количества, вообще – то мы должны говорить о качествовании, а не о качестве той или иной природной реальности. Количественные атрибуты обязательно, а ещё и, с необходимостью, несут в себе математику.
В рамках естествознания сама техника начинает, переходит на некий новый уровень своего развития, который связан с замещением познания человека результатами, которые даёт машина или же то или иное техническое устройство. Человек, создавая технику, становится на путь своей собственной “негации”, т.к. полагает свой чувственный, а затем и разумный мир в лоно машины, как элемента техники. Вот почему, в настоящее время, мы имеем не только чувственные, но ещё и разумные машины. Начиная с конструирования устройств, основанных на отождествлении внешнего человеческого с внешним материальным, мы пришли к отождествлению внутреннего, человеческого с внешним машинным, техническим и механическим. Такова эволюция нашего познания, связанная с “негацией” и самого познающего в самом процессе познания. Говоря о негации, мы, с необходимостью, должны отличать её от абстрагирования. Абстрагирование есть простое отбрасывание того, что является не основным, не главным в поведении той или иной природной реальности. Негация же есть растворение одного в другом, т.к. в поведении природной реальности можно проявиться, а то и просто стать на первый план то, что мы отбрасывали и не учитывали.
В рамках естественного негируется природное, а потому, негируется и сама физическая наука. Эта негация физической науки приводит к тому, что она появляется в лоне искусственного в виде техники, становясь при этом сама этой техникой. Именно поэтому, у многих учёных существует такое чисто техническое представление о физической науке. Если мы пройдём этот путь в обратном направлении то, легко обнаружим, что физика и техника в рамках естественного все – таки остаются различными и вообще – то не являются тождественными. Физика изучает природу, а также то, как что – то рождается. Техника же есть имитация материи, а не природы, некая математизация, называемая нами просто материализацией, осуществляемой с целью создания различных устройств и машин. Идеальная “природа” есть техника, а потому её и называют второй природой. Это имеет отношение не только к физической науке, но и к другим естественным наукам.
В настоящее время, многие говорят о том, что контролировать развитие техники невозможно, как будто мы умеем контролировать природу. Оказывается, что технику как раз мы можем контролировать уже потому, что этот мир есть идеальный мир, созданный нами, а потому, как не нам его контролировать, развивать, изменять и даже направлять его развитие. Если же мы сами не хотим этого делать, то это вовсе не означает, что технический мир не может быть упорядочен и стать подконтрольным человеку. Такое представление связано, скорее с тем, что мы развивает те или иные устройства и машины не в лоне понимания их генесиса развития, а в лоне их стихийного и неудержимого развития. А потому эта стихийность создаёт как бы кажущуюся невозможность управления и контроля самого мира техники.
В книге автора “Метамеханика природы”, представлена динамика развития технических систем, а также общие законы её построения и общий генесис её развития. Поэтому, мы не будем повторять то, что уже сделано, а укажем только на то, что динамика системы техники ведёт нас к тому, что новое, выявленное нами качество познания, приведёт нас к информационной технике, вершиной которой станет “механический” или же “технический” человек. Воздействие на природу такого технического “существа” будет именно таким, какое на неё оказывает и современный человек.
В рамках естественного, искусственное ограничивается его рамками, но в рамках искусственного, естественное также является ограниченным. Если, мы не делаем такого ограничения в рамках естественного, то тогда искусственное становится просто неограниченным. Под ним в этом случае можно понимать не только технику, но и все искусство. Именно для выявления и определения искусственного как некого технического, мы и полагаем его в лоно естественного, точнее сказать, мы именно так его опредмечиваем, осуществляя это путём выделения области, в которой оно непосредственно находится и лежит. В анализе это есть необходимый этап, т.к. в противном случае, мы просто не сможем понять, о чем именно идёт речь. Естественное и искусственное тогда просто растворятся друг в друге. В физической науке, а тем более, в физической литературе с таким “растворением” мы сталкиваемся постоянно и повсеместно, вследствие чего порой бывает невозможно понять, о чем говорит или пишет тот или иной автор. Чтобы убедится в этом, достаточно взять любую литературу по физике и прочитать, о чем ведёт в ней речь тот или иной автор. Мы вам рекомендую проделать это, и убедится самим.
Мы коснулись этого в связи с тем, что почти все науки, в том числе и естественные, а потому и само естествознание, определяются либо через то, что они познают, либо через некую другую область, по отношению к которой их рассматривают или же просто полагают. Это позволяет снять субъективность в нашем познании и даёт возможность варьировать различными представлениями, идеями и мнениями о познаваемом. Удержание предмета, объекта или области изучения, позволяет выявить составляющие, лежащие в этом предмете, объекте, а потому и положить их в само наше познание.
Мы рассмотрели только естественное и искусственное и только в лоне материальности, в лоне тотальной объективности, телесности и протяжённости. Искусственное, в таком полагании выступает как техническое, как сотворённое руками человека с использованием разума, но выраженное уже в виде неких имитаторов, которыми являются материальные структуры, механизмы, приборы и машины. Основу этого вида искусственного составляет наша способность пользоваться знаковыми и математическими формами. А потому дальнейшее развитие искусственного приводит к тому, что оно заменяется понятием техническое, или просто понятием техники, подчёркивая при этом тот факт, что в её основе лежит именно математика. Общее понятие искусственного редуцируется в понятие техники, потому что кроме неё, выделяется ещё одна сфера деятельности человека, так называемое чистое искусство, составляющие гуманитарные науки. Техника и технические науки определяют рамки самого искусства, которое составляют уже гуманитарные науки. Это приводит к тому, что искусственное делится на техническое и гуманитарное, основу которого составляют знаковые и образные представления самого познаваемого. Их различие связано ещё и с тем, что в лоно гуманитарных наук, в само искусство не проникает математика, а потому познавать его, используя математику, мы просто не можем. Гуманитарные науки, поэтому и не формализованы математикой, в отличие, от технических наук. Но, так как мы говорим о естественном, то анализ гуманитарных наук по отношению к техническим мы представлять не будем. Выше мы только указали различие их оснований. Поэтому искусственное в лоне естественного есть уже техническое, или просто то, что мы называем техникой.
1.3. Естествознание как система знаний о естественном.
Мы уже говорили, что зарождение естествознания связано с переходом от изучения и познания отношений природа – человек к изучению и познанию отношений объект – субъект. На первых этапах своего развития естествознание включало в себя все знания, полученные в результате познания природы, а затем ещё и всего того, что было открыто и изучено к настоящему моменту времени, уже к началу третьего тысячелетия. Все это указывает на то, что естествознание постоянно развивается и пополняется новыми знаниями. Вследствие чего в настоящее время снова появилась тенденция к возрождению естествознания. Но, как оказалось, нового импульса к его развитию она так и не дала вследствие того, что наши знания постоянно развиваются, дополняются и изменяются. Мы же просто зафиксировали момент появления учения о естественном и самого естествознания, чтобы по отношении к нему говорить о неком новом этапе или периоде его развития.
В современных работах по естествознанию появляется тенденция его рассмотрения именно из лона отдельной и конкретной взятой нами естественной науки. Кроме такого подхода и представления о естествознании существует подход, связанный с тем, что под ним уже понимают все существующие естественные науки, к которым относятся: физика, химия, биология, астрономия, география, а также, и другие науки, выделенные из их лона и полученные путём их простого перемешивания, или же, так называемого взаимного проникновения друг в друга, которое называют их интеграцией. Отметим, что эти подходы к самому синтезу наук не имеют никакого отношения. Мы говорим именно о смешении наук, а потому как о их некой совокупности, потому что синтез наук не есть их простое и чисто внешнее объединение, тем более, некое их соединение только потому, что они имеют некоторые сходные, общие элементы и объекты изучения, а ещё и схожие способы и методы познания. Такой подход к естествознанию и к естественным наукам показывает, что у нас просто нет метода с помощью, которого, можно было бы создавать различные системы знаний, отражающие и несущие в себе уже и саму системность естественных наук. Поэтому, в настоящее время, естественные знания и естественные науки представлены в виде некого набора фактов, отдельных теорий, положений, законов, характеристик, величин и т.д. и т.п. Многие авторы и учёные называют этот набор фактов просто информацией, не давая себе отчёта в том, что такое есть сама информация, не говоря уже о том, чтобы найти и выяснить, что породило и откуда появилось и взялось само понятие информации, тем более, выявить и определить основания, на которых родилось и покоится уже само понятие – информация.
Хорошо известно, а ещё и неоднократно осуществлялось в истории самого нашего познания то, что только построение и разработка соответствующего метода познания может упорядочить информацию, факты и события, а также превратить их ещё и в знания. Оказывается, что качество, которое мы называем информационным, несёт в себе ещё и нечто другое. В настоящее время, информацию понимают именно таким образом, как множество фактов, событий и т.д. Раньше мы говорили о разрозненных знаниях, а теперь говорим о знаниях как об информации, подразумевая под этим только то, что они есть и являются сами некой информацией. Ранее мы говорили о неком множестве или же просто о количестве знаний, а сейчас уже говорим о количестве информации. Такое представления о знаниях, а месте с ним и о самом нашем познании привело к тому, что снова стала проявляться тенденция к их организации и упорядочению, но уже в лоне некой общей для них предметности, которой, по всей видимости, и может выступить система естествознания. Вот почему мы возвращаемся к естествознанию. Ведь, и во время его зарождения происходило нечто сходное со знаниями, имеющимися на то время в арсенале человеческого познания. Они породили не только понятие естественного, но ещё и само естествознание. Но эти периоды различаются тем, что, в одном случае, естественные знания развивались очень бурно и быстро, а, в другом случае, имеющем своё непосредственное отношение именно к настоящему периоду времени, имеют и несут в себе некую обратную тенденцию, которая связано с полной остановкой и деградацией естественных знаний, а отсюда и самого естествознания. Поэтому, с одной стороны, появление естествознания связано с развитием нашего познания природы и перехода его к познанию материи, а, с другой стороны, с его полным упадком и хаосом. Именно на этом “упадке” мы и хотим возродить естествознание, но уже как некую систему знаний о естественном и как систему естествознания.
Самым примечательным в момент зарождения естествознания являлось то, что в самом нашем познании начинают зарождаться и появляться новые методы анализа и синтеза, познанного нами. Это так называемые систематики и классификации. Эти способы и методы касались не самих наук, а только знаний, которые стали выделяться в некие группы, классы, множества, рода, виды и т.д. и т.п. Все это привело к тому, что науки стали терять, присущую им предметность и объективность, а потому и попросту стали смешиваться и перемешиваться друг с другом. На самом деле, происходила ещё и некая их сборка, но имеющая отношение уже к самим природным реальностям, что и привело к появлению систематик растений и животных – в биологии, металлов и соединений – в химии, планет – в физике и астрономии и т.д. и т.п. Они – то и зародили идею системности ещё и самих знаний. Эту идею в некой уже в некой тотальной всеобщности стало нести в себе ещё и естествознание. Но встроилась, а также с помощью какого метода осуществлялось их создание и построение. Хотя, в систематиках уже стало проявляться и появляться то, на чем или же на каком объекте познания она осуществлялась и строилась.
Основу систематики стали составлять родовидовые отличия одного познаваемого от другого, а также ещё и некой группы, класса, совокупности и т.д. и т.п. вплоть до составляющих её элементов. Но родовидовое отличие не является методом, а есть, скорее, некий способ, описания и познания той или иной систематики. Это есть всего лишь некий способ, с помощью которого можно было выявить некие сходства и различия того, что нами познаётся, но не того, как и на чем строится сама та или иная систематика. Способ позволяет только выявить и выделить в лоне естественного, те области, которые мы можем назвать просто различными или же сходными. Оказывается, что эти различия связывают с той или иной конкретной или же частной наукой. Так науки наделяются некими новыми предметными областями, хотя, часто, просто остаются в лоне своей предметности или же некой объектной определённости. Но это все – таки приводит ещё и к тому, что они начинают просто смешиваться, расширятся, образуя некие новые области знаний, которые начинают не только отражать, но ещё и выражать эту их смесь или совокупность. Так, например, возникает физическая химия и химическая физика, квантовая химия, биохимия, биогеохимия и т.д. и т.п. Так и таким же самым образом рождается и современная экология. Дальнейшее развитие этих областей знаний о естественном, привело к тому, что в химической науке был выявлен объект изучения, которым стал являться химический элемент. Используя этот объект Д. И. Менделеев создаёт и строит систематику химических элементов, называемую, в настоящее время, периодической таблицей химических элементов или просто таблицей Д. И. Менделеева, а порой и просто периодическим законом Д. И. Менделеева. В биологической науке, как оказалось, дела обстояли несколько иначе. Первые систематики К. Линнея касались только отдельных, конкретных видов живого. Вследствие чего сама биологическая наука переходит от создания и построения систематик к изучению уже составляющих её элементов, которыми стали являться: клетки, хромосомы, белки, гены и другие структурные элементы живого. Поиск некой самой общей систематики биологии привёл к тому, что возникла необходимость отыскания и самого простейшего элемента живого, который бы позволил создать похожую систематику, какую имела химическая наука. Все неудавшиеся попытки создания такой систематики в биологии привели к тому, что она стала вырабатывать уже свои собственные методы и способы познания живого и живой материи. Поэтому выявления отличий живого вещества от неживого и составило основную, решаемую ей проблему на многие десятки и даже сотни лет.
Выявления элементарного “живого”, которое могло бы стать объектом изучения биологической науки, до настоящего времени, так и не произошло. Оказалось, что живое не сводимо к некому универсальному простому, тем более, простейшему, которое имеют в своём лоне физическая и химическая науки. Биология как наука возникла из лона предметности, которая несла в себе ещё и новое качество самой материи – живое, выраженное ещё и в новом понятии называемого – жизнь. Понятием этого качества в лоне количества, и как некой меры стала выражать собой именно понятие жизнь. Но сама жизнь не была положена простым элементом живого, а потому биология так и остаётся по сей день без объекта своего изучения и познания. Это, конечно, не означает, что в биологической науке нет объектов изучения и познания. Они есть, но жизнь не является её объектом, хотя и существуют её объективные носители, называемые живыми организмами. Появление в лоне самой материи некой дифференциации приводит к тому, что материя начинает подразделяться на живую и неживую материю, что в свою очередь и приводит к появлению биологической и химической наук. Такое деление возникло и по отношению к самой биологии, и даже ещё и в самой биологической науке. Вне её рамок понятие живой и неживой материи вообще не существует, его и просто нет. Если использовать тотальное полагания вещества то, тогда можно говорить о физическом, химическом и биологическом веществе, но уже как о том, из чего состоит и вся существующая материя. Но говоря о живом и неживом веществе, мы, с необходимостью, придём к отождествлению уже самих физической и химической наук вследствие того, что они обе являются науками о неживой материи и веществе. Это приводит к тому, что естественные науки начинают чисто условно делиться на науки о живой и неживой природе, о живой и неживой материи, а также о живом и неживом веществе.
Что касается географии, то, о ней мы можем сказать только то, что её лоном изучения и познания является сама наша Земля. Поэтому географическая наука концентрирует в себе все знания о Земле, независимо от того являются они физическими, химическими, биологическими или же социальными знаниями. Объектом географии становится и является сама Земля, а её предметность, до настоящего времени, так и остаётся не выявленной, а потому и неопределённой. Вследствие этого она всегда готова принять в своё лоно все существующее на Земле, а потому и все знания о ней. Чтобы убедится в этом достаточно взглянуть на составляющие её элементы. В этом легко убедиться и самим, полистав книги по географии. В ней есть все, а потому, она и сама есть все. Движение географической науки в направлении систематики привело к появлению способа её познания, которыми стали является карты и картография, как способы описания и представления Земли, через знаки и символы, представляющие собой, существующие на ней объекты. Именно картография является основным способом систематики объектов географической науки. Но, имея свою систематику, география, как и другие естественные науки также не имеет своей системности, а потому не является системой знаний о естественном. Оказывается, что только упорядоченность знаний о естественном может привести к построению как самой системы естествознания, так и составляющий эту систему “элементов”. Но это возможно осуществить лишь в том случае, если системами являются сами естественные науки, или как мы их назвали выше “элементы” системы.
Весь небольшой, представленный нами анализ естественного, показал, что в рамках этого качества был выявлен ещё и некий новый подход в его изучении и познании. Этим подходом является систематика, как некий способ сборки изученных нами объектов. Но, как оказалось, систематика есть лишь преддверие к учению о системах. Само понятие системы появляется лишь в настоящее время, но и оно не приводит к существенным изменениям самого нашего познания, а потому и самого качества нашего познания. Это связано с тем, что понятие системы строится на основе чисто механических моделей, вследствие чего сама система в таком представлении является также чисто механической системой, не имеющей к тому же своей собственной динамики. А потому это есть некое статическое представление системы. Сама же природа нам показывает, что таких систем в ней просто нет, и не существует. В самом понятии системность скрыто понятие повторяемости, возвращения к исходному, а потому, ещё и некий путь движения к исходному, изначальному. Система требует этой повторяемости не как простого возврата назад, а как циклической повторяемости, которая несёт в себе некий генесис, как развитие в будущее. А потому само построение системы невозможно вне рамок этого выявленного нами динамического основания. Система может существовать только в развитии и изменении, а не в простой трансляции по пространству, под которым мы подразумеваем самые простейшие движения, которым является механическое движение. Понятие движения как некой трансляции в пространстве к ней вообще не применимо, т.к. система несёт в себе только предметность, а не объективность. Поэтому мы не можем описывать её чисто математически, наделяя её при этом ещё теми или иными математическими характеристиками или атрибутами. Система несёт в себе уже некую организованность и упорядоченность объектов познания, а ещё и некую сферу выделенных элементом, которые её и образуют. Но, кроме это ещё и сами знания об этих выделенных элементах. А раз это так, то, система есть некое организованное целое и рассматривать его как некое простое или сложное движение мы не можем и просто не имеем права. Более того, изучение и познание материи, а также её видов привело к тому, что нам удалось выявить структуру и строение материи, в силу чего мы не имеем права рассматривать движение этой структуры, или же её строение с точки зрения некой её системной целостности, т.к. в этом случае способы описания тел и системы из них образованной будут просто тождественными, а потому различить их мы уже просто не сможем. Именно это мы имеем при описании систем, подводя под её объяснение простейшее движение элементов её составляющих. Такое описание элементов, образующих систему ничем, не отличается от описания движения тел, которые в лоне системы являются уже просто её элементами. Вот почему современная системология, так и не смогла справиться с проблемой описания движения, как самой системы, так и составляющих её элементов. Ведь, их число больше двух, а у нас есть метод описания и познания только двух элементов. Именно здесь во всей своей неповторимости и, с необходимостью, снова всплывает и встаёт проблема описания трех тел. А потому нам пришлось решать и эту проблему. В силу того, что любое познаваемое имеет свою структуру и строение оно уже само является некой системой. Вследствие этого нам пришлось изменить само наше представление о системе. И, как оказалось, системой может является, а, точнее сказать, является любая природная реальность. Именно такое представление о системе позволило нам прийти не только к пониманию системного качества познаваемого, но ещё построить и динамику самих систем. По отношению естественному, а потому и к самому естествознанию мы развернём эту логику систем, а также, самого качества называемого системным, но не самого познаваемого, а уже самой природной реальности.
Глава II. Науки о естественном.
2.1. Математика и физика.
Говоря о естественном и самом естествознании, мы не можем не говорить о математике, потому что именно в учении о естественном и самом естествознании, математические способы и методы играют основную и ведущую роль. Более того, развитие физической науки потребовало использования не только, уже имеющегося на то время математического аппарата, но ещё разработки и создания некого нового математического аппарата, способного объяснить и описать новые, вновь открываемые нами явления природы.
До появления естествознания, математика существовала в двух видах. Первым, из которых, является алгебра как учение о числах и действия над ними, а вторым – геометрия как учение о фигурах, линиях и формах. До Р. Декарта математику почти не использовали в физической науке, кроме разве, при строительстве сооружений и зданий, а также создании простейших механизмов. Но такого широкого применения, которое она имеет в настоящее время она ещё не получила.
Использование математики при описании движения тел, а также для объяснения их рождения и изменения в применении к простейшим механическим приспособлениям и устройствам, привело к математизации и самого движения, выявления в нем его самого простейшего вида, который назвали механической формой движения материи. Выявление и определение Р. Декартом телесной формы существования материи, привело к её выражению через понятия протяжённости и делимости, вследствие чего материя стала нести на себе эти, выделенные им атрибуты и характерные черты. Так в лоне телесной материи, основной и главной количественной характеристикой стала являться масса тела. Соединение идеи телесности и движения привело к тому, что движение телесной материи можно было описать и понять путём наделения самого движения некими количественными атрибутами, как ею наделили материю и сами тела. Это привело к возникновению и двух направлений в изучения и познании самого движения. Первое направление, связано с описанием и познанием самого движения, а второе – с описание и познанием движения материальной телесности, или того, что мы сейчас называем уже просто телом. Движение было положено ещё и как некое новое основание для описания телесной материи, поэтому стало рассматриваться уже в лоне самой этой телесности, что привело не только к появлению и выделению родов и видов материи, но ещё и к появлению соответствующих им родов и видов движения. Идею движения материи, развил в своих работах И. Ньютон, основной и главной из которых, стала его работа “ Математические основания натуральной философии”. В ней он вводит в физическую науку математический аппарат, который представляет в ней, как один из путей введения и определения количественных мер материи и самого движения, как движущейся материи. Они и стали являться основными количественными характеристиками как самой материи, так и её движения, а потому стали ещё выражать её уже и в форме движущейся материи. Это означало ничто иное, как подведение под описание и познания материи и движения математики, в виде алгебры, так и в виде геометрии.
В описании и объяснении движения, впервые математические соотношения между величинами его характеризующими, выявил и представил Г. Галилей, исследуя поведения тел при их падении на поверхность Земли. Для фиксации и определения времени он использовал свой собственный пульс. И. Ньютон уже использует при описании движения понятие импульса (не пульса). Если Г. Галилей использует при описании движения отождествление природного и человеческого, то И. Ньютон уже использует отождествление самой материи с её движением, тем самым, отождествляя различное, принадлежащее именно и только самой материи. Поэтому И. Ньютон называет её просто натурой. Материя для И. Ньютона выступает и является натурой, а движение – уже как её внешнее проявление в пространстве и времени.
Время выражает и отражает собой нечто периодическое, которое полагается, а потому ещё и составляет некую основу для его измерения, с целью определения, присущих ему характеристик, признаков, атрибутов и т.д. Отсюда следует, что время есть просто некая идея периодического, изменяющегося в природе, а потому и в самой материи. Вследствие этого время в статике просто не существует и его там просто нет. В статическом полагании оно есть просто множество мгновений, которые визуализируются с помощью пространственных точек. Такое представление времени, приводит к тому, что его можно измерить, положив в лоно протяжённости, вследствие чего время в таком полагании уже само становится протяжённым, а ещё и ограниченным. Этим же качеством обладает и пространство. Протяжённость времени начинает отражать и нести в себе свойство протяжённости уже и самой материи.
При описании и объяснении движения И. Ньютон вводит понятие скорости движения тел. Для её введения необходимо было определить количественную меру ещё и самой материи. Вследствие того, что материя и тела протяжены, а также ещё и совершают присущие им движения, необходимо было разработать математический аппарат изучения и описания уже самого их движения. Так как материя к тому времени уже имела свою количественную характеристику, которой являлась масса, несущая в себе ещё и качество материальности, необходимо было ввести ещё одну характеристику, которая бы являлась некой количественной характеристикой уже самого движения. Все это приводит к тому, что возникает возможность отрыва движения от материи и рассмотрение движения не путём деления на части, как в случае описания и изучения материи, а путём подведения под неё некого нового математического аппарата, позволяющей описать движение материи в её уже протяжённой форме, а потому и в форме тела.
В основу построения нового математического аппарата И. Ньютон полагает пространство и время. Материя в таком представлении начинает играть роль некого визуализатора движения, выступать в нем как некая неизменная и неделимая, но уже и как минимизированная субстанция, к тому же ещё и геометризованная в точку. Именно это позволило И. Ньютону рассматривать движение только по отношению к пространству, отождествив его ещё и со временем, путём введения понятия “флюксии”. Позднее “флюксия” И. Ньютона превратится в понятие корпускулы. В. Лейбниц вводит в отличие от И. Ньютона понятие бесконечно – малой величины, которая на пространстве является ничем иным как отражением его философской “монады”. Все это привело к тому, что материя, тело, движения, пространство и время стали тождественными в этой точечной геометризации, которую использовали при введении основной характеристики движения – скорости. В точке все эти понятия просто являются тождественными и равных мерах, различаются разве, что только своей размерностью, как единицами измерения. Устремление к точечности или к точке задаёт нам то, что мы понимаем как движение, т.к. в точке вообще – то нет движения, как нет в ней и самого времени. Отсюда следует, что мы можем наделить точку уже любыми атрибутами и количественными характеристиками. В настоящее время мы имеем именно такую точку, которая имеет и несёт на себе множество количественных, а ещё и материальных атрибутов. Оказывается, что по отношению к тому или иному качеству, точка проявляет себя то, как масса, то, как заряд, то, как квант, то материальная точка, а то и просто – частица, корпускула и т.д. и т.п. Точка стала минимизированной, материализованной носительницей всего того, что на неё полагается, а также ещё и всего того, что может быть в неё ещё дополнительно положено. Точечная мера есть некая единичная мера того или иного материального объекта, выраженного и несущего в себе некий количественный, да, ещё и материализованный атрибут. Такое представление движения привело к тому, что материю уже можно было наделить числом, т.к. в своей индивидуальности точка выступает и как носительница единичной меры. Отождествление точки и числа привело к тому, что точка стала отождествляться, просто соответствовать неким событиям, а то и просто в него превратилась и стала нести в себе не только пространственную, но ещё и временную интенции. Более того, она соединила в себе ещё геометрию и алгебру, стала неким геометризованным числом, являясь при этом ещё и числовой точкой. А это уже есть ничто иное, как моделирование материи и движения, осуществляемое путём наделения их некими математическими атрибутами и характеристиками, которые стали замещать сами природные реальности на математические символы и знаки. Отсюда и наше понимание модели. Модель есть математизированная количеством материальная объективность или геометризованная материальная объективность.
Подведение под само движение материи, а, точнее сказать, понимание движущейся материи в форме математической точки, наделённой теми или иными характеристиками или атрибутами, как некими параметрами и стали составлять основания её изучения и познания. Они, с необходимостью, приводили к тому, что и сама природа должна быть смоделирована, а потом ещё и сконструирована. Именно такие полагания лежат в основе моделирования материи и самого движения. При качественном описании и познании природы, например, как это имеет место в биологической науке, моделей не существует, да их в ней просто и не построить, потому что в ней нет элементов, несущих на себе меру или же просто, способных вместить её в себя. Поэтому в ней выделяются только механизмы и процессы функционирования той или иной материальной структуры. Говорить о моделирование живых структур в таком представлении едва ли возможно. А потому возможно ли вообще говорить о моделировании живого? Ведь, модели появляются только тогда, когда мы под природные реальности подводим математику, путём наделения их теми или иными мерами, числами или же геометрическими фигурами, формами. Отождествление моделей с природными реальностями приводит к тому, что мы абстрагируемся от того или иного, присущего им качества, создавая тем самым уже некую модель или же конструкт этой природной реальности. Это абстрагирование и есть идеализация материи, осуществляемая путём наделения её количественными атрибутами. Поэтому при анализе движения материи, мы говорим о количестве материи и о количестве её движения. Количество движения выражается через количество пространства и количества времени. Но для того, чтобы не потерять материю, мы проводим “негацию” времени. Эта “негация” времени выражена в количественной определённости самой скорости, как некого отношения количества пространства ещё и к некому определенному количеству времени. На это указывает математическое соотношение для определения скорости движения. “Негация” времени приводит ещё и к тому, что на пространстве, время начинает проявлять себя, как некая “текучесть”, но уже самого пространства, а в мере становится просто неразличимо, а то и просто тождественно ему. Различие их достигается только путём различия, используемых средств измерения, которые несут в себе ещё и их размерности, выраженные в определенных единицах измерения. Вот почему мы постоянно приписываем физическим величинам единицы измерения, потому что именно они позволяют нам определить различное в едином, которым, как оказывается, является просто сама движущаяся материя, наделённая ещё и числом. Поэтому у И. Ньютона пространство и время являются абсолютными и неизменными. Эта абсолютизация, с одной стороны, – материи и её количественных атрибутов, а, с другой стороны, движения и его количественных атрибутов. А это в свою очередь приводит к тому, что изменяется и сам подход к понятию и определению массы материи и как следствие этому самой массы тела. Масса, стала пониматься как множество точек, которые в сумме дают массу всего тела, а потому массу уже самой материи. Это, в свою очередь, стало означать, что материя ограничивается или же просто ограничена некой определенной формой, в качестве, которого и стало выступать тело. Под массой тела стали понимать ещё и массу всех точек, его составляющих. Так родилась ещё одна модель, которую в физической науке стали называть моделью абсолютно твёрдого тела. Сама минимальная точка – масса получила название молекулы – маленькой массы. Это есть ничто иное, как материализация точки через понятие молекулы. Введение молекул привело к возникновению молекулярной модели строения вещества, а также и самих тел.
Оказывается, что и при изучении движения материи также возникают некие два направления. Первое – связано с изучением, собственно, самого движения, в котором материя “негируется”, представляется в виде точечной массы, а второе – с “негацией” движения, изучением внутреннего строения материи в её телесной форме, состоящей, в свою очередь, из некого множества молекул как точечных, маленьких масс. Они ещё составили два самостоятельных учения о строении материи, тел и вещества. Укажем, что в квантовой механике мы сталкиваемся с подобной ситуацией, которую только что рассматривали в лоне ньютоновских представлений. Эти два направления проявили себя в виде описания уже некой новой модели, получившей название волны – частицы или которую просто называют квантом. Частица стала точечной моделью, а волна – некой развёрнутой моделью этой её отёчности. Если в классической механике меры пространства и времени однородные, потому что несут и проявляют свою точечность, то в квантовой механике эти меры уже неоднородны и несут в себе некую непротяжённое – протяжённую точечность. Можно сказать, что в квантовой механике их просто нет. Точка есть представитель линии, но не является представителем волны, хотя мы можем представить её в виде некого множества точек. В отличие от прямой линии волна имеет пространственную конфигурацию и ограниченность, а потому является визуализированной формой движения, выраженного на двухмерном пространстве, которое уже, вообще – то не является однородным. В то время как линия, хотя и является видимой формой, но выражает собой только одномерное и однородное пространство. Поэтому в квантовой механике невозможно ввести понятие скорости, а потому в ней говорят об операторе скорости. Именно в этой связи возникает двойственность, а из неё и двойственное толкование поведения квантовой материи. Ведь, в ней мы имеем дело с одномерной материей – точкой и её двухмерным движением – волной. Разрешение этого противоречия возможно двумя способами. Первый способ, связан с простым сведение волны к точке, являющейся её одномерным аналогом, а, второй – с подведением самой точки под двухмерное движение или волну. В физической науке первый способ связан с колебаниями, а второй – так и не нашёл своего приложения, хотя его часто изображают как некое пространственное представление самих колебаний, которые называют также волной. Если считать, что время есть некая текучесть пространства, то тогда колебания на таком пространстве проявляют себя уже в виде волны. Это говорит о том, что сами колебания есть простейшая форма движения, которое реализуется материей уже на двухмерном пространстве. Его нельзя получить путём простой суммы или простым соединения двух одномерных пространств.
Успехи в анализе движения материи стали возможны только в результате создания нового математического аппарата, который в лоне математики получил название функционального анализа. Так в лоне физической науки возникает понятие функции, которая приходит на смену числа, линии и формы. Это стало возможным в результате объяснения и описания движения с помощью пространства и времени. Функция стала нести в себе новый вид синтеза алгебры и геометрии, который является ещё и неким синтезом линии и числа, называемого числовой линией или же системой координат.
С открытием электрических и магнитных явлений возникла необходимость создания уже нового математического аппарата для изучения и описания, этих явлений, который с необходимостью, позволял объяснять уже непрерывные свойства материи, полагаемой в виде поля и представляемым уже в виде линий, а не в виде точек. Математический аппарат описания движения, разработанный И. Ньютоном, не позволял этого сделать. Это означало, что описать явления непрерывности путём геометризации его точками или линиями поля вообще невозможно. Необходимо было разработать новый математический аппарат описания не тел, материи и веществ, а уже самого поля. Поле, понятие которого впервые ввёл в физическую науку М. Фарадей, представлялось как некая среда, через которую осуществляют своё взаимодействия электрические заряды. Подведение под электричество математики, привело к тому, что количественной мерой электрической материи стал выступать заряд, минимальное количество которого и было названо электроном. В отличие от массы, заряд имеет своё некое уже минимальное количество. Электрон есть модель заряда, точнее сказать, он есть просто точка, наделённая зарядом. Отметим, что в данном случае речь идёт о неких видах материи. Этими видами материи является массивная и электрическая материя. О том, что это есть некие состояния материи, вообще не идёт речи. Поэтому современная наука имеет дело с дифференциацией материи на виды, а не с её переходами в различные состояния. Только в переходах мы имеем дело с неделимой, целостной материей, а в видах – уже с дифференцированной, разрушенной и мёртвой материей.
Попытки описания и объяснения поля через понятие силы не привели к существенным результатам, поэтому в основу его описания была положена некая новая модель представления поля в виде точек, численное значение и величина которых менялась в зависимости от протяжённости до источника поля, которым и стали считать электрический заряд. Это привело к тому, что и в лоне самой математики возникает некое новое учение о числовых рядах, с помощью которых и стали совершать попытки объяснения поведения и описания уже самого поля.
Понятие заряда очень тесно связано с понятием самого ряда. Сравните понятия заряда (за – ряд) и понятие – ряд. Теория рядов не позволила объяснить поле, т.к. поля проявляли себя, обладая не только свойством притяжения, но ещё обладали и свойством отталкивания заряженной материи. Это означает, что поля имели некую направленность при своём взаимодействии. Учёт этой направленности привёл к тому, что для характеристики полей ввели понятия вектора как уже направленной величины. А это уже означало ничто иное, как переход от точечного представления полей к направленному представлению, носителем которого стала являться уже геометрическая прямая линия. Так появляется понятие векторного поля, а вместе с ним возникает и учение о векторных полях. Теорию векторных полей разрабатывают в рамках учения об электромагнитном поле. Её создаёт и строит Д. Максвелл. В математике это направление стали просто называть теорией векторных полей. Но, кроме учения о поле, в рамках учения о рядах, возникает ещё теория групп, которая развивается и оформляется, пока только, в лоне самой математики. Подведение теории групп под учение о поле привело к рождению тензорного анализа, в котором в качестве основного объекта стала выступать группа, представляющая собой некую таблицу или матрицу, в которой величины распределены уже в неком определенном порядке. Позже, тензорный анализ составил математические основы описания полей, с точки зрения некой единой теории, названной единой теорией поля или теории гравитации А. Эйнштейна.
Мы представили в этом небольшом анализе математики и физики весь, имеющийся аппарат, который использовался при описании и познании различных видов материи. Более того, мы представили ещё и основные этапы развития математических способов и методов познания, используемых физической науки, а также ещё и в развитии самой математики. Из него хорошо видно, что все наше познание осуществлялось путём моделирования материи и её видов, с использованием того или иного математического аппарата, развития и изменения которого, в свою очередь, осуществлялось именно в лоне идеализации и моделирования самой материи, а также и вещества. Но моделирование материи требовало для себя природных реальностей, а потому материя объективизировалась уже путём подведения под неё, то одной, то другой количественной характеристики, которая бралась из самих природных реальностей, но полагались, как присущая только самой материи, выступающей ещё и в неком своём новом качестве, называемом природой. Без этого невозможно было использовать математический аппарат, т.к. в противном случае, мы находились бы только в рамках самой природной реальности, а не в её идеальных видах, которыми является реальная материя, её предметность и объективность. Поэтому, мы говорим, что естествознание есть учение о естественном, положенное в лоно или уже некие рамки количества, а ещё и объективизированного этим количеством, несущим в себе те или иные характеристики материи, а также и её различных телесных форм. Поэтому в рамках количества, мы говорим о естественном как о материи, а в рамках качества – о естественном как уже, о самой природе.
В рамках предметности учение о естественном есть простое установление качественных различий познаваемых. Поэтому предметность есть некое более общее качество, чем объективность, потому что их отличие коренится в том, что предметность несёт в себе некое более общее качество, чем объективность, несущая в себе качество некого объекта, положенного в лоно общего количества. Поэтому можно говорить о таком качестве как о “качествовании” познаваемого в лоне того или иного определенного количества. Поэтому, мы можем говорить о системности в лоне предметности и о модельной системности уже в лоне самой объективности. Например, материальность природы выступает как её предметность, а телесность – уже как её объективность. Предметность требует установления факта появления или рождения существующего, того, что перейдёт в лоно своего существования, а затем станет ещё и самим сущим. Объект есть некая данность, положенная как тотальность, а потому не требует своего рождения, т.к. уже является существующим или просто сущим. Он находится вне лона рождения, а потому и вне лона смерти, поэтому и качествует как некая мёртвая и вечная тотальность. Отсюда и название Г. Гегелем материи как застывшего интеллекта.
Эти два способа понимания природы и материи просто нельзя смешивать. Оказывается, что их часто просто смешивают, а то и просто отождествляют. Это связано с тем, что полагание предметности приводит к тому, что мы изучаем её уже в лоне объективности, а потому полагание объективности приводит к тому, что мы познаем в её лоне уже некую предметность. Утверждая некое одно в нашем познании, мы на самом деле утверждаем и изучаем ещё и некое другое, противоположное ему, и наоборот. Об этом мы уже не раз говорили, а также, ещё и показывали это в нашем изложении. Соединить их вместе мы не в состоянии и просто не можем, т.к. это связано с тем, что мы не можем выйти за рамки троичности, потому что только дошли до неё. Находясь в лоне монолектики и диалектики, мы будем постоянно сталкивается с такого вида апориями или антиномиями. В современной науке их называют просто проблемами. Самое удивительное в этом то, что мы часто идём либо на отождествление одного и другого, либо просто подводим одно под другое, совершая при этом “негацию” одной сущности в некой другой сущности. Оказывается, что есть ещё один метод, с помощью которого можно соединить как качественные, так и количественные стороны познаваемого. Пока только укажем на то, что он стоит на одном очень важном представлении, а также основании, а ещё и понимании познаваемого, которым является непосредственно уже сама природная реальность, взятая в своей неповторимой индивидуальности и единственности. А пока нам приходится использовать то одно, то другое, выступающими в виде либо полного отождествления одного и другого, либо “негации” одного в другом, часто понимаемого, а потому и представляемого как деление познаваемого на противоположности или на простые части. Поэтому в математике, физики и естествознании мы просто используем, в основном, способ сведение одного к другому, а ещё и определение одного через некое другое. Так в физической науке, удалось связать квантовую и классическую механики путём “негации” квантовой постоянной. Аналогично этому, мы достигаем сведения релятивистской механики к классической, путём совершения “негации” скорости света. Все это указывает на то, что в познаваемом, мы берём только одну или максимум две его стороны, которые и составляют его некие качества. Оказывается, что если этих сторон две, то мы спешим осуществить их синтез и свести к некой одной, или единой, как присущей им обоим стороне. Вот почему естествознание мы сводим либо к физике, либо к химии, либо к биологии, либо ещё к чему – то. В настоящее время его сводят уже к экологии, а порой и просто к какому – нибудь частному, прикладному направлению, например, технике и её технологиям. Анализ, проведённый нами выше именно на это, указывает, а ещё и показывает нам это.
Возвращаясь к математической и физической наукам, мы можем сказать, что обе эти науки развивались и развиваются в неком своеобразном единстве. Это их единство проявляется в том, что подведение под физическую науку математики, привело к количественному познанию материи путём её атематического моделирования или конструирования. В результате такого представления мы пришли к представлению о мире как о некой модели, в которой нет ничего кроме различных структур, линий, точек, линейных точек, числовых и матричных объектов, которые впоследствии создали, а затем и составили техническую, механическую модель не только мира, но ещё и самого человека. Познавая природу, мы “негировали” в ней самого человека. Но именно через эти модели мы его ещё и проявляем. Правда он трудно узнаваем в них, но при желании его все – таки можно в них отыскать и обнаружить. Кроме этого проявления, мы объективизировали себя ещё через математику, вкладывая в неё простое отождествления своей собственной формы с формами материального мира.
Отметим ещё раз, что рождённое и то, как оно рождается было выявлено, именно, в лоне учения о природе или физике, которая в материальной объективности и стала представлять собой ещё и естествознание. Нам пришлось провести анализ математики и физики совместно для того, чтобы выявить их различие и присущее им сходство. Кроме этого, в лоно учения о естественном, появляется некий новый подход к изучению и познанию материи, которым и является систематика, переросшая, в настоящее время, в учение о системах. Говорить о том, что естествознание является системой естественных наук пока что рано, но уже в этом, представленном анализе, выявлены некоторые закономерности, проявляющие себя как в математике, так и физике, в этом новом, общем для них лоне – естествознании. Это мы и постарались отыскать, и выявили в своём анализе математической и физической наук. В следующем разделе мы представим систему естественных наук, а сейчас, перейдём к анализу химической и биологической наук, с целью выявления их системности.
2.2. Химия.
Рождение химической науки связано с изучением процесса горения веществ, точнее сказать, с той субстанцией, которая непосредственно отвечает за процесс горения. Её назвали флогистоном. Изучение флогистона привело к тому, что были выявлены условия, при которых возможен сам процесс горения, а также необходимые для его осуществления вещества. Развитие учение о тепе, которое, как оказалось, тесно связано с самим процессом горения. В процессе горения образуется тепло, которое в виде теплорода было положено уже физической наукой, мало чем отличалось от флогистона, которым оперировала химическая наука. Различие этих двух субстанций состояло в том, что одна из них, непосредственно, отвечала за сам процесс горения, а вторая – за результат этого процесса, в котором образовывалось тепло и свет. Отождествление теплорода и флогистона привело к тому, что при горении, как процессе образования тепла, оно стало той субстанцией, которая способствовала ещё и изменению свойств тех или иных веществ, а то и их самих. Флогистон же этим свойством не обладал. Вследствие чего химическая и физическая науки стали стартовать в познании и изучении тепла с одной и той же субстанции, названной теплородом, а чуть позже просто теплом. Поведение тепла связали с поведением неких материальных носителей, которые назвали молекулами, являющимися ещё и мельчайшими представителями материи, тел и веществ – маленькими массами.
С развитием молекулярного учения данный процесс стал, рассматривается уже с позиций молекулярного строения вещества. Но вследствие того, что невозможно было объяснить с помощью силового взаимодействия молекул сам процесс горения, молекулу стали считать неким уже сложным образованием, имеющим своё внутреннее строение, состав и структуру. На это указывала сложная зависимость силы взаимодействия между молекулами, которая, как оказалась, очень сходна с поведением электрической силы, действующей между заряженными телами и частицами – зарядами. Также как и в случае электрических зарядов, которые обладают свойством притяжения и отталкивания, молекулы при своём взаимодействии обладали сходными свойствами. Для объяснения строения молекул и их взаимодействия, была использована электрическая модель взаимодействия зарядов. Но если молекула и несёт в себе заряд, то, это ещё не означает того, что она является заряженной частицей.
Изучение электрических и магнитных процессов привело к тому, что проблему излучения света телами при их нагревании стали связывать со скоростью движения неких особых частиц, которые назвали атомами. А это в свою очередь привело к тому, что молекулу стали считать, состоящей из атомов. Но в силу того, что молекула является все – таки составной частью материи, она является также и составной частью строения веществ, тел и самой материи. До появления атома, уже существовало учение о горении и о том, что вызывает сам процесс горение веществ. Этот процесс связали с тем, что в горении принимает участие некое особое, невидимое вещество, которое и назвали флогистоном. Об этом свидетельствовали ещё и опыты, приведённые учёными. Ими было открыто, что при наличии флогистона процесс горения осуществляется и протекает, если же его нет, то вещество перестаёт гореть, или вообще не горит. Исследования процесса горения привело к тому, что было выявлено вещество, отвечающее и за сам процесс горения. Как оказалось, этим веществом является кислород. Более того, был выделен ещё и углерод, уже как некий конечный продукт самого процесса горения. Вследствие того, что эти вещества являлись не видимыми нам, их назвали газами. Название углерод связано с конечным продуктом процесса горения, отсюда и его такое название. Понятие углерод стало нести в себе конечность, или окончание процесса горения, превращение вещества в уголь, а также как рождение (род) угля (уголь) из вещества.
Мы, привели подробно это пример в связи с тем, что, с одной стороны, горение есть процесс, в результате которого образуется некое новое вещество, названное углеродом, а, с другой – само вещество в процессе горения переходит в некое другое вещество, отличающееся от первоначального тем, что имеет некую другую форму и не обладает свойствами первоначального вещества. Кратко можно сказать, что горение есть процесс уничтожение материи и вещества. Мы не будем говорить о его использовании, хотя горение играет одну из важнейших ролей и в других видах человеческой деятельности. Но факт остаётся фактом. Вещество при горении переходит из упорядоченного состояние в некое неупорядоченное состояние. Эти две стороны процесса горения приводят к тому, что при его изучении и самом процессе превращения вещества возникают два направления. Первое направление связано с объяснением строения вещества, участвующего в процессе горения, а второе – с объяснением того, как рождается новое вещество и как оно переходит в некое другое вещество. Именно изучение и исследования самого процесса горения привело к рождению химической науки. Поэтому её определяют как науку, изучающую превращения вещества, совершаемого в процессе горения. Превращение вещества связано с тем, что в результате смешивания различных веществ, возникают новые виды вещества, рождение которых связано и с некими воздействиям одного из них на другое вещество. Эти воздействия в лоне превращения вещества получили название – химические реакции. Учение о химических реакциях стало составлять основу динамики химической науки, т.к. именно через них осуществляется переход одного вещества в другое, или же изменения строения и структуры самого вещества. Так в лоне химической науки появляется учение, или новый раздел, называемый химическими реакциями.
В химической науке, как и в физической науке, мы можем выделить два основных направления. В физической науке ими являются изучения материи и движения, а в химической науке – изучение вещества и реакций. Но, для построения теории превращения вещества необходим был метод, который позволил бы разрешить саму проблему превращения веществ.
При изучении процесса горения было выявлено различие в массах веществ, участвующих в процессе горения, а также веществ, образовавшихся после процесса горения. Простые расчёты показывали, что масса вещества остаётся постоянной, если учесть, все образовавшиеся в процессе горения вещества, компоненты. Поэтому каждый из трех компонентов участвующих в процессе горения был наделён определенной массой, качественные различия которых установили введением определенных знаков, которыми стали являться не числа и геометрические объекты, а просто буквы латинского алфавита. Сами элементы или компоненты, стали нести латинские названия, первая буква которых и стала являться носительницей их имени. Например, кислород – О, углерод – С, водород – Н и т.д. Такое представление элементов требовало и некого нового подхода к описанию самого вещества, представленного в виде буквенных обозначений. Более того, представление веществ через элементы, привело к тому, что они стали представлять собой ничто иное как простую сумму элементов. Под ними стали понимать и атомы, и молекулы веществ, участвующие в процессе горения. Открытие молекулярного строения вещества привело именно к такому представлению и элементов, участвующих в образовании тепла при горении. Сами молекулы первоначально несли в себе химическую символику, а затем с открытием атома её перенесли и на атомы. От молекулы как минимальной массы вещества, совершается переход к атому как минимальной массе, через которую определяется как масса самой молекулы, так и массы всего вещества и тел. Так произошло рождение не только способа описания химических элементов, но и определения их строения через конкретные химические элементы. Соединение этих элементов привело к рождению структурных форм, которые и составили основное направление развития химической науки, а также ещё и некого нового вида представления химического вещества. Каждому веществу стало ставиться в соответствие его структурная форма или структурная формула. Говоря проще, это есть поиск формы, соответствующей тому или иному веществу, осуществляемого путём комбинирования составляющих его элементов. Так, например, хорошо известна структурная формула воды, имя которой – Н2О. Выраженная через химические элементы, она имеет следующий вид: Н – О – Н. Чёрточки между элементами означают связи, которые удерживают элементы (атомы) в молекуле. Кроме этого, такое представление вещества приводит к тому, что процесс рождения нового вещества можно представить в виде уравнений, получивших название уравнений химических реакции. Для этого стали использовать простейшую математику. Это уже есть подведением математики под процессы превращения вещества, а потому и под саму химическую науку.
Так абстрагируясь и уходя от самого процесса горения, химическая наука переходит к описанию и объяснению превращения вещества уже в рамках молекулярного, а затем и атомного его строения вещества. Описания и объяснения превращения вещества стали составлять уравнения реакций, отражающие собой закон сохранения массы. Используя разницу масс химических элементов, Д. И. Менделеев строит первую систематику, выражая её в виде периодического закона. Так в химическую науку проникает способ систематики, не то, что мы имели у К. Линнея и Ч. Дарвина как систематики живого, а уже не живых, химических элементов. Систематика, а точнее, периодический закон, Д. И. Менделеева очень схожа с алфавитом, который представляет собой некую упорядоченность, периодичность расположения звуков и соответствующих им символов и знаков. На современном математическом языке этот вид систематики есть матричное (табличное) представления элементов строения вещества.
