Городские в деревне, или Вечное лето
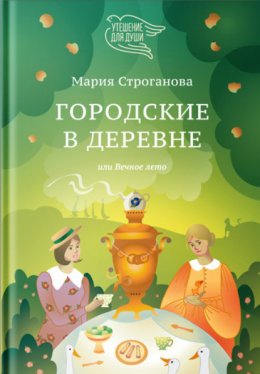
Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р25-507-0155
© ООО ТД «Никея», 2025
© Строганова М. В., 2025
Зима. Владимирская область, двести километров от Москвы. Мы с сестрой идем в магазин на лыжах. Это меньше двадцати минут от нашей деревни, и, конечно, при желании можно было бы съездить в магазин на машине, но лыжи – это спорт, а спорт – это здоровье. Жизнь в деревне подразумевает заботу о здоровье. Поэтому мы терпим и идем. На мне шапка-ушанка, куртка мехом внутрь и горнолыжные штаны. В чистом поле ветер такой, что покорители Крайнего Севера уважительно кивают нам из снежного тумана. Здесь вообще кругом поля. Основанный в начале XII века Юрием Долгоруким город Юрьев-Польский – примерно пятнадцать километров от нашей деревни – назван Польским вовсе не в честь недружественных русичам поляков, а именно из-за полей, раскинувшихся вокруг на километры.
– Знали ли мы, – кричу я, пытаясь опередить ветер, который, будто заправский фокусник, запихивает мои слова обратно в горло, да еще и примораживает там накрепко, – знали ли мы двенадцать лет назад, что дойдем до этого?
Под «этим» я подразумеваю все вместе: обветренные щеки, сосульки под носом, лыжи, мешковатую одежду, поля, ветер, жизнь в деревне, наконец.
Таня не слышит, она вдруг останавливается и с размаху падает в мягкий снег. Я падаю рядом. Это называется снеготерапия – завет родителей. Когда лежишь в пушистом снегу и над головой небо Аустерлица, пустые вопросы не тревожат разум: «Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..»
Как все начиналось
Дом в деревне родители купили в 2000 году. Это было немного спонтанное решение – нас пригласили в гости, мы полдня пролежали под липами, лениво наблюдая течение ручья в овраге, парились в бане, кормили кур и фотографировали каждый куст, а ночью плохо спали из-за непривычной тишины. А потом оказалось, что участок рядом продается, и на волне любви ко всему живому, закрепленной ежевечерним просмотром фотографий, мы сказали: «Конечно, покупаем».
Весной в деревню приехали уже хозяевами и домовладельцами. В багажнике машины лежали свеженькие блестящие лопаты и грабли, а также механическая газонокосилка – последний писк моды в те времена. Никогда до этого момента у нас не было собственной земли. Поэтому, едва осмотревшись, мы начали пахать, как первые колонизаторы, благодарные Христофору Колумбу.
У нас с сестрой не вызывало никаких сомнений, что за неделю-другую устроим на своем клочке земли примерно в сорок соток цветущий сад. А потом почием на лаврах, наблюдая дела рук своих. Я заранее скупила все книги и журналы по садоводству в своем районе и во сне видела идеальный огород, английский газон, рабатки, клумбы, каменистые горки и прочие изыски. В реальности после недели изнурительных работ мы вскопали несколько грядок на бывшем поле для картошки, покосили клочками поле одуванчиков, вместо газона покрывающее наш участок (причем косой – немецкая косилка оказалась с характером и раздумала работать в столь грубых условиях), и сделали клумбу в палисаднике, обложив кирпичами кружочек земли с редкими цветами. Эта клумба меня и добила: сверяясь с картинками в журналах, я поняла, что слишком далека от идеала.
Впрочем, столкнувшись с суровой реальностью, мы не утратили колонизаторского пыла, а просто несколько сдвинули сроки запланированного великолепия. Сначала мы наведывались в деревню урывками, успевали пополоть сорняки, скосить траву, собрать редкий во всех смыслах урожай и возвращались в Москву. Это было очень обидно – мы оставляли красивый, ухоженный участок, а по приезде нас вновь встречало непаханое поле. Спрашивается: когда наслаждаться и радоваться плодам рук своих?
В первый год, кстати, на огороде отлично вышла только одна культура – салат. У меня до сих пор хранится фото, на котором я пытаюсь объять необъятную грядку, пышущую зеленью. Потом, все последующие годы, папа будет поминать нам с сестрой этот салат: «Вот было время, дочки…» Уж не знаю почему, но больше такого урожая салата у нас ни разу не было. Видимо, это был бонус и поддержка – если б не салат, мы бы, возможно, совсем разуверились в себе.
С декоративным садоводством дела обстояли тоже не очень. Прекрасные картинки из журналов не давали мне покоя. Особой притягательностью обладало словосочетание «альпийская горка». Альпы… горы… синие дали. Какая перспектива! Один местный мужичок, вдохновленный приездом сумасшедших москвичей, готовых платить деньги за камни, тащил к нашей калитке валуны всех размеров, а мы раскладывали их, создавая Альпы своей мечты. Это было очень красиво – так нам казалось.
А потом однажды мы посетили лекцию знаменитого растениевода, специалиста по хвойным растениям. Демонстрируя слайды на экране, он показывал примеры неудачных альпийских горок. Первая называлась «булочка с изюмом»: камни более или менее одинакового размера разложены на горке на примерно одинаковом расстоянии. Вторая – «собачья могилка»: один большой камень, воткнутый в верхушку горы, в сопровождении мелких по бокам.
– Тебе это ничего не напоминает? – шепотом спросила меня Таня.
– Что? – спросила я, сама невинность, поднимая голову.
И тут я поняла…
– Молчи, молчи, – прошептала я в ответ, одновременно сгорая от стыда и давясь от смеха. На этих слайдах были наши труды во всей красе. И «собачья могилка», и «булочка с изюмом» – горе-садоводы, как по учебнику.
Впрочем, с годами время и опыт дали-таки результат. Газон выровнялся, растения заплодоносили, а камни лежали молча, но красиво.
Местные относились к нашему пылу со смешанными чувствами: нечто среднее между плохо скрываемой иронией – ну что с них взять? москвичи! – и любопытством: а вдруг в книгах дело пишут?
Наша соседка слева баба Валя прожила в деревне всю жизнь. Вырастила и выдала замуж дочку, похоронила мужа, осталась одна и, кажется, радовалась соседям-энтузиастам. У бабы Вали были куры, поле картошки и яблоня. Мы скупали на местных рынках деревья и кусты, привозили семена в ярких упаковках и обязательно любимую бабивалину селедочку или зефир в шоколаде. Принимая подарок, она махала рукой, отворачивалась и говорила, якая по-володимирски:
«Плявать!» – высшая степень смущения и завуалированное «спасибо».
– Что сажаете, пион, что ли? – спрашивала баба Валя, заставая нас на огороде.
Что еще могут сажать эти москвичи, не картошку же!
– Яблоню, – отвечали мы.
– А! Яблоньку!
Петуха бабы Вали звали Пончик, и у него с хозяйкой были исключительно нежные отношения. «Спой, Пончик», – просила баба Валя, выходя во двор, и петух нахохливал загривок, приподнимал иссиня-красные крылья и горланил что есть силы.
Куры петуха тоже уважали, но, как и всех местных, их очень интересовал наш огород – свежевскопанная земля, мирные милые хозяева, разноцветные семечки, закопанные неглубоко в землю, – с точки зрения кур это был санаторий. Они рвались через забор всеми правдами и неправдами, подкапывая, перепархивая, пролезая, а баба Валя гнала их обратно. Утром мы просыпались от ее громких криков: «Чух, чух!» Пончик пел, куры бежали, мы аплодировали.
Конечно, деревня, как и положено, ассоциировалась у нас не только с земледелием, но и со скотоводством. Тут уж мы были не практиками, а исключительно наблюдателями. По крайней мере, до поры до времени – копили опыт, так сказать. Вникали. У бабы Тамары на краю деревни, например, была свинья и корова. Прекрасное сочетание, подумали мы и, вдохновленные, отправились слушать, как прекрасно жить со свиньей и коровой. Идиллия представлялась нам так: прогулки по пахнущими клевером полям, парное молоко строго по часам утром и вечером, нежное похрюкивание и не менее нежное помукивание.
– Даже кирпичи жрет! У, дьявол! – сказала баба Тамара, показывая свинью в хлеву.
Свинья в ответ подняла налитые кровью глаза и забила копытом. «Кто-то новенький? – думала свинья. – Люблю новеньких». «Это точно свинья, а не кабан?» – думали мы и старательно улыбались, чтобы скрыть нервную дрожь.
С коровой оказалось не сильно лучше. В полях стояло нечто размером со среднего слона, окруженное роем мух и слепней. Тут баба Тамара была более благодушна.
– Матушка-кормилица, – сказала она и нежно прихлопнула слепня на необъятном боку коровы.
А мы почувствовали, как на голубую незабудку наших душ вгромоздился паук реальности. «Крупные животные хороши при наблюдении издалека», – решили мы.
Ольга Яковлевна на другом конце деревни держала двух коров, козу, пяток свиней, с десяток баранов и не счесть по мелочи – гуси, куры. Тут уж мы были готовы и настроились по-боевому. Но куры оказались милыми существами (да еще с цыплятами, желтыми комочками милоты), гуси не злыми, а коза – дереза. Подвели только овцы.
– Сегодня три померли, – мрачно сказала как-то Ольга Яковлевна, – переели свежей травы, не уследила. Раздуло их, и померли.
«Так, овцы – тоже не наше, – поняли мы. – Как может овца переесть травы?! Нет, не наше».
Зато свиньи у Ольги Яковлевны были не чета бабитамариному хряку. Настоящие свиньи оказались, в общем. Однажды мы пришли полюбоваться на новорожденных поросят, и Ольга Яковлевна рассказала нам, что свинья, разродившись, несколько дней не ходит в туалет – терпит, держит все в себе, чтоб вокруг розовых поросят не было ни навоза, ни грязи.
– Правда, сначала, сразу после рождения, поросят лучше у свиньи отбирать, – уточнила Ольга Яковлевна. – А то она может приплод и съесть.
«Мои ж вы сладкие! – примерно так, наверное, свинья думает. – Съела бы!» И, замечтавшись, ест.
Короче говоря, долгое время, получив ушат знаний о жизни домашней скотины, мы предпочитали наблюдать за ней со стороны. Завести живность мы решились только лет через десять, к тому времени уже пять лет живя в деревне постоянно – и зимой, и летом. Сначала думали про кур, но курам нужен теплый сарай и всяческое раболепство. Так что первым делом мы остановились на перепелках, а затем плавно перешли к гусям. Кстати, гусей нам отдала все та же Ольга Яковлевна.
Маму-гусыню, папу-гусака и пяток гусят. С гусями вообще практически никаких хлопот, восхитительно самостоятельные птицы. Утром пасутся в овраге, днем приходят нестись в сарай, вечером возвращаются поесть и спать. Зимой спят на снегу. И совершенно не жалуются. Потому что гусиный жир – это всем жирам пример! Итак, мы постоянно живем в деревне уже тринадцать лет. Мы ничуть не жалеем и не хотим обратно в Москву. Да, может быть, выходя с утра из дома, чтобы выпустить гулять гусей, я имею вид несколько помятый, не для московских улиц, прямо скажем. Скорее даже я похожа на Деда Мороза. Не с картинки, а вы понимаете – после полета на оленях в верхних слоях атмосферы – заросшая, волосы дыбом, куртка с клочьями вылезающей шерсти и сосулька в носу (если на дворе зима). Но поверьте – это помятость истинной свободы.
Как мы пруд копали
Так как живем мы среди полей, нам катастрофически не хватает водоема. Летом – чтобы купаться и удить рыбу, зимой – чтобы кататься на коньках. Да, в овраге в конце участка у нас протекает прекрасный ручей (кстати, некогда он был рекой и до сих пор значится как река на картах), но ручей, во-первых, холодный, во-вторых, узкий. Не поплаваешь. А нам очень хотелось плавать.
Однажды в стремлении к большой воде я даже записалась в бассейн в городе Юрьеве-Польском. Пришла, красивая, подтянутая, с животом, втиснутым в слитный купальник. Прошлась на носочках по кафельному полу, надела шапочку, новенькие очки для плаванья и нырнула. У меня были законные и оплаченные сорок минут и почти никого на дорожке. А так как, получив нечто законное, а главное, оплачиваемое, я становлюсь очень практичной, я решила не тратить ни минуты даром и все сорок минут гребла без остановки, только подныривая и отталкиваясь ногами от бортиков, то с одной стороны, то с другой. Быстро – это насколько позволял деревенский жир, накопленный за долгую зиму.
И вот время закончилось, я вышла из бассейна и пошла в раздевалку, покачиваясь – от неумеренности и непривычки к спортивным нагрузкам у меня кружилась голова. И тут ко мне подошла уборщица. Она мялась несколько секунд, будто не решаясь заговорить, но переборола себя и произнесла восхищенно:
– Вы к нам почаще приходите. У нас такие гости редкость.
Я воззрилась на нее совершенно растерянно, и, видя эту мою растерянность, она добавила:
– Ну вам же нужно норматив выполнять. Приходите!
Представляете? Увидев, что человек сорок минут без передышки плавает, она приняла меня за спортсменку, практически за члена олимпийской сборной. О Юрьев-Польский, благословенный, как мало ты видел! В общем, можно представить, насколько взлетела моя самооценка. Больше я, кажется, в бассейн так и не пришла. Потому что зачем заниматься плаваньем, если ты уже чемпион?
Но собственный водоем – совсем другое дело. В воображении я рисовала себе чудные картины: утро, я выхожу из дома, бегу босиком по росистой траве и ныряю в пруд. Хохоча, естественно. От счастья, естественно.
Или вот так, например: вечер, закат, я лежу на плоту с бокалом вина, на мне лежат комары, и мы все поем песню про «славное море, священный Байкал».
Забегая вперед, могу заверить, что все мечты сбылись и даже оказались красочнее и прекраснее наяву. Как сделать пруд, я представляла только примерно.
По роликам в интернете и статьям из журналов. Проблема была в том, что мы хотели большой пруд – для плаванья. А еще хотелось, чтобы пруд был максимально природным. Вот как будто он тут сам как-то образовался, без вмешательства человека. Тунгусский метеорит там упал или еще какая катаклизма. В общем, никаких цементных бассейнов и готовых пластиковых форм.
Сначала я скупила несколько журналов и книг с названиями «Копаем пруд», «Водоем без проблем», «Как затопить поле и не испортить отношения с соседями» и все в таком роде. По журналам, выкопка пруда казалась делом пары часов – лопата, пленка, немного усердия – и: «Вот это да, Маша, когда ты успела?»
Вдохновившись, я взяла лопату и начала копать пруд сама. Тележки с землей я отвозила в конец участка. Через час, примерно на десятой тележке, я решила оглядеть место для пруда. Согласно журналам, там уже должно было образоваться озеро размером со средний бассейн, должны стоять цапля, вопить выпь и толпиться караси с котомками в очереди на жилье. В реальности моя пара десятков тележек земли походили на небольшую тропинку к домику крота. Плюс ко всему у меня болела спина, дрожали колени, а ладони покрылись мозолями. «Кажется, самой пруд мне не выкопать», – сказала я себе и на следующее же утро закрепила это знание еще парой-тройкой тележек с землей. Потому что не до всех доходит с первого раза. Наконец я сдалась, и мы решили, что нужно обратиться к специалисту.
И тогда через подругу, с которой некогда мы вместе посещали курсы цветоводства, нашелся специалист по прудам – Валерия. И Валерия даже один раз приехала к нам, оценила местность, все рассчитала, все объяснила и сказала: «А дальше я буду руководить вами онлайн». И уехала. О, век интернета! Онлайн копать пруд! Кому расскажешь – не поверят. И мы, конечно, немного поохали, поругались, посомневались, побоялись и начали.
Первый этап в строительстве любого пруда – котлован. Потому что пруд, как вы понимаете, – это в принципе обычная яма с водой. С помощью Валерии-онлайн мы разметили участок под пруд. С помощью уровня сделали замеры – где подсыпать земли, где срезать, – и вызвали экскаватор. Да, мы даже освоили обычный водный уровень – дули в трубочку, прогоняя пузыри воздуха, ругались, были счастливы – все как надо.
Приехал экскаваторщик Николай, а с ним КАМАЗ, за рулем КАМАЗа – друг Николая. В КАМАЗ предполагалось сваливать вынутую из котлована землю и свозить ее в овраг, который значился в конце нашего участка. Здесь нам повезло – если б не овраг, пришлось бы насыпать у пруда небольшую гору, небольшое Килиманджаро. Ну или к соседям насыпать гору – кто откажется от Килиманджаро при закатном солнце?
За Николаем и КАМАЗом пришли трое грустных работников-таджиков с лопатами. В их задачу входило выравнивать края пруда и вообще делать все то, что не смогут Николай и КАМАЗ. Погода стояла прекрасная – солнце и ветер. Как на море – вдохновляющая погода. Пруд мы распланировали размером десять на тринадцать и глубиной в два метра. И вот в первый же день наш экскаватор почти все, что надо, и выкопал.
А на следующий день разверзлись хляби небесные и полил дождь. И лил сорок дней. Буквально. Мы в тоске писали Валерии, а она цитировала народные приметы: если на Самсона дождь, то лить будет сорок дней. Все онлайн, конечно. Никакой реальной поддержки, похлопываний по плечу и предложений выпить чаю. Суровая правда онлайн и суровая валькирия Валерия.
Нет, мы радовались, что успели выкопать самое главное – чашу под пруд, но вот положить пленку на дно и берега при таких погодных условиях было никак невозможно: в котловане стояла вода. «Ничего, – подбадривала Валерия-онлайн. – Если что, положим пленку в следующем году». Жестокая женщина. Ждать целый год с ямой размером с упавший метеорит на участке – этого мое эстетическое чувство не могло перенести. «Когда-нибудь дожди прекратятся», – говорила я Тане. «Когда-нибудь все кончается», – повторяла я оптимистично.
На дне нашего котлована в это время строили семьи лягушки – они падали с крутых берегов, а выбраться обратно не могли. Что еще делать, если нет возможности выбраться? Строить семью. Через сорок дней мы сыграли около десятка лягушачьих свадеб и с нетерпением ждали новорожденных головастиков.
И все же дождь кончился, этот день наступил. Но на дне нашей ямы теперь стояла вода и не собиралась уходить. И мы выкачали ее насосом. Вот так просто. За несколько часов. А потом еще несколько дней вылавливали со дна лягушачьи семейства и выбрасывали на берег. Потому что сердце наше не камень.
Наконец наступил долгожданный момент – укладка бутилкаучуковой пленки. Звучит страшно, а на вид – небольшой рулон тонкой резины, только очень тяжелый. Поэтому мы опять вызвали троих рабочих, которые под нашим мудрым руководством спустили пленку в яму и застелили ею пруд. А потом мы пустили воду, и наполнялся пруд три дня и три ночи.
Валерия-онлайн сказала, что любой пруд требует водяных растений. Не может жить без них, натурально. Не будет никакого биобаланса, если не будет растений. Мы хотели кувшинки и камыш – кувшинки мне всегда казались чудом света, невозможно прекрасным и недостижимым. Камыш? Камыш шумел. Валерия сказала: кувшинки – в магазине, остальное на ближайшем пруду.
«Вы едете на пруд, фотографируете мне все, что увидите, я говорю, брать или не брать», – так она повелела. Ну вы, конечно, догадываетесь, какое растение я выкопала первым делом? Камыш. И собралась послать его фото Валерии в священном трепете: сколько брать? Штук двадцать хватит?
– Таня, тащи пока камыш, а я напишу Валерии. Таня начала тащить, камыш не поддавался, качался и шумел.
«Валерия, – писала я в вотсапе, – камыш был моей мечтой, и я нашла его, сколько брать?»
Отослала сообщение и повернулась к Тане:
– Навались, давай помогу.
Камыш скрипел и уже поддавался. «Валерия печатает», – показало окошко в вотсапе.
– Давай, тяни, хватай, сильнее! Ты за верхушку, а я поднырну под корни! Вот же присосался, тащи сильнее, правее, левее…
Рррраз – и камыш вылез на берег с мощным всплеском, будто огромная рыбина. «Динг», – прозвенело сообщение в вотсапе.
– Сейчас мы посмотрим, – сказала я, плотоядно облизываясь, – сейчас мы накопаем камышика моего любимого…
«Мария, – гласило сообщение в вотсапе, – камыш брать нельзя, он заилит вам весь пруд. Это очень агрессивное растение. Камыш хорош для больших водоемов, но он убийца маленького пруда».
Я повернулась к Тане. Она лежала на берегу и тяжело дышала, в руках у нее был зажат камыш, она обнимала его как ценнейшее сокровище, она не хотела его отпускать.
– Таня, – сказала я, – у тебя в руках убийца.
И на другом берегу озера заплакала цапля. От смеха. Камыш мы закопали обратно и больше не вспоминали об этом, по крайней мере чаще одного раза в неделю.
Зато мы нашли ежовник – милое растение с белыми щеточками. Каллу, или белокрыльник, и трилистник. Это Валерия-онлайн одобрила.
А в магазине мы купили три вида кувшинок, ирисы водные и рогоз. В общем, вскоре наш пруд зазеленел. Как будто всегда тут стоял. Мы обсыпали берега галькой и пошли к соседу за карасями. Потому что пруд без рыбы – печальная картина запустенья. А с рыбой – обильный стол, радость постника.
А на следующий год к нам приехал папин друг Евгений. Он посмотрел на наш пруд и сказал:
– А почему вы не позвали меня, я бы выкопал сам, без всякого экскаватора.
И нам стало немного стыдно, потому что мы знали, что Евгений действительно прекрасно копает, можно сказать, это его хобби – копать. В 90-е годы он, как это часто бывало среди московской интеллигенции, оставшись без средств, подрабатывал копкой могил на кладбище. И даже поставил рекорд – одиннадцать могил за день.
Увидев наше смущение, Евгений решительно произнес:
– Выход есть – выкопаем второй пруд!
– Ура! – сказали мы. – Какая прекрасная идея, какое изящное решение! Почему нам нужно ограничиваться одним прудом, если можно выкопать два? Это просто смешно!
И я тут же написала Валерии примерно так: «Дорогая Валерия, еще год назад вы закончили руководить нашим прудом. И вот, растения, которые мы вместе выбирали, только пустили свои первые корни, а рыбки только откинули свою первую икру, как мы уже решили выкопать второй пруд. Правда, замечательно? Дело в том, Валерия, что к нам приехал папин друг, и он любит копать. Вы бы отказали человеку в его желании? Как вы думаете, Валерия, будет ли смотреться второй пруд сразу за первым и подойдет ли он по форме к нашему участку, к нашим гусям и уткам? К нашим с Таней профилям и анфасам?»
Я отослала это сообщение, полная надежд. Но вскоре получила совершенно разочаровывающий ответ. Валерия почему-то восприняла происходящее без восторга. Она нам ответила примерно дословно, что второй пруд сразу за первым – это не по фэншую: «Вода будет утекать вниз, а вода – символ денег».
– Что делать, Таня? – спросила я, зачитав послание от Валерии. – Будем ли мы соблюдать санитарные меры фэншуя? Ибо денег у нас и так мало, а теперь, видимо, вовсе не будет.
Поразмыслили, посмотрели на гусей, которые паслись прямо за намеченным вторым прудом, и подумали, что они-то точно в гармонии с миром, без всякого фэншуя. Тогда мы ответили Валерии, что мы живем не по фэн-шую, а по наитию-шую, и в этом наитии главное – чтоб человек мог копать, если ему захотелось. Так мы настояли на своем и приобрели второй пруд.
Евгений приехал к нам копать на электричке, с двумя лопатами. Лопаты были наточены, как клинки японского самурая. Мы приготовили милую трапезу и думали, что Евгений сначала поест с дороги. Но он зашел в дом, переоделся и сказал:
– Солнце высоко – сначала работа.
Да, к слову, пруд Евгений выкопал за три дня двумя лопатами. За работу он принимался утром, а заканчивал вечером, когда уже не было видно ни кротиков, ни лягушек – восторженных зрителей трудов Евгения. Единственное, что требовалось от нас, – хороший ужин.
Евгений сказал:
– Как-то я работал в женском монастыре, и там мне подавали на стол пятнадцать блюд.
– Намек поняли, – ответили мы с Таней.
И принялись готовить. Мы очень старались соответствовать и накормить трудящегося, но пятнадцать блюд… Тогда нас осенило: будем считать за блюдо каждый отдельно взятый продукт. И дело пошло веселее. Вечером за ужином Евгения ожидали: хлеб нарезанный черный, хлеб нарезанный белый, салат, редис, помидор, сыр такой и сыр эдакой, рыба такая и немного не такая, рис и т. д. Сдюжили едва, а Евгению пришлось согласиться, что это почти пятнадцать разных блюд.
А когда пруд был выкопан, мы решили соединить пруд номер один и пруд номер два ручьем. И, как вы понимаете, замкнули денежный круг, обманув все фэншуи разом.
Гуси и перепелки
– Раз уж мы живем в деревне, мы должны завести скотину, – сказала я.
Кот Марсик отвернулся.
Когда мы только купили здесь дом, на всю деревню было четыре коровы, овцы, свиньи, гуси и кур не счесть. Теперь только одна пожилая женщина-могиканша держит овец, свинью и кур. Все остальные барствуют. Да и понятно: примерно двадцать из тридцати домов нашей деревни ныне дачники. Мы решили, что мелкий нерогатый скот – это развлечение, никакого труда. И завели перепелок и гусей.
Первые перепелки достались нам особенные – от наместника Данилова монастыря. Кто-то подарил в монастырь пятнадцать штук прямо в клетке с кормушкой.
Надеюсь, вы наслышаны о мегаполезных свойствах перепелиных яиц? От гастрита, тонзиллита… как известно, перепелиные яйца самые полезные из возможных. Мы поселили перепелок в сарайчике, они должны сидеть в тесной клетке, ибо это залог хорошей яйценоскости, они крайне подвержены стрессам, что тут же снижает яйценоскость. Нельзя громко кричать на перепелок и друг на друга в присутствии перепелок – стресс. Нельзя, играя в привидение, проходить мимо клетки в развевающейся одежде – стресс. Нельзя подставлять перепелок под прямые солнечные лучи (наверное, у них болезнь Икара – сразу хочется взлететь) – стресс. Вообще, нельзя показывать им, как прекрасен мир, то есть знакомить с кошками, собаками, ястребами в небе – стресс. Истерички!
Проблем с перепелками было немало: то они клюются – пришлось расширять клетку, то одна стала петуха гонять – пришлось ей подрезать клюв, то другая хромать начала – пришлось… а, так оставили. В общем, ввязались мы. Но самое интересное – вывести своих перепелят. Мы купили инкубатор, неделю собирали яйца и в один прекрасный день загрузили наше «гнездо».
Знаете, как рождаются перепелята? Семнадцать дней они сидят в яйце и носа не кажут, потом, когда наступает срок, перепеленок начинает тюкать клювом яйцо изнутри: тюк-тюк. Ударит, пробьет дырочку и чуть поворачивается в яйце, чтобы ударить рядом с этой дырочкой. Тюк – еще одна трещинка, поворачивается, тюк – еще одна дырочка. И так он вращается в яйце, пока не сделает почти полный круг. Крышечка открывается, как в консервной банке.
Весит новорожденный перепеленок всего шесть граммов. Берешь на ладонь – как пушок, не чувствуешь его совсем. А через минуту перепелята уже бегают и едят корм – вареное яйцо и простоквашу.
Зимой на перепелок напал мор. Падали на бок и не шевелили ножками. Я вынесла двух на снег – пусть помирают наедине с природой, как положено в условиях севера, у гордых лопарей, например. Вечером одна перепелка помирать передумала, пришла к калитке своими ногами: примите меня обратно, я все осознала. Представляете? Ночь. Улица. Фонарь. Перепелка у калитки. А ты только вот случайно вышла на улицу, за дровами, например, и встретила перепелку, которую вынесла утром на мороз и верную смерть. Первое желание – спросить: с добрыми ли вестями ты пришла к нам?.. Вскоре и вторая была так же найдена вполне живой в снегу, при помещении в клетку побежала на своих двоих к кормушке, расталкивая здоровых сестер. Шоковая терапия в действии.
Если вы спросите меня, почему мы, москвичи, живущие в деревне во Владимирской области, решили завести гусей (а не кур, например), я отвечу: из-за лени, конечно. Мы же москвичи, пусть и живущие в деревне. Гусям не нужен теплый сарай и вся эта возня с жердочками, гуси преспокойно будут спать на снегу, поджав красные перепончатые лапки, даже в сильный мороз. Им вполне достаточно маленького загончика с крышей, чтобы было где снести яйца, ну и сесть на гнездо в случае, если хозяева захотят гусят.
Гуляют гуси сами по себе и никогда не уходят далеко от дома, очень хозяеволюбивые птицы. Гуси вообще такие существа, которые считают, что человек создан для них. Если я просто выхожу на улицу, они радостно орут: «Она вышла к нам! Смотрите, она вышла!» Если я прошла мимо в сарай, например, они поворачивают шеи: «Она идет мимо, потому что мы здесь! Она не может не пройти мимо нас!» Нам бы всем поучиться умению считать себя центром вселенной у гусей. Я вот учусь. Пусть моя вселенная невелика.
Кормить их надо раз в день. Так, что еще?.. Да все! Завели – и забыли, можно сказать. Они сами о себе напомнят – вы же помните: гуси Рим спасли. Гуси – практически собака, даже несколько собак. Во всяком случае, я, работая дома за компьютером, всегда слышу, когда на участок зашла соседка – гуси орут как потерпевшие, только с элементом самолюбования:
«Кто-то идет, кто-то идет, смотрите, смотрите, кто-то идет. Смотрите же! О, как мы кричим, как мы прекрасно кричим!»
Первых гусят мне подарили на день рождения. Вместе с отцом-матерью. Через неделю начались проблемы: один слабенький. Часто сидит отдельно, грустит и не пожирает траву со скоростью газонокосилки, как братья-сестры. Местные жители знают, как лечить животных. «Напоите его водкой, – советует милая женщина. – Когда в былые времена у нас заболевал поросенок, моя мама отпаивала его водкой, и поросенок выздоравливал». Мы стесняемся спросить, как ранний алкоголизм сказался на характере поросенка…
Но все равно, с гусенком нам терять нечего, к тому же увеличенная печень – это лишние граммы фуа-гра. Мы в выигрыше в любом случае. Я смешиваю в шприце в равных пропорциях воду и спирт и иду к гусятам. Взрослые гуси шипят от зависти, пока гусенок жадно пьет. Надеюсь, однажды ночью мы не проснемся от того, что кто-то поет под окнами пьяным голосом про бабусю?..
Второго гусенка щиплет родной отец. Просто не дает проходу. Возможно, дело в цвете кожи, то есть пуха. Этот единственный из пяти родился серым, и так как гусак считает, что жена гусака вне подозрений, достается несчастному гусенку. Если так дальше пойдет, и серенького придется подсадить на водку. Для смелости.
Весной у гусей розовый период. Как «теза» у раннего Блока. Они несут яйца, не неся при этом ответственности материнства. Конвейер: снес яйцо – идешь гулять с чистой совестью. Гуси пасутся в овраге, а нестись идут наверх, в свой сарайчик, там у них гнездо, вентиляция, паркетный пол, джакузи и все удобства. И вот, когда все гуляют, а одна гусыня вдруг чувствует, что яйцо близко, на подходе, она направляется в гнездо. Идти довольно далеко и, в общем-то, страшновато, поэтому она покрикивает, идучи, а оставшиеся гуси из оврага ей отвечают. Что-то вроде:
– Если не вернусь, вы знаете, кого винить.
– Знаем и отомстим. Или:
– Ушла в гнездо, вернусь после двенадцати, не стучать.
– Да у нас у самих обед.
Потом гусыня садится на гнездо и замолкает. Интимный процесс высиживания яйца может длиться несколько часов. Не знаю, о чем гусыня думает, сидя на гнезде, но заходить в сарайчик и нарушать покой ни-ни – сразу шипение, ор, злые глаза и «я не одета, как вы могли?». После гусыня заботливо прикрывает яйцо соломкой, шепчет: «Спи, малыш, а мама гулять», – и драпает обратно, к своим. Свободно. Следующий.
Кстати, гусиные яйца славны не только размером (в три раза больше куриных), но и содержанием в желтках лютеина – это антиоксидант, замедляющий старение клеток. Мы как стали держать гусей, помолодели лет на десять. Даже немного раздражает, особенно эта проявляющаяся все активнее младенческая припухлость.
Сами гуси очень любят детей. Гусячих детей, разумеется. Одна гусыня вывела пятерых – мать, все дела, – а любят ее детей все гуси в стаде. У них одна идея – прорваться к чужим детям. Она крепко западает им в голову, настолько крепко, что свет померк и капуста не сладка. Мамаша гуляет с детьми за загородкой из сетки, остальные стоят и смотрят. Никуда не уходят, ни на пруд купаться, ни травку щипать. Красные бугорчатые носы упираются в прутья, из груди время от времени вырывается стон счастья и боли: «Гусята, вот бы мои, вот бы достать».
– Не достанете, – говорю я.
И олицетворяю, естественно, всю жестокость человеческого мира.
«Штоб ты шмякнулась», – шипят гуси при виде меня.
А потом сразу опять – нос в сетку и следить за гусятами: «Щастье наше, пощупать бы».
Однажды утром пришла к гусям и увидела: гусенок лежит на животе, задние ноги вытянуты назад коленками, как у кузнечика. Будто вывернуты или сломаны. Я подняла страдальца – неестественно прямые ноги не двигались. Принесла домой, положила на мягкий диванчик – пусть помирает в уюте и комфорте, бедняга. Когда я зашла в комнату через пять минут, гусенка на диване уже не было. Я представила, как он сполз с диванчика и на сломанных ногах, отталкиваясь зародышками крыльев, ползет по полу в поисках убежища: «Не дамся живым, проклятые фашисты».
Гусенок был найден сидящим в углу на собственных, уже согнутых ногах. Я посадила его в коробку, я даже затопила ему печку, чтобы согреть ревматоидные суставы. Всю ночь меня мучали кошмары об эпидемии среди гусят. В шесть утра гусенок уже стоял в коробке столбиком, при виде меня зашипел. Открытие: гусята шипят. Это как на маленькую-маленькую конфорочку поставить малюсенький чайник, и он так тихонько закипел и плюется: «пс-пс-пс».
Был выпущен на свободу, побежал к своим, подкидывая здоровые ноги.
– Вот же поросенок! – сказала я.
«Вот же удачно переждал дождь в тылу врага», – подумал гусенок.
Одно холодное лето оказалось несчастливым для выведения гусят. Сначала они рождались несколько дней, а главное – ночей. Я ходила в полусне, полуголая, с гнездом на голове – что отдельный шок и для гусей, и для соседей, – и вынимала гусят из-под гусыни, чтобы та их не задавила. Гусыня сидела намертво, сжав лапки, и в результате троих все же придавила своим мягким, дебелым телом насмерть. Когда я пришла за гусятами в третью ночь, пролетающие мимо совы приняли меня за свою (да, видимо, все же прическа) и спросили дорогу в лес. Я показала. И все это на фоне ненависти гусыни-матери, которая записала меня в пожиратели детей и шипела при виде меня так, будто в голове у нее не гусиные мозги, а раскаленный утюг.
Потом я отдала гусят гусыне и думала, что заживу спокойно. Но холод, дожди… слабые гусята стали вымирать небольшими партиями – сразу нас покинули четверо, еще один тоже не жилец, сидит в коробке, ест за троих, но не стоит на ногах. Падает, как неваляшка. Если отправить его к братьям-сестрам, его ждет уж точно неминуемая смерть, а тут, в коробке, еще слегка минуемая. Да-да, своими глазами наблюдала, как гусыня-мать вставала на него перепончатой лапищей и замирала в мыслях о своем, о птичьем. Ну мало ли кто здесь валяется – не убегает, значит, неживой. Мы даже возили его к ветеринару. Ветеринар прощупал пищащее тело, удостоверился, что ноги целы, а фуа-гра на месте, и завел речь о погоде. Непробиваемые люди абсолютно тут живут, чудовищные.
В общем, эти милые желтые комочки застряли у меня в горле. Все тринадцать. И один поперек.
Конечно, гусята, особенно подросшие, – это немного хлопотно. Холден Колфилд, помнится, говорил, что его мечта жизни – ловить ребятишек, играющих в огромном поле над пропастью. «Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи». У меня никогда не было мечты ловить гусят, отбившихся от стада, потерявшихся, застрявших в дырах забора, провалившихся в крапиву и вопящих. Как-то иначе, знаете ли, я представляла свою жизнь. Но теперь я ловлю их и несу к родителям: «Вот ваши ребятишки, держите, они чуть не сорвались». Эта деревенская жизнь с гусями хочешь не хочешь делает тебя философом, так ее и эдак!
Гуси – кочевые птицы. Заложено в природе, говорят. То-то, я гляжу, с наступлением осени наши становятся совсем самостоятельными. Уходят рано утром на свой прудик пастись, и все, целый день их не видно, приходят вечером поесть только. Мне кажется, если я перестану их кормить, они подумают недельку для приличия и отправятся на юг. Пешком. Летать-то они все же не умеют. И вот они приходят такие на юг, там уже, естественно, у всех птиц налаженный быт – кладовки разные, пуховые лежбища. А наши заходят, впереди гусак, за ним Серушка, еще две жены и семь детей:
«Здрасьте, где у вас тут переночевать? А то так есть хочется, что пух повылез». Начнут рассказывать, конечно, как я у них яйца отбирала, ограничивала свободу и вообще всячески лишала достоинства. Ну фурор произведут точно. Какая-нибудь цапля вообще свалится с ноги от зависти – вот в деревне-то жизнь, кормят с рук дважды в день! А потом посидят, подумают недельку и назад пешком. Потому что юг югом, а патриоты – в хозяйку.
Есть у наших гусей и недруги. Собаки, лисы, ласки, даже хорьки – эти дракулы животного мира. Но хорьки все же чаще нападают и выпивают кровь из кур, а гуси великоваты для них. Вот летом гусак пропал. Самый задиристый. Который даже на меня шипел. Наверное, лиса. На рассвете прокралась, хвалить начала, Крылова цитировать. Прямо стоит эта сцена перед глазами…
А спустя три месяца лиса утащила второго гуся. Сделала подкоп под забор соседки, пролезла, начала гонять гусей, троих ранила, кровища на снегу, перья – следопыты установили: следы борьбы. Поймала самого молодого, съела голову и шею, а остальное закопала в листья: приду завтра и доем. Гуси в шоке, трое вообще не выходят теперь из своего домика, остальные ничего, держатся, сжав когтистые лапки в кулачки. Но в деревне ж так: где-то прибыло, где-то убыло. Этой же ночью у другой деревенской жительницы овца разродилась – трое ягнят. Черненькие, со звездами во лбу. Не знаю, легче ли от этого гусям, но сходила, рассказала, держитесь, говорю, не будьте овцами духом, будьте как львы.
С гусями этими я когда-нибудь точно завоюю научный мир. Может, даже премию получу какую-нибудь. Научную. По генетике. Нет, я не сильна в генетике, но, когда природа сама подбрасывает открытия, ты только успевай-записывай, и премия, всемирная слава и легкая неприязнь толпы – у тебя в кармане. Итак, очередное открытие. Оказывается, любовь к людям у гусят не приобретаемая со временем, благодаря заботе и своевременному питанию, а генетическая – передаваемая от старшего поколения к младшему. Ab ovo, как говорится. Как я об этом узнала? Опытным путем.
Надо сказать, что наши гуси нас любят не особо сильно. И дело не в том, что они каждый раз что-то начинают подозревать ближе к Рождеству. Просто достались нам гуси от соседки по деревне. То есть изначально они любили ее, а нас считали кем-то вроде мачех: «Жить-то мы к вам переехали, но сердце наше вы не завоюете никогда».
И гусята у наших гусынь рождались такие же – с легким презрением. В целом к подобному раскладу мы привыкли, не жаловались – пусть гуси сами по себе, мы сами по себе. Нейтральные отношения взаимовыгодны (с некоторыми перегибами ближе к Рождеству). А тут вдруг вздумалось мне взять яйца для инкубатора у нашего местного фермера, который тоже держал гусей и жил с ними в мире и дружбе.
Так вот, не поверите, но, когда через двадцать восемь дней в инкубаторе из яиц вылупились гусятки, они были не только чудо как хороши, но полны любви и доверия. Я не сразу смогла это вместить, я не привыкла к тому, что при виде хозяйки пушистик весом меньше ста граммов впадает в эйфорию: «Мама, мама! Наша большая бескрылая мама!»
Они пищали от счастья, едва заслышав мои шаги за дверью сарайчика. Они кидались к порогу, а когда я открывала дверь, падали всей толпой в восторженный обморок прямо на мои тапки. Они забивались под свитер, они залезали в рукава и карманы, они блаженно жмурились и мгновенно засыпали прямо в моей одежде невинным сном счастья – «она пришла, мы дома». Они любили меня изначально, априори.
Это была разница, я вам скажу. Очевидная разница. Если раньше при виде меня гусята бросались врассыпную и издалека плевались непережеванным одуванчиком, то теперь – сразу безусловная любовь.
Вот такова она – генетическая память, передаваемая через яйцо. Информация о человеке как довольно милом существе, которого не надо бояться, который сможет заменить родителей. Ну разве не чудо?
Тут, конечно, в моей научной работе я бы оставила много глав для выводов. «Стоит задуматься и не делать поспешных суждений, встретив угрюмого мизантропа, – написала бы я морализаторски. – Может, дело не в его характере или в том, что люди были недобры к нему в детстве (шах и мат, господа психологи). Может, дело в том, что люди были недобры к его родителям?»
А потом бы добавила: «Посмотрите на себя! Теперь мы знаем, как все исправить: нам нужно срочно начать любить окружающих нас людей и очень сильно – наших детей. Так это работает – не сразу, но через поколения. История с гусятами – прекрасная иллюстрация лозунга „Начни с себя“».
И потом, закрыв научную рукопись, я бы рассмеялась, весьма довольная собой: «Ха-ха, как все просто, ха-ха». И пошла бы кормить гусят. Этих милых-милых гусят. Эти пушистые, сладкие комочки. Такие они чудесные и добрые, не то что люди порой – терпеть не могу.
Зимой с гусями несложно. Нужно только ежедневно отдирать от земли ведро и менять замерзшую воду. А как гуси бегут-летят по снегу!.. Будто большие снежные хлопья в облаках снежной пыли. Кстати, нестись гуси начинают где-то в начале апреля, часто примерно за неделю до Пасхи. Гусыни откладывают яйцо, сформировав круглое гнездо из соломы. Высиживать птенцов еще рано, этот инстинкт придет позже, через тройку месяцев. А пока все снесенные дары – к Празднику праздников.
Осень
По урожаю. Картоха хороша у нас всегда. С кулак такая картоха. Надо копать вдвоем: один втыкает лопату в землю, а другой тянет куст за ботву на себя, потом первый поднимает второго, стряхивает с него слой земли и картоху, которая с кулак, и полведра сразу набирается. Можно меняться, чтоб веселее было.
Кабачки тоже хороши. Тут главное – кабачок не упустить. Сорвать его в положении «цукини с цветком для вашей пиццы», а не оставлять на пару дней дозревать – это ни в коем случае. Они, кабачки, почуяв свободу, за два дня вырастают до размеров среднего крокодила. Зеленые полоски дополняют образ. И волшебные слова «сделаем икру на зиму» портят настроение всем членам семьи на неделю. Даже соседям портят, если они не заперли двери вовремя.
А вот с огурцами было в этом году плохо. Махонькую бочку только засолили, литров на пятнадцать.
– Пройдемся по деревне, соберем на сорокалитровую, – прошу я Таню, и мы идем.
Если у хозяйки огурцов много, она выходит с ведром и говорит: «Как раз хотела отдать скотине, девать некуда». И тут главное прикинуться полной скотиной – сорвать розу там без спросу, объесть смородину или повалиться на газон. Отдают с благодарностью.
«Ешь не хочу, милая, впрок пойдет».
Помидоры отличные. «Воловье сердце», «бычий лоб» – здесь других сортов не выращивают. Не поймут свои же, стыдно будет из парника выйти. А тут брутальные такие, висят на ветках, пыжатся. Как гири. Срываешь и прокачиваешь трицепс заодно. А не то что черри там какие-нибудь. Неудобно даже.
А про яблоки я говорить не могу. Мы обходим эту тему молчанием. Просто делаем сок каждый день по несколько часов. В полной тишине.
В нашей деревне в сентябре праздник сбора винограда. Я даже помыла ноги, дважды. И включила Челентано. Всем известно, что мять виноград можно только ногами и под песни Челентано. Это закон любого виноградаря – если он не выполняется, ни один уважающий себя поселянин не даст и полушки за вашу трехлитровую банку с жидкостью цвета свеклы. Ладно, до ног дело не дошло, ограничились Челентано, руками и марлей. Виноград во Владимирской области? Да запросто. Северные сорта тоже очень сладкие и крупноплодные. Привозит и сажает у нас в деревне виноград брат Федя, а уж ухаживаем и собираем урожай мы с Таней. Вся деревня восхищается, когда в августе тазы – буквально тазы! – винограда гордо проносятся по улице. Хоть в чем-то мы, москвичи, можем быть зачинателями мод. И правда – через год уже только ленивый деревенский житель не просил у нас черенок винограда. В общем, скоро на юг никто ездить не будет, ведь пить вино из собственного винограда на собственной террасе можно и в обнимку с любимым котом.
Федя, кстати, решил уже, как мы назовем наши сортовые вина, когда выйдем на промышленный уровень. Так как наш винодельческий регион (говоря языком сомелье, ковистов, дегустаторов и прочих виноградарей) располагается в долине реки Жаровка, первое вино будет носить название Côtè de Jarovka. Красное сухое, скорее всего. Полнотелое (конечно!), маслянистое, с ярко выраженной танинной структурой и отчетливыми, легко узнаваемыми ароматами красных фруктов. А второе, несомненно, будет белое. Назовем
«кислинг». По аналогии с рислингом и со скидкой на северные сорта винограда, не отличающиеся сладостью.
А сбор винограда в деревне Т. происходит так. Рано утром девица неопределенного возраста отправляется на виноградник. Там она сначала срезает гроздья ножницами, как в красивом видео из «Инстаграма»[1] знаменитости. Потом рвет руками, зубами, ломая кусты, падая и покрываясь пятнами виноградного сока. Через полчаса она чувствует, как болит спина, и сильно жалеет, что уже не юного возраста.
Поздней осенью я остаюсь на краю деревни почти одна. Как-то так получилось. Ну потому что осень, наверное. Дачники, они ж как: собрали кабачки – и в Москву, за сытой жизнью и сметаной для кабачков. А я осталась. Как выживать? Световой день сокращается. В соседних домах свет не горит, фонарей тоже нет у нас в деревне – а зачем? Ради меня, что ли? Так я в темноте не гуляю по вечерам под ручку с – не знаю – бродячими кошками. Прямо представляю, как я звоню в Горэлектросеть.
– Але, это вас из деревни Т. беспокоят, мне нужны фонари на улице, нам с котами темновато ночью.
– Нет, девушка, котам нормально.
– Да? Простите тогда.
Ну не за себя же просить.
Еды на огороде уже нет. То есть во время обеда не выбежишь на улицу за огурцом или помидором. Пшеницу не обмолотишь, хлеб не сделаешь. Все, осень поздняя. Отопление – сама обеспечиваю, потому что печки. За дровами сходи, коры ножиком надери, подожги с пятого раза. Да-да! Прочитайте этот текст детям, объясните, что где-то в подвале вашего многоэтажного дома сидят гномики и кидают маленькими ручками дрова в огромную печь, чтобы согреть батареи, – пусть ценят хотя бы.
Питьевая вода – на родник сходи. И надо успеть до темноты, до шести вечера, а то ж по звездам я не сориентируюсь. С гусями еще надо поговорить, потому что язык – это мышца, если ни с кем не разговаривать, она атрофируется. Залезешь утром в душ, и вдруг – э, мэ – все! Задушена песня, только на «аааа» теперь, без слов. Я обычно гусям говорю что-то бодрящее:
«у тебя вся спина белая» или «шнурок развязался». Они ж доверчивые, жуть. А по ночам так тихо, знаете. Слышно, как рыбки в аквариуме дышат, как мышка на чердаке асбестом давится, а за окном первый снег на землю падает. Колотит о землю, спать невозможно. Одичаю я, приезжай, милый дедушка, будет хоть с кем мышке промывание желудка сделать. Остаюсь твой внук Ванька Жуков.
Зима
Вы, наверное, читали рассказы Джека Лондона? Как там входная дверь к утру покрывалась льдом изнутри? В хорошую зиму у нас она покрыта льдом постоянно. Потому что если в Москве минус пятнадцать, то здесь минус двадцать, а ночью и все двадцать пять. Гонка за дровами превращается в навязчивую идею. Топить в такой мороз нужно два раза – утром и вечером. Поэтому каждый день мы возим тачки дров из дровницы в дом. Руки стали сильные, черные и мозолистые. Такую руку не стыдно протянуть для рукопожатия в сельском магазине или в кружке по домоводству для трактористов.
Вода у нас есть, и холодная, и горячая, – стоит котел, но питьевую воду мы берем из родника. В небольшом овраге, всего через дом от нас, прекрасный источник. Деревня наша вытянулась змейкой вдоль бывшей реки, ныне это ручей с метр шириной. Ручей никогда не пересыхает благодаря множеству ключиков, бьющих из земли то там, то здесь. Практически у каждого домовладельца, если поискать, найдется на участке свой персональный родник с чистейшей водой. Но один родник особенно мощный: вода под сильным напором выходит из земли и попадает в трубу – приручен и облагорожен. Родник этот – местная достопримечательность. За водой приезжают и из окрестных сел, и из ближайших городов. А в ночь на Крещение сюда настоящее паломничество. Потому что «днесь вод освящается естество».
Но мороз – это ладно, а если снегопад… Я расскажу, каково это – утро в деревне в снегопад века. Просыпаешься от того, что чувствуешь: нос холодный. Идешь печку топить. А, нет, дров не запасла с вечера. Подходишь к входной двери – раз, два, а дверь приморозило. Со всей дури плечом шарахнешь – щелочка приоткрылась. Руку сложишь мышиной лапкой и начинаешь так скрести в щелочку. Как пошире просвет станет – открываешь дверь и встречаешь сугроб. Из-за сугроба выглядываешь на улицу: что там? А там по-пушкински: под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце. Снег. Ну, берешь лопату и продираешься к дровам.
Так, гуси! Надеваешь енотовую шубу, специальную, на случай сильных морозов, прокапываешься к гусям. Полчаса работы, всего-то. Гуси орут и сбиваются к забору, потому что натурально думают, что это енот пришел. Лица-то не видно. Ставишь гусям еду. Опа – вода замерзла. Ведро под горячую воду – обратно к гусям. Отдираешь гусей от забора, прикидываешься человеком. Гуси жадно пьют, оглядываясь. Уходишь. Топишь печку.
«Будешь плохо учиться, пойдешь дворником работать!» – никогда в детстве меня эта фраза не пугала. И не от зловредности характера, в данном случае, по крайней мере. Дворникам я, напротив, завидовала. Шла рано утром в школу с тяжелым портфелем, плелась в печали даже, а не шла. И перед моим мысленным взором вставали они: все крики учителя, вся тоска математики, все будущее галерей и музеев на уроке истории.
Ничего хорошего не воображалось, да еще в такую рань. А тут они – дворники. Я наблюдала, как они, свеженькие, раскрасневшиеся на морозе, чистят снег.
«Вот великолепное времяпрепровождение! – думала я. – Вот отсутствие забот и радость жизни. Вот все шалости фей, все дела чародеев!» С каким бы удовольствием я бросила портфель и принялась кидать мягкий снежок! Потом дворник, красный с мороза, чуть пьяный от долгой работы, идет домой, долго пьет чай с ватрушками или там пышками, и так целый день – снег, пышки, снег. Мечта!
Кто ж знал, что в деревне мечта меня немилосердно настигнет? Снег идет третий день подряд. За ночь наметает примерно с полметра. И каждый день я осваиваю профессию мечты. «Доколе?» – спрашиваю я гусей и уток, которых зачем-то поселила в конце участка, за сто метров от дома, да еще в разных углах.
«Доколе?» – вопию я, расчищая гараж, чтобы поехать в магазин за горбушей, свежей горбушей. И это еще никаких пышек и ватрушек дома. Доколе? Но…
Все злей и свирепей дул ветер из степи… Все яблоки, все золотые шары.
Рождественский пост. Сказка на ночь
– А у них пост, – размышлял Марсик, лежа на крыльце и ловя пузом снежинки. – На нас это как-то отражается? Никак!
– Раньше они добрее были, косточку зароешь, можно месяц не вспоминать, а теперь? Каждая на счету! – жаловался в ответ дворняга Гошка и лязгал зубами.
– Касаемо нас, – ежик не терпел фамильярности в общении, особенно в касании, – даже просыпаться не хочется! Что нас ждет? Постные щи?!
– Постное они все сами съедают, подчистую! – выпучил глаза Гошка.
– А ты не части! Часто-часто что-то получаем, – прочирикал воробей и спикировал на перила.
Марсик облизнулся и даже попытался приподняться, но передумал – лежать было хорошо.
– Честь имею! – поклонился воробей. – Я чую, синички чахнут.
– Еще бы, сало-то все… иссякли запасы. Семечки жуют, а раньше лоснились воронам на зависть. – Гошка злорадно тявкнул и взвыл на луну.
– Противно просыпаться, – мямлил ежик из-под снега. – Кротик все глаза выплакал, сказывают.
– Чушь! Молод и не чуток! – отвернулся воробей и повалился в снег.
– Хорошо… – мурчал Марсик, переваливаясь на толстый живот, – пускай там у них пост, хорошо… сытно.
– Побреду, – отозвался Гошка, – побираться буду, не гордый.
А снег все падал и падал. Да еще изредка сквозь облака показывалась луна. Круглая, как головка сыра.
Сегодня полезла менять лампочку в ванной, и меня тряхануло током. Это новое милое потрясение пошло мне на пользу, конечно. Я стала живее и благожелательнее. Вообще, если живешь в деревне, тебя часто потряхивает. То, пока несешь дрова до дома, упадет полено на ногу – бодрость и пробуждение жизненных сил. То, пока чистишь дорожки от снега, на голову свалится сугроб с крыши – морозная свежесть и радость. То утром, когда принимаешь душ, вдруг замкнет насос, и на тебя польется кипяток – новые навыки и развитие реакций. Гораздо больше возможностей для личностного роста. Я обсудила это открытие с гусями. Нет, а с кем еще? Если я выйду на улицу, то превращусь в йети, пока кто-либо пройдет мимо меня: по деревенской улице люди ходят только в одном направлении – за водой. И то не все, и то раз в сутки. Я, конечно, могла бы позвонить соседке, но у гордых северян не принято беспокоить человека, смотрящего на огонь. А зимой мы только и делаем, что топим печки и смотрим на огонь. Гуси прогоготали что-то о том, что в любом случае находят меня привлекательной. Так что трудности деревенской жизни – это прекрасно. Я постоянно в тонусе и намного бодрее городских. Глаз искрится, волосы ровнехонько дыбом, спинка прямая и не разгибается, носки врозь (шерстяные) – все отлично у меня.
Единственный минус зимы в деревне (не считая еще нескольких единственных минусов) – толстеешь от малой подвижности. Как это стало заметно? Во-первых, то самое серенькое пальто, которое я носила с института, вдруг стало оттопыриваться и трещать при резких движениях. Впрочем, я все же надела его однажды, когда выезжала в город, и это был тот самый единственный раз, когда в метро на меня безотрывно смотрел мужчина, при этом он сидел рядом, а не напротив. Честно? Я пересела.
Во-вторых, друзья стали говорить, что у меня женственная фигура. «Ты расцвела!» Они всегда боялись меня задеть, бедняги… И, наконец, мы с Таней купили весы. Красивые весы с котами, которые делают зарядку. Поставили на пол, потом запаковали в пакетик, чтоб не пылились. Марсик взвесился, взвыл и кинулся на подоконник. А мы пока взвешиваемся частями, чтоб не травмировать психику. Рука – пять килограмм, нога еще пять, потом соберем пазл. Хотя как взвесить сердце? Хотя как взвесить сердце… полное тревог?
В первом классе у меня уже была история, печальная история, поэтому я знаю, как вес может свести на нет самые радужные перспективы в отношениях. Это была первая любовь, он поднимал мои краски, которые я расшвыривала на уроке изо, мы оба были очкариками, в общем, прекрасная пара. И вот он захотел совершить нечто большее – подвиг в духе рассказов про Чука и Гека, или что там читают в первом классе? Однажды на перемене, увидев, как я поднимаюсь по лестнице, он подбежал ко мне, вскричал: «Я тебя донесу» – и поднял на руки. Собственно, на этом история любви и закончилась. Когда через несколько секунд, весь красный от натуги, он опустил меня на пол со словами «тяжеловата», я поняла, что отныне краски мне придется собирать самой. Нет, тогда-то я еще была худой, форма висела на мне, как на вешалке, и на природоведении я вполне подходила в качестве пособия по анатомии скелета. Но… как важно, чтобы тебя смогли поднять по лестнице! Тяжелая кость, тяжелая кость…
Надо что-то делать, короче. Зарядку, что ли, с дровами вместо гантелей?
Лес
Вокруг нас поля, но за и между полями – леса. Дремучие, почти муромские. Осенью начинается грибная охота.
Белые растут семьями, подосиновики стадами, черные грузди кланами и т. д. Холодильник приспосабливается – кастрюли с солеными груздями-подосиновиками-белыми исчезают в нем бесследно.
Осенью во мне проснулись древние корни, и я, сразу исключив охоту и рыболовство, занялась собирательством. К собирательству добавилась женская страсть запасать. Собранные грибы метались в кастрюльки, ибо соленые грибы – это то, что украшает мою жизнь. У кого-то бриллианты, а у меня соленые грибы, в основном грузди, по-местному – зеленухи.
Белые тоже шли табунами. Но, уходя в леса за белыми, мы все равно находили грузди: они знали, кто обеспечит им всеобщий почет и хлеб-соль, то есть соль. Однажды я набрела на стойбище нетронутых зеленух размером с летающую тарелку. Как известно, грузди растут семьями, и я решила никого не разлучать – брала всех. Тазик с зеленухами размером с мою голову отмокал на улице трое суток. Я полагаю, что именно в эту триаду ежики решили досрочно впасть в спячку во избежание увечий при попытке перевернуть тазик.
В октябре мы решили, что надо разнообразить грибное меню, и отправились в молодые посадки за рыжиками. Они росли прямо-таки народностями, за полчаса я набрала полную корзину и начала эстетствовать – брала только младенцев, спасая их от червивой старости. «Царский гриб, можно есть сырым», – сказали мне. Что ж, это очень помогло бы, если б я заблудилась.
Вообще, с ориентацией на местности у меня беда, потому лес постоянно оглашается моими криками. В ответных возгласах я именуюсь разными именами.
– Ау, – кричу я.
– Ваааля, – кричит кто-то.
– Ау, – это я.
– Коооля, – кто-то.
В результате у всех в лесу ощущение общности и единства – все мы занимаемся любимым делом, все близки и довольны. И вовсе не обязательно так нервничать при встрече. Я имен не называла.
Однажды мы серьезно заблудились. Брели по бурелому, бестолково, без плана, без стратегии. В руках полные корзины грибов. Если падали, то носом, в мох. Руки-то заняты. Если б не было мха, не падали б, стояли намертво. Через два часа кружения по лесу мы сообразили, что можно бы и позвонить в деревню, узнать у старожилов, куда идти по солнцу. Был шанс, что успеем выйти до заката, ибо высекать огонь из мобильных телефонов нас в кружке юных натуралистов не учили.
Когда мы вышли, я как-то по-новому взглянула на грибы. Когда бродишь по бурелому два часа с полными корзинами, грибы перестают быть «даром леса», как ни крути. «Возьми свое, о лес!» – сказал бы кто-то и кинул корзинку через левое плечо. Кто-то, но не мы. Мы не суеверны и жадны.
Храм в деревне
Место, где стоял храм, свято навеки. Моя подруга говорит: «Не улетает ангел». Когда папа купил дом в деревне Владимирской области, мы, конечно, не знали, что напротив него не пустырь, а фундамент бывшего храма. Выделялось это место только тем, что именно здесь шумело-цвело поле невероятно высокого иван-чая.
Скоро деревенские жители узнали, что в деревне купил дом батюшка, нам рассказали про храм и про то, что строил его человек, который когда-то жил в доме, который мы купили, – Алексей Кузнецов. Он держал ягодные и фруктовые сады, а на вырученные деньги построил храм.
Тогда по просьбе папы местный житель Сергей расчистил фундамент.
Храм по фундаменту оказался небольшой, почти часовня, но в краеведческом музее города Юрьева-Польского папе рассказали, что часовня впоследствии была освящена именно как храм Сергия Радонежского. Нам показали письмо-прошение на имя архиепископа Владимирского и Суздальского от крестьянина деревни Товарково Алексея Кузнецова, датированное 1914 годом. Письмо гласило:
«С надлежащего разрешения и по одобренному епархиальным начальством плану, мною устроена на собственные средства в д. Товарково входная каменная часовня в память священного коронования здравствующих милостию Божиею Их Императорских Величеств. Часовня эта приписана к приходскому храму в с. Кузьминское и причтом его освящена 10-го числа месяца июля 1913 года.
В настоящее время у меня созрело намерение превратить эту часовню в храм, посвятить его покровительству преподобного отца нашего Сергия игумена Радонежского чудотворца. Все расходы я принимаю на свой счет».
Разрешение на переоборудование часовни под храм было получено, благочинный священник Василий Тростин (так указано в документах) произвел обмеры часовни (длина от входных дверей до иконостаса 9 ¼ аршин, длина от царских дверей до окна 4 аршина…), и освящение состоялось 19 июня 1916-го. Узнав все и сопоставив невероятность совпадений (мы живем в доме строителя храма!), папа, конечно, особо не раздумывал: храм нужно было восстанавливать, благо папин друг – прекрасный архитектор
Алексей Мамонов.
Строительство началось в 2009 году, за лето построили цокольный этаж, а осенью родители попали в автокатастрофу. Мама больше не встанет, а папа успеет закончить строительство, освятить крест и увидеть написанный иконостас, правда, не установленный.
