Похождения Фауста. Торжествующая преисподняя
Размер шрифта: 13
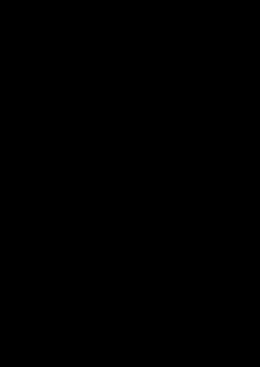
© А. И. Фефилов, 2025
ISBN 978-5-0067-5032-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Продолжить чтение
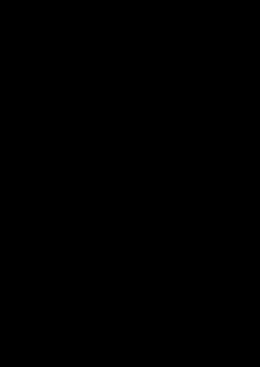
© А. И. Фефилов, 2025
ISBN 978-5-0067-5032-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero