Последний дар
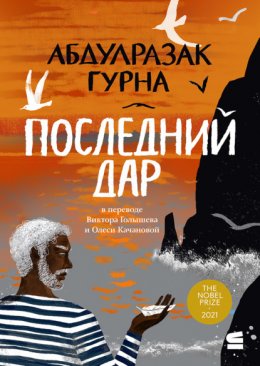
Copyright © Abdulrazak Gurnah, 2011.
First published in 2011 by Bloomsbury Publishing.
Издается с разрешения автора при содействии его литературных агентов Rogers, Coleridge and White Ltd.
© Абдулразак Гурна
© Олеся Качанова, перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. Строки, 2023
Однажды
Однажды, задолго до неприятностей, он украдкой выскользнул из дому и больше не вернулся. А сорок три года спустя упал на пороге своего дома в английском городке. Час был поздний, он возвращался с работы, да и вообще было поздно. Он слишком долго откладывал, и винить было некого, кроме себя.
Он чувствовал приближение катастрофы. Не со страхом перед крушением, который жил в нем с тех пор, как он себя помнил, а с таким чувством, как будто надвигается на него что-то упорное, мускулистое. Это не был удар из ниоткуда, а скорее похоже на то, что какой-то зверь медленно повернул к нему голову, узнал его и двинулся его душить. В голове было ясно, силы вытекали из тела, и в этой ясности он подумал – не к месту, – что так, наверное, умирают с голоду, или на морозе, или когда булыжник вышибает из тебя дух. Он даже поморщился, несмотря на тревогу: смотри, какую мелодраму устраивает усталость.
Он ощущал усталость, уходя с работы, – такая усталость, бывало, наваливалась на него в конце дня, а в последние годы всё чаще: хотелось сесть и ничего не делать, пока слабость не пройдет или чьи-нибудь сильные руки не поднимут его и не доставят домой. Он состарился – или старел, если сказать мягче. Желание было как будто знакомое, как будто вспоминалось что-то из давнего прошлого – как его подняли и доставили домой. Но он не думал, что это – воспоминание. Чем старше он становился, тем более детскими казались иногда его желания. Чем дольше он жил, тем ближе придвигалось его детство и всё меньше казалось далекой фантазией о чьей-то чужой жизни.
В автобусе он пытался понять причину своей усталости. И пытался уже столько лет разобраться, найти объяснения, которые ослабят страх перед тем, что преподносила ему жизнь. В конце каждого дня он прослеживал свои шаги, пытаясь определить ошибки, из-за которых обессилел к концу, – словно знание этого (или осознание) могло утешить. Во-первых, возраст, изношенность незаменимых деталей. Или утренняя спешка перед работой, хотя никому нет дела, если он опоздает на несколько минут, а его до конца дня будут мучить одышка и изжога. Или заваренная в общей кухне чашка паршивого чая, после которого бурчало в животе и подкрадывалась изжога. Молоко целый день стояло в кувшине, незакрытое, собирало пыль, поднятую входящими и выходящими. Не надо было трогать это молоко, но он не мог устоять перед соблазном. Или потратил много сил, неумело и без нужды поднимая и двигая тяжелые вещи. Или просто заболело сердце. Он никогда не знал, в какую минуту оно заболит, с чего и надолго ли.
Но сейчас, в автобусе, он чувствовал, что с ним происходит что-то необычное. Накатывала беспомощность, отчего он невольно хныкал, его плоть разогревалась и съеживалась, заменялась неведомой пустотой. Происходило это медленно, дыхание сбилось, он дрожал, потел и видел себя кучкой, человеческим оползнем – тело ожидало боли, растекалось. Он видел себя со стороны, в легкой панике от медленного, неостановимого распада грудной клетки, бедренных суставов, хребта, словно тело и сознание отделялись одно от другого. Резко кольнуло в мочевом пузыре, и он задышал часто, испуганно. «Что с тобой? Припадок? Прекрати истерику, дыши глубже», – приказал он себе.
Он вышел из автобуса, дрожа от слабости, заставляя себя глубоко дышать. Февральский день выдался неожиданно холодным, и он был одет не по погоде. Люди вокруг были в тяжелых шерстяных пальто, в шарфах и перчатках, зная по опыту, какой холод их ждет на улице, – а он, прожив здесь много лет, как будто не знал. Или, в отличие от него, люди слушали сводки погоды по радио и телевизору и радовались, что у них есть одежда на такой случай. А он из месяца в месяц носил одно и то же пальто, спасавшее от дождя и холода, но и не слишком теплое для мягкой погоды. Он так и не привык набивать шкаф одеждой и обувью для разных случаев и сезонов. Это была привычка к экономии, он мог уже об экономии не заботиться, но расстаться с привычкой не мог. Он любил донашивать вещи, в которых ему удобно, и ему нравилось думать, что если бы повстречался с собой, то узнал бы себя издали по одежде.
В этот холодный февральский вечер он расплачивался за свою умеренность, или скупость, или аскетизм – за что-то такое. А может быть, дело было в беспокойстве, ощущении себя пришлым, не сросшимся с окружением – легко одеться и тут же сбросить всё с себя, когда понадобилось тронуться с места. «Поэтому и холод», – думал он. Неправильно оделся по глупости, и от холода била дрожь – внутренняя, неудержимая, костяк его готов был вот-вот распасться. Он стоял на автобусной остановке, не зная, что делать, слышал собственный стон и сознавал, что потеряна связь с окружающим, словно задремал на миг и очнулся. Он заставил себя идти, руки и ноги будто лишились костей, и дышал тяжело и отрывисто. Ступни налились свинцом, онемели, от них растекался холод по всему телу. Наверное, надо было сесть, подождать, когда отпустит спазм. Но нет, сесть можно только на тротуар, его примут за бродягу, а то и вообще больше не сможет встать. Он заставил себя двигаться, один трудный шаг за другим. Главное – добраться до дома, пока не иссякли силы, пока не свалился в этой пустыне, где тело его разорвут и разбросают куски. Дорога от автобусной остановки до дома занимала обычно семь минут – шагов пятьсот. Иногда он считал их, чтобы заглушить шум в голове. Но в этот вечер дорога заняла, наверное, больше. Так казалось. Он даже не был уверен, что хватит сил. Казалось, он обгонял кого-то, но временами спотыкался и вынужден был на несколько минут или секунд прислониться к стене. Уже невозможно было понять. Зубы стучали, и, подходя к двери, он обливался по́том. Он открыл дверь и сел в передней, больше не сопротивляясь жа́ру и тошноте. И какое-то время ничего не помнил.
Его звали Аббас, и приход его был шумным, хотя он этого не сознавал. Его жена Мариам услышала, как он возится с ключами и как захлопнулась дверь, а обычно он входил тихо. Иногда Мариам даже не слышала, как он вошел, и он появлялся перед ней с улыбкой, довольный, что опять застал ее врасплох. Такая у него была шутка – чтобы она вздрогнула от неожиданности его появления. В этот вечер она вздрогнула от звука ключа в замке и в первую секунду обрадовалась, как всегда, его приходу. Но потом хлопнула дверь, и послышался его стон. Она вышла в переднюю: он сидел прямо перед дверью, раскинув ноги. Лицо было мокрым от пота, он тяжело дышал, растерянно моргая.
Мариам опустилась на колени рядом.
– Аббас, Аббас, что с тобой? Ах!
Она взяла его потную ладонь. Как только она до него дотронулась, он закрыл глаза. Он сидел с открытым ртом, тяжело дышал, и промежность у него была мокрая.
– Я вызову скорую, – сказала она.
Она почувствовала, что рука его чуть сжалась, и он со стоном выдавил:
– Нет. – А потом шепотом: – Дай отдохнуть.
Она села на корточки, испуганная его беспомощностью, не зная, что делать. Тело его напряглось от приступа боли или тошноты, и она снова сказала: «Аббас, Аббас» и крепче сжала его руку. Немного погодя он почувствовал, что успокаивается.
– Что ты наделал? – сказала она шепотом, ему и себе. – Что ты сделал с собой?
Почувствовав, что он хочет встать, она обняла его одной рукой за плечи, помогла подняться по лестнице. Не доходя до спальни, он снова задрожал, и Мариам, приняв на себя его вес, почти втащила его по последним ступенькам к кровати. Она торопливо раздела его, обтерла мокрые места и укрыла. Почему надо было сперва раздеть его и вытереть и только потом укрыть, она даже не задумалась. Наверное, это было инстинктивное уважение к достоинству тела. Потом легла рядом с ним на одеяло; он дрожал, стонал, всхлипывал и повторял: «Нет, нет», снова и снова. Когда дрожь и всхлипывание затихли и казалось даже, что он стал засыпать, Мариам спустилась и позвонила в неотложную помощь. Врач появилась через несколько минут – неожиданно для Мариам. Это была молодая женщина, Мариам раньше не видела ее в больнице. Она вошла стремительно, с приветливой улыбкой, словно ничего исключительного или пугающего не произошло. Вслед за Мариам она поднялась наверх, посмотрела на Аббаса и огляделась – куда поставить сумку. Все ее движения были обдуманными, словно она убеждала Мариам не паниковать, и в самом деле присутствие врача Мариам несколько успокоило. Врач осмотрела Аббаса, измерила пульс, прослушала стетоскопом, проверила давление, посветила фонариком в глаза, взяла пробу мочи и опустила туда лакмусовую бумажку. Потом стала расспрашивать его, что случилось, и повторяла вопросы, пока не получала внятного ответа. Манеры и речь ее были вежливыми, заботливыми, но не озабоченными, и она даже находила время улыбнуться Мариам, пока обсуждали, что надо делать дальше, – зубы у нее были ослепительно-белые, а русые волосы блестели в свете лампы. «Как их учат быть такими?» – удивлялась про себя Мариам. Как их научают обращаться с поврежденными телами так спокойно и уверенно? Как будто она имеет дело с испортившимся радиоприемником.
Доктор вызвала перевозку, и в больнице Мариам сказали, что у Аббаса случился диабетический криз – не кома, но достаточно серьезный. Сказали, что это поздний диабет, который развивается у пожилых. Обычно он лечится, но, поскольку больной о нем не знал и не получал лечения, случился криз. Сейчас трудно определить в точности, насколько серьезны могут быть последствия. Был ли диабет в его семье? У родителей, дядьев, теток? Аббас сказал, что не знает. На следующий день его осмотрел специалист – сказал, что угрозы жизни нет, но, судя по моторике, возможно, есть мозговые нарушения. Пугаться не надо. Некоторые утраченные функции могут восстановиться, а могут и нет. Время покажет. Кроме того, он перенес небольшой инсульт. Регулярное обследование прояснит картину и стратегию лечения, а пока что он останется под наблюдением в больнице еще на день и, если осложнений не будет, может отправляться домой. Был выдан длинный список запретов, прописаны лекарства и домашний режим. Ему шел тогда шестьдесят четвертый год, но дело было не только в этом.
Мариам позвонила детям – Ханне и Джамалу. Рассказала, что случилось, и успокаивала их снова и снова, чтобы они не мчались домой. «Если не будет осложнений, завтра он вернется домой», – сказала она.
– Что значит «осложнений»? – спросила Ханна.
– Так сказал доктор: если не будет осложнений, – ответила Мариам.
Она переняла тон у больничного персонала – там старались соблюдать спокойствие, и, наверное, так было лучше для Аббаса, а если Ханна и Джамал сорвутся и приедут, для него это будет лишним волнением. Она сама работала в больнице и знала, что люди иногда устраивают ненужную суету вокруг больных родственников.
– Его лечат. Говорят, состояние стабильное. Нет, незачем сюда спешить. Он никуда не денется. Конечно, можете приехать и навестить его когда угодно, но мчаться незачем. Приезжайте, когда хотите. Сейчас всё спокойно. Его лечат. Нет, Джамал, ежедневных инъекций не требуется. Сейчас его колют, но это временно. Он будет принимать лекарства, соблюдать диету, и за какими-то вещами я должна постоянно следить. За какими? За трещинами и потертостями на ступнях, за сахаром в крови и прочим. Меня научат. Он поправится. Силы постепенно вернутся. Не волнуйся, всё будет хорошо. Да, да. Приезжайте как-нибудь, навестите его.
Болезнь отняла у Аббаса силы. Даже от небольшого усилия он дрожал, потел и жалобно хныкал. Не мог сесть без посторонней помощи. Вечно был голоден, но от еды его мутило. Слюна была горькой, изо рта пахло, как из стока. Глотал с трудом, давился едой. Пришла сестра из диабетического отделения, объясняла ему (и Мариам), как он должен следить за собой. Она расписала правила, надавала брошюрок и советов и, ворча, удалилась. Он еще больше обессилел от ее визита. Даже через несколько дней он все еще не мог самостоятельно пройти несколько шагов до уборной, и, уходя из дому, Мариам ставила ему на всякий случай пластиковое ведро. Однажды он им воспользовался и сидел на нем, как маленький, кряхтя и стеная, пока опорожнялось тело, в стыде за растраченную и лживую жизнь. Потом он не мог подмыться, как обычно. Он так и не привык пользоваться бумагой и чувствовал себя испачканным, взбираясь в постель, ощущал засохшее вещество в заду. Иногда он забывался сном или уносился в какие-то глубокие безмолвные места, уносился беспомощно в ненавистное. Даже в забытьи он сознавал, что слишком долго откладывал, как сознавал наяву все годы. Ему о стольком надо было рассказать, но он укрылся молчанием и теперь закаменел в нем. Иногда ему казалось, что он уже ушел, что до него не достать, он висит на тонкой веревке, катушка разматывается и сам он растворяется постепенно. Но он не умер, он просыпался и вспоминал иногда повторявшийся сон в бытность его моряком: во сне он висел на веревке, растворяясь в набегавшей воде.
Немного окрепнув, он сделался раздражительным, злился на свою слабость, а выражалось это в сердитых упреках жене. Слова его ранили Мариам, но он не мог сдержаться. Порой ему бывало невыносимо, когда она входила в комнату, болтала о чем-то, что-то искала в шкафу или в тумбочке, трогала его лоб ладонью, приподнимала его, чтобы сменить подушки, приносила ему из кухни радио. «Оставь меня в покое. Перестань суетиться». А иногда невыносимо было ее отсутствие, ее отлучки, и он плакал от жалости и отвращения к себе. «Я этого не вынесу. Больше не могу выносить». Он был грешным странником, захворавшим в чужой земле, после жизни такой напрасной, напраснее которой быть не может. Говорить не давала боль в груди, объясниться мешала усталость. Слова не складывались осмысленно, он видел это по недоумению на ее лице. Он не мог заставить себя говорить так, чтобы ей было понятно. Он хотел, чтобы его оставили одного, но, когда пытался сказать это ей, выплевывал только ругань и плакал от бессилия.
Но сил прибавлялось. Он мог сам спуститься по лестнице и при надобности подняться обратно, только медленнее. Мог уже глотать свободно и привыкал к новой диете – оказалось, не такой уж трудной, если не считать запрета на сахар и соль. Сказал ей, что сможет обходиться сам. А ей пора выйти на работу. Он не инвалид, просто немного ослаб. Если не торопиться, он справится самостоятельно.
Через три недели она вышла на работу, для него это было облегчением, хотя целый день не с кем было перемолвиться словом. Он пробовал читать, но не мог сосредоточиться, и руки уставали держать книгу. Но он уже немного окреп и, когда поправится, поговорит с Мариам обо всем, что скрывал от нее.
Мариам работала в больнице, но не делала ничего героического, жизни не спасала. Она работала в столовой для персонала и посетителей и поняла, что если еще задержится с выходом на работу, то потеряет место. Об этом ей сочувственно сказала по телефону заведующая столовой, когда она хотела отпроситься еще на две недели. Конечно, за свой счет – всего две недели, убедиться, что Аббас справится самостоятельно. Но заведующая сказала: нет, извини, рабочих рук не хватает. Мариам работала здесь давно, заведующая тоже, но времена были трудные, рабочих мест мало. Ни заведующей, ни ей деваться было некуда. Мариам с ее квалификацией не на что было рассчитывать. Она работала в больнице двадцать лет: сначала уборщицей, пока не появились дети, – тогда они решили, что посидит дома с ними; а потом, когда дети подросли, устроилась в столовую больницы. Она часто думала, что надо бы заняться чем-то другим, более интересной работой, чтобы больше уважать себя и, наверное, больше зарабатывать, но так ничего и не поискала. Когда заговаривала об этом с Аббасом, он кивал или мычал согласно, но никак ее не поддерживал. Она не представляла себе, какой может быть более интересная работа, наверное, и он не знал. Всю жизнь она занималась теперешней и знала многих в больнице. Работники приходили и уходили, но небольшая группа держалась с давних времен. Мариам не хотела потерять место, тем более когда Аббас в таком состоянии. Не могла она сказать заведующей: «Подавись этой жалкой работой, я терпеть ее не могу. Найду место в банке». Ничего такого она не могла сделать. И она привыкла к тому, как работа наполняла ее жизнь. Так она жила всю жизнь, всегда довольствуясь малым, всегда поступая так, и теперь было поздно выламываться, рисковать. Для этого у нее никогда не было сил.
В первые дни на работе она не могла отойти от потрясения из-за того, что случилось с Аббасом, – он почти никогда не болел, а теперь был слаб, потерян, без всякой причины плакал и всхлипывал. Особенно тяжело было думать об этом в его отсутствие. Когда он был рядом, она могла отвлечься домашними хлопотами, хотя временами мучительно было даже приближаться к нему. А в его отсутствие он являлся ей отрывочно, в тяжелых эпизодах, которые она не могла выгнать из памяти. На работе спрашивали о нем, она отвечала кратко, по возможности оптимистическими сводками. Сводки помогали ей свести потрясение к чему-то более обыденному, свести происходящее к обычным драмам. У кого не было отца, или сестры, или мужа, или соседа, борющегося с долгой болезнью или ожидающего трудную операцию? После своих сводок она выслушивала таких коллег, и вместе им удавалось сделать трагедии чем-то переносимым, они винили в беде врачей, судьбу, себя нескладных. Так было легче. Это были не такие друзья, каким захочешь открыть душу. Таких у нее и не было, кроме Аббаса. Она боялась, что если заговорит откровенно, то хлынет поток пустого сочувствия, а большего, она полагала, бессмысленно ожидать от сослуживцев. Да, вероятно, и от нее самой, если бы кто-то из них захотел излить душу. Достаточно человеческого отношения и глубоко не закапываться – достаточно.
Не хотелось думать, как он там сейчас. Не думать хотя бы несколько часов в день – но не удавалось. Нехорошо оставлять его одного на весь день, но врач говорила, что он поправляется и попробовать стоит. Лекарства действуют, он окрепнет. «Не хлопочите над ним всё время, – сказала она, – пусть понемногу привыкает к самостоятельности». И он сам сказал: «Перестань хлопотать». Она понимала, что он хочет побыть один дома, в тишине, помолчать. Но нехорошо, когда он сам не может справиться, проливает что-то, пачкается, целый день сидит и плачет в одиночестве. Ее обижало, что он грубо с ней разговаривает, чего не бывало прежде, – но надо привыкать. Он нездоров, и вообще, хлопотать она будет столько, сколько надо, – как же иначе?
Это их лечащий врач, доктор Мендес, сказала: «Не хлопочите над ним всё время, пусть привыкает к самостоятельности», – хотя сама была хлопотуньей, каких поискать. С Мариам она разговаривала всегда строго, с тех еще давних пор, когда Мариам впервые привела к ней детей. Ее инструкции следовало выполнять досконально, а в диагнозах часто сквозил упрек, как будто вина лежала на Мариам. Доктор Мендес была испанка и очень упрямая, на взгляд Мариам. Она была одних лет с Мариам, пользовала их уже много лет и, матерея с возрастом, походила теперь на женщину-борца. Может быть, Мариам была сама виновата, что допустила в обращении с собой грубый тон, но врач разговаривала с ней так, как будто она и за собой плохо следит. Когда у Аббаса определили диабет, она и его отчитала за беспечность. Пожилые считают ниже своего достоинства проверяться у врача, пока не произойдет с ними что-то страшное, и тогда они становятся для всех обузой. В его возрасте он должен был регулярно делать анализ крови – у него давно бы нашли диабет и занялись его сердцем. Теперь их детям придется делать анализ крови как минимум ежегодно. Это наследственная предрасположенность. Хорошо еще, что Аббас был так слаб: будь он покрепче, он не потерпел бы такого тона, даже в разговоре с врачом. Пока упрямая испанка отчитывала Аббаса, Мариам показалось, что на лице его мелькнула проказливая улыбка, – насмешливый комментарий он приберегал до той поры, когда будут силы, подумала она.
Она вспоминала его таким, каким он был много лет назад, когда они познакомились в Эксетере. С тех пор как он заболел, вспоминала часто – мужчину, с которым познакомилась семнадцатилетней, – не сравнивая, не огорчаясь, что он теперь не такой, а с удовольствием. Образ возникал вдруг, и она улыбалась. И, может быть, скорбела о том покое, который исчез навсегда.
Впервые она увидела его в Бутсе, в Эксетере, так давно, будто в воображаемой жизни. Они стояли в очереди, и он улыбнулся. Люди не всегда улыбались, встретив ее взгляд, – так ей, по крайней мере, казалось. Чаще всего она отворачивалась до того, как могла прочесть что-то в их глазах; может быть, они и улыбались вдогонку, но в те времена она боялась наткнуться на презрительный, насмешливый взгляд и предпочитала не видеть. Он был поджарый, сильный, темнокожий, в свитере с высоким воротом и джинсовой куртке. В очереди он стоял впереди нее, поглядывал из стороны в сторону, и она могла хорошенько его разглядеть. Потом он оглянулся назад, увидел ее, посмотрел еще раз и улыбнулся. Улыбка эта была ей приятна – как будто он увидел знакомую и оба они знали что-то, чего не знали остальные. Она не удивилась, когда выяснилось, что он моряк. По нему было видно, что он много где побывал, занимался разным и знал, что такое свобода. Она родилась в Эксетере, больше нигде не бывала, ничем не занималась. В то время она жила с Феруз и Виджеем, и жилось ей уже трудновато. Вспоминая Феруз и Виджея, она невольно морщилась даже спустя столько лет и расправляла плечи, мягко оттесняя воспоминания.
Еще ничего не зная об Аббасе, а только глядя на него, она чувствовала, что у него за плечами всякое. Такое у него было выражение глаз, недобрый взгляд, говоривший: «Я это смирно не приму, всё равно, что вы там задумали». Надо было признать, что взгляд был недобрый. Узнав его лучше, она увидела, что выражение это у него не всегда, а только когда ему не нравится то, что он видит или слышит, когда заподозрил, что к нему отнеслись неуважительно. Этого он всю жизнь не выносил, иногда до глупости. Случалось, взгляд его был горящим, огонь в глазах, лицо сердитое и решительное, словно в мыслях он пребывал где-то не здесь. Но, за исключением таких вспышек, глаза у него были большие и спокойные, как у человека, который любит видеть, и при первой встрече она подумала, что этот человек любит делать людям приятное.
Да, таким она его навсегда запомнит, пока жива память, – худощавым, беспокойным мужчиной, который повстречался ей в год окончания школы. Тогда она работала в кафе и такой же работой занимается, вот, всю жизнь. Она думала тогда, что, если заработает денег, то съедет от Феруз и Виджея и поселится с какой-нибудь из подруг по работе. Но денег было мало, работа тупая, хотя товарок она любила. Это важно было в ту пору, хотя жизнь не баловала – работать среди людей, с которыми ладишь, готовых смеяться по любому поводу, как будто вся их жизнь – дурацкая шутка. Позже она нашла лучше оплачиваемую работу на фабрике – тогда-то она и увидела Аббаса снова. Она по-прежнему захаживала в свое кафе – выпить чаю, повидать бывших подруг, – и всегда её там угощали бесплатным пирожным. Там и увидела его второй раз. Он взглянул на неё и узнал. Постоял в нерешительности, она ему улыбнулась, и он подошел. Еще на миг задержался с подносом и сел.
– Бутс, – сказал он с улыбкой.
– Приятно познакомиться, мистер Бутс, – сказала она, и оба рассмеялись.
Они немного поболтали, потом он попрощался и сказал: «Надеюсь, еще увидимся». Он назвал свое имя и сказал, что работает на судах. Она тоже назвалась и сказала, что работает на фабрике. Даже этот обмен сведениями почему-то показался забавным. Она знала, непонятно почему, что они снова встретятся. Ей не запомнилось, что говорил он и что говорила сама, сохранилось только ощущение от встречи, трудно определимое – волнение, предчувствие. Запомнилось, как он смотрел на нее, удовольствие в его глазах и чувство, которое вызывал у нее этот взгляд.
А третий раз они встретились – в счастливый третий раз, говорил он, потому что счастливым всегда бывает третий, – на фабрике. Было такой неожиданностью увидеть его там, и по его лукавой улыбке она поняла, что это не было случайным совпадением. Он сказал, что устроился здесь на работу, потому что хотел отдохнуть от моря. Он приехал в Эксетер на несколько дней к другу, и ему так понравилось, что решил побыть тут еще. А пока что устроился на фабрику – человек должен работать или будет обузой для других. Он подолгу торчал у ее рабочего места; в конце концов бригадир прогнал его, но он все равно приходил поболтать. Бригадир, тощий крысеныш, расхаживал с воинственным видом, ища, к чему бы придраться, и всех донимал. Аббас немедленно стал для него раздражителем и лишь через несколько дней научился избегать его внимания. Работа его была – снабжать необходимым несколько линий сборки, поэтому, когда ничего не требовалось, он мог свободно разгуливать, очаровывая работниц и стараясь не попасться на глаза бригадиру. Он проводил ее до дома, продолжая болтать, смешил ее и бессовестно ей льстил. Она понимала, что за ней ухаживают, и потом лежала в темноте, взволнованная происходящим. Так они ходили всю неделю, болтая, в третий день взявшись за руки, поцеловавшись на прощание в четвертый вечер, а в субботу легли в постель. Для нее это было в первый раз. Она сказала ему об этом заранее, на всякий случай. Она не знала толком, что может произойти, но слышала, что там что-то может прорваться, и пойдет кровь, пусть он знает. Он спросил, уверена ли она, что хочет, и она сказала: «Да». Он был такой красивый…
Мариам хотелось остановиться на этих воспоминаниях, представить себе Аббаса, какой он был красивый, когда они познакомились, но отвлекало присутствие Феруз поблизости. Она всё еще жила у Феруз и Виджея, а им не нравилось ее знакомство с Аббасом. Сначала не нравилось, что у нее завелся друг. Потом не нравился его возраст – в отцы ей годится. «Ему двадцать восемь лет, – ответила она, – так он сказал». Потом не нравилось, что он моряк. «Они все буйные и безответственные, – сказал Виджей. – Пьяницы. Он тебя просто использует. Таким только одно от тебя надо».
Это был ужасный вечер. Она должна была встретиться с ним у кино, но ее не отпустили и говорили с ней так встревоженно, что она не осмелилась уйти. А утром, когда все еще спали, собрала кое-что из одежды в хозяйственную сумку и пошла к нему, к Аббасу, туда, где он жил с другом. Наверное, он догадался, что она придет, что ее не отпустили вчера вечером. Было раннее утро, он стоял у окна, ждал ее и, как только увидел, сбежал вниз и привел ее в квартиру.
– Что у тебя случилось? – спросил он, введя в дом, и тихо, чтобы не разбудить товарища, закрыл дверь. – Я подумал… подумал, что ты больше не хочешь меня видеть.
– Меня не отпустили, – сказала она, и, несмотря на напряженность ситуации, ей было радостно видеть его волнение.
Мариам рассказала ему о домашних спорах и обидах, и он сказал: «Давай уедем отсюда». Она ответила: «Давай». Она была рада убраться подальше от этих ссор, уехать, забыть о них. Не знала только, имеет ли на это право, или Феруз и Виджей могут ее вернуть. Поэтому, когда Аббас сказал: «Давай уедем отсюда», она ответила: «Я с тобой, едем». Это был восторг – не задумываясь, прочь от опостылевшей стесненной жизни.
Увидев его недвижное тело у двери, она подумала о смерти – его смерти и своей. Позже она задумалась о своей жизни без него, о ее начале и бесконечных нежданных ее поворотах. О ее появлении в мире, о начале, рассказала Феруз. Ее нашли – подкидыша – перед дверью скорой помощи в больнице Эксетера. Ночной вахтер, чье имя никто не удосужился запомнить, вышел посмотреть на зарю и выкурить сигарету и увидел под ногами кулек. Он был завернут в вышитый кремовый платок, к которому был пришпилен коричневый конвертик, – как ярлычок или адрес доставки. Увидев, что в свертке младенец, вахтер, может быть, улыбнулся или задумался: то ли внести его в тепло, то ли вызвать кого-то, кто решит, как поступить. Сёстры частенько раздражались, когда он пытался помочь, – как будто он мог что-то сломать, или повредить пациенту, или просто окажется неловким. Так и не закурив, он отложил сигарету и пошел сообщить другому дежурному. Они вызвали старшую сестру; она подхватила и внесла сверток: Мариам представляла себе, что она осуждающе посмотрела на вахтеров, а они переглянулись – что ей не так?
В день ее драматического появления она была крохотная, весила не больше четырех фунтов, и возраст ее был не больше двух-трех дней. Осмотрев ее, врач сказал, что за ней хорошо ухаживали, а мать ее, судя по весу ребенка, вероятно, совсем молоденькая, но это лишь предположение. Мариам пыталась представить себе, какие лица были у доктора и старшей сестры, когда они обменивались впечатлениями. Каким словом они могли охарактеризовать ее юную мать в то время: «дурочка», «дрянь», «потаскуха»? Таких подробностей ей не сообщали, и приходилось добавлять несколько мазков, достраивать картину самой. Насчет вышитой кремовой шали, например, она не была уверена: то ли ей так рассказали, то ли она сама это домыслила. Такая вышитая шаль была у ее собственных детей, и порой, заворачивая их, она думала: «как моя мама», с нежностью к отсутствующей.
Между тем, пока доктор осматривал младенца, старшая сестра позвонила в полицию – вдруг мамаша еще где-то поблизости. Она подумала, что шаль сейчас нельзя трогать: могут сохраниться какие-то следы, которые помогут полиции в розыске. Неизвестно, какой ужас стоит за такими происшествиями. Вероятнее всего, незамужняя мать подкинула ребенка, чтобы избежать позора, или от отчаяния при мысли об одиноком презираемом материнстве, но возможно, что оставил ребенка кто-то из родственников, а не мать, или кто-то, желавший ей навредить. Во всяком случае, кто бы это ни сделал, это было преступлением. «Акт о преступлениях против личности от 1861 года», – сказала ей Феруз. Она сама его читала.
Полиция явилась немедленно, но не смогла найти мать или кого-то, кто оставил ребенка у больницы. На конверте не было адреса, а внутри – листок линованной бумаги, страница из школьной тетради. На нем было написано: Ее зовут Мариам, мне не позволили ее оставить. Судя по имени и цвету кожи девочки, мать ее была иностранка или, по изящному выражению той эпохи, цветная. Полиция знала, что в отношении незамужних матерей у некоторых пришлых больше предрассудков, чем у христиан, и порой из стыда они жестоко обходятся с дочерьми. Так что первой задачей полиции было обойти семьи иностранцев в городе и навести там справки. Сделать это было тем проще, что такие семьи были немногочисленны – шлюзы еще не открылись. Однако на платке были обнаружены светлые волосы, да и у ребенка волосики были светлые; впрочем, это не такая уж редкость, с возрастом они чернеют. Так что, возможно, иностранцем был отец ребенка и, сделав молоденькую девушку матерью, бросил ее, а родители, в свою очередь, заставили ее бросить новорожденную.
Полиция провела расследование, подозреваемые были, но определенно установить личность матери не удалось. Если бы с этим происшествием было связано другое преступление, расследование провели бы тщательнее, но тут был заурядный случай: девица расплатилась за свое легкомыслие, и, по всем данным – в сущности, лишь слухам, – наиболее вероятной подозреваемой уже не было в Эксетере. Мариам отдали приемным родителям. Датой ее рождения определили 3 октября 1956 года.
Приемными родителями стали мистер и миссис Риггс – пожилая чета, уже воспитывавшая двух маленьких девочек. Мариам всегда думала о них как о маме и папе, хотя прожила с ними всего несколько первых лет. Ей дали их фамилию: она стала Мариам Риггс. Самыми ранними были воспоминания о жизни с ними и комнате с двумя маленькими девочками.
Мать их была высокая, полная, медлительная женщина с родинкой на щеке. Родинка была большая, иногда мать расчесывала ее, кожа вокруг краснела и воспалялась. Разговаривала она с ними добрым, ворчливым, монотонным голосом, разговаривала всё время, даже когда оставалась одна. Когда сердилась, голос становился резким, слышать его было больно, он как будто ранил. Начав, долго не могла остановиться и даже от короткого слова или вздоха в ответ заводилась снова. Она кормила их тушеными овощами, разбавляла молоко водой из экономии, готовила им сладкие запеканки на нутряном сале и каменные оладьи. Называли они ее Мамой.
Дом был холодный. Они носили по несколько одежек, у Мамы платья были до щиколоток. В них она выглядела как женщина другой эпохи, и Папа иногда называл ее королевой Викторией. Детей она стригла коротко, чтобы не завелись, как она их называла, гниды. Купала раз в неделю, в мелкой оцинкованной лоханке, всех в одной воде, которую грела в кастрюлях. У Мамы были большие руки, она терла детей жесткой фланелевой тряпкой, стоя на коленях, на каменном полу, иногда с сигаретой во рту. Камин был только в одной комнате. Кухня нагревалась только готовкой и кастрюлями для купания; вода быстро остывала, поэтому мылись на скорую руку. Папа мылся после них, поэтому надо было успеть, пока вода для него не совсем остыла. После купания дети бежали наверх, скорее под одеяло. Рассказывая об этом купании своим детям, Мариам улыбалась и объясняла, что это было отчасти забавно.
Их отец работал в магазине ковров неподалеку и часто заглядывал домой. Прежде он был водителем фургона в этом магазине, но в войну был ранен во время бомбежки и теперь водить машину не мог из-за плохого зрения. Под правым глазом у него тянулся, как туннель, толстый шрам. Теперь магазин держал его для разных работ: он подметал, занимался мелкими починками и вообще помогал, где требовалась помощь. На работу он ходил в костюме и в галстуке – костюм был в елочку, старый и единственный. Мариам не догадывалась тогда, что папу держали на работе из доброты и жалованье он получал, наверное, маленькое. Всё это она сообразила позже, вспоминая его.
Дома папа вечно что-то чинил, рукодельничал, по его выражению, и курил трубку. Дома ее звали Мери, и она только гораздо позже узнала, что ее имя Мариам. Старшую девочку у них звали Мэгги. Ее имя постоянно было на устах у Мамы: принеси то, прекрати это, ты плохо кончишь, это точно. Вторую девочку звали Джилл, она была хворая. Детям разрешали сидеть в общей комнате после чая, когда родители слушали радио. Папа любил посадить кого-нибудь из девочек на колени, гладил их, целовал в щечку и называл их мальками. В семь часов вечера их отправляли спать, даже если светило солнце. Она не помнила, чтобы ее хоть раз шлепнули или отчитали, а с Мэгги это бывало – за то, что огрызалась или совала нос не в свое дело. Мама говорила, что нет ничего хуже любопытства. От любопытных все неприятности на свете.
Туалет с унитазом был снаружи, прямо за домом. Дверь туалета не подходила к раме. Над дверью и под ней были широкие щели, и Мариам помнила, как ранним утром в унитазе бывала корка льда. В туалете стоял звериный запах, как будто там жило какое-то животное, и в темное время она боялась туда заходить. Когда ей было пять лет, двух других детей отдали. Мама объяснила, что их удочерили и теперь у них свои семьи. Другие родители. Она спросила пятилетнюю Мариам, хочет ли она остаться здесь навсегда. Мариам сказала, что хочет. На самом деле она не понимала, о чем ее спрашивают. Ей не приходило в голову, что кто-то может жить по-другому, чем она с мамой и папой. Не приходило в голову, что ее могут забрать от них куда-то.
Но когда мама и папа попросили оставить ее у них навсегда, им было отказано ввиду их преклонного возраста. Мама ворчала из-за этого целыми днями, объясняя Мариам глупость людей, решивших, что ей с папой по возрасту поздно удочерить одного ребенка, ребенка, которого они любят как родного, – а когда они растили троих как родных, оказывается, было не поздно. Папа сказал, что он потрясен. Он всегда говорил так, когда происходило что-то несуразное. Они подумали даже обратиться в суд, но, когда эта мысль у них возникла, Мариам уже забрали от них: социальные работники сказали, что эта история расстраивает ребенка. Так она потеряла маму и папу. За ней приехали на машине мужчина и женщина и забрали ее, она ничего не поняла, потому что мама разговаривала с ней как обычно, как будто ничего странного не происходит.
Теперь ее воспитывали в другой семье. Об этой она мало что помнила. Она думала, что с другим их ребенком произошло что-то плохое: мальчик был старше ее, часто дрожал, как будто его знобило. В доме у них тоже было холодно, но еще и пахло. Окна никогда не открывались, и плохо пахли постели. Её новый отец был крупный мужчина, и, если она попадалась ему под ноги, он грубо ее отпихивал. Однажды он выплеснул в нее пиво из-за того, что она плакала. Мать была худая, с длинными волосами, вечно подгоняла и дергала обоих детей и говорила, что они посланы ей в наказание. Когда Мариам вспоминала детство, ей казалось, что она прожила с ними совсем недолго, но впоследствии, подсчитав аккуратнее, поняла, что не так уж мало – при них она пошла в школу. Может быть, ей просто не хотелось вспоминать.
Это время помнилось совсем плохо. Она жила в других семьях, но воспоминания были смутными. Где-то ее били, это она помнила, а как-то раз заперли одну в комнате на всю ночь – семья ушла куда-то. Может быть, и не на всю ночь, но она в конце концов уснула на полу. Утром, когда проснулась, дверь была отперта. Она часто плакала, звала маму и папу, но так их и не разыскала. Ее отдали в другую семью, где было двое родных детей ее возраста. Мать была темнокожая и попросила темнокожего приемыша – ей отдали Мариам, всё больше темневшую. А Мариам по-прежнему часто плакала («Ты уже не маленькая», – говорила ей приемная мать) и не хотела играть с ее родными детьми. Она ходила уже в среднюю школу, и ее постоянно обижали. Однажды она ударила пристававшую девочку. Учительница поставила им на стол вазу с цветами для рисования, но соседка всё время передвигала вазу, корябала на ее бумаге и говорила, что от нее пахнет. Девочка плюнула в нее. Мариам выхватила у нее из рук вазу с водой и цветами и бросила ей в лицо. Учительница посадила Мариам в коридоре дожидаться матери. Мать сказала, что больше не хочет терпеть ее дома, и для исправления ее отдали в другую семью.
Угодить этим родителям было невозможно. У них была родная дочь, на год старше Мариам. Ее звали Вивьен, она следила за Мариам и доносила родителям, когда та нарушала какое-нибудь из множества родительских правил. Отец был учителем, устраивал ей контрольные по чтению и умственному развитию и говорил, что она отсталая. Он установил для нее расписание, чтобы улучшить ее обучаемость, и задавал домашние работы. Дочь докладывала о любом нарушении режима, но перед этим сама отчитывала Мариам за глупость, щипала и шлепала. Мать учила ее, как вести себя за столом, где держать руки, когда ложишься спать, и тщательно подтираться, чтобы не пачкать трусики. В итоге семья так и не смогла ее полюбить, хотя Мариам прожила у них больше года. Они старались, но исправить ее не могли и отправили обратно.
К этому времени Мариам исполнилось девять лет и она вполне сознавала свою никчемность. Поэтому, когда ей нашли новую приемную семью, где новая мама называла ее Мариам, гладила по головке и говорила, какая она милая девочка, она решила изо всех сил стараться быть милой, чтобы новая мама ее никогда не разлюбила. Ей выделили отдельную комнатку, новая мама украсила ее картинками животных и повесила на нитке над кроватью алую с золотом бабочку. Это была худенькая улыбчивая женщина с булькающим смехом. При звуке его Мариам сама начинала смеяться. Мама была медицинской сестрой, а новый отец – электриком в той же больнице. «Это психиатрическая больница – понимаешь, что это значит?» Так с ней разговаривали с самого начала. Сколько помнила Мариам, с ней никто так не разговаривал, не ждал от нее вопросов, не старался всё объяснить. По крайней мере, так ей хотелось помнить маму – человека, разговаривавшего с ней не так, как все другие, и ожидавшего от нее любознательности. Звали ее Феруз, и родом она была с Маврикия, так она сказала. А мужа звали Виджей, он был родом из Индии. Феруз достала атлас, показала, где Маврикий, рассказала, как остров получил название, что он когда-то был необитаемым, кто живет там теперь и чем они занимаются. Потом показала, где Индия, показала город, откуда Виджей родом, вернее, город, ближайший к деревне, где он родился. Словом, показала карту, рассказала о местах, про которые Мариам никогда не слышала, дала какое-то представление о большом мире.
И многое рассказала об их жизни. Виджей сильно хромал: в детстве он попал под машину, и у него что-то неправильно срослось. Из-за религии родители решительно противились их женитьбе. Ее родные были истовыми мусульманами, видными людьми на Маврикии и запретили ей выходить за индийца, а у Виджея – темными крестьянами, и они слышать не хотели о мусульманке. Может быть, дело облегчилось бы, если бы они завели детей, но они не могли. Может быть, они слишком обидели родителей, а без их благословения им не дано было родить. Но теперь у них была милая девочка, и они даже вспоминать не хотели о своих тяжелых семьях. Они сами будут семьей.
Такова была история Феруз, и Мариам рассказала ее своим детям. Рассказала не всё – не о том, как поломалась жизнь и она навсегда потеряла Феруз и Виджея. Она не знала, как говорить о некоторых вещах с детьми, еще не взрослыми. Историю свою она заканчивала рассказом об их отце. Он был тогда матросом, приехал в Эксетер повидаться с другом. Когда познакомился с Мариам, устроился на работу, чтобы быть поближе к ней, но Феруз и Виджей его невзлюбили, и они решили сбежать. «Yallah, давай уедем отсюда», – так он ей сказал. Такова история их любви. Так она ее рассказала. Они встретились и сбежали, и больше он не возвращался в море. Детям понравились эти слова: «Yallah, давай уедем отсюда», – и они иногда говорили так в шутку.
Кода появилась Ханна, Мариам хотела связаться с Феруз, но не смогла ее найти. На письма ответа не было, а однажды, когда набралась храбрости позвонить, телефон молчал. Она пожалела, что так долго откладывала.
Он потихоньку выздоравливал, и у них постепенно складывался новый распорядок. Конечно, какой-то распорядок был всегда, он менялся с годами, как менялась их жизнь. Так бывает, когда вместе стареют, – шаркаешь, уступаешь пространство, учишься быть удобным – если тебе повезло. Может быть, она всерьез не думала, что они стареют вместе. Себя она старой не чувствовала и Аббаса не воспринимала как старика, хотя многие признаки явно говорили о возрасте, даже еще до болезни. Не из-за старости им стало уютно друг с другом. Скорее это привычка жить вместе, когда нет нужды что-то обсуждать, а о чем-то вообще заговаривать не надо – из вежливости, чтобы не потянулось за этим другое. Она видела людей, приходивших в больницу, семейные пары, такие усталые, побитые жизнью, что непонятно было, кто из двоих больной. Вот он хлопочет над ней, поддерживает, когда она спотыкается на неровной плитке, а потом она терпеливо ждет, пока он решает, идти им прямо или налево или спросить у кого-то дорогу. Потом она делает шаг, берет его под руку, они достигают какого-то согласия и движутся дальше.
Утром она вставала первой, как всегда, спускалась в кухню и заваривала чай. Чай пили в постели, почти молча, порой задремывая на несколько секунд. Она любила эти тихие минуты наедине, неторопливость; иногда он обещал, что на будущей неделе первым встанет и заварит чай. «Да, – соглашалась она, – когда окрепнешь». После чего вставала, умывалась и живо спускалась вновь – приготовить себе завтрак и собраться на работу. Так было у нее всегда: минуты покоя, а потом суматоха, спешка – история ее жизни, она не умела держать ровный темп. Накрывала ему стол: он завтракал позже. Даже когда был здоров еще, перед работой выпивал только чашку чая и перед уходом прихватывал яблоко или грушу – привычка к экономии с ранних лет. Она знала, что, спустившись, он отставит тарелку и приборы в сторону и нальет себе чай. К ее уходу он уже поднимется с кровати, вымоется, оденется и сядет в гостиной с какой-нибудь книгой. Когда он немного окреп, это снова была «Одиссея», и она уходила, думая, что скоро закончится этот вынужденный отпуск и он выйдет на работу. Иногда утром он выходил купить газету, но читать о том, что творится в Ираке, было для него невыносимо, так что чаще он просто выходил пройтись.
Однажды субботним утром, разбирая только что купленные в супермаркете продукты, она услышала какой-то тихий звук в гостиной, еще успела подумать, что он уронил книгу, но тут же послышался его сдавленный голос: «Ох, yallah». Она побежала туда – он лежал в кресле и тяжело дышал. Лицо было искаженно от боли, тело завалилось вбок, и его трясло. Она сделала, как учили, – разжала зубы ложкой убедиться, что не проглотил язык. Потом позвонила в скорую помощь, уложила его на пол, чтобы легче было дышать, готовая сделать искусственное дыхание изо рта в рот. Когда приехала скорая, он был без сознания, но дышал сам. В машине на Мариам навалился страх, уже хорошо знакомый. Он умрет.
Ханна и Джамал приехали в тот же день, и все они услышали от врачей, что у Аббаса инсульт и оценить его тяжесть можно будет лишь через несколько дней. Сейчас ему дают снотворное, чтобы организм частично восстановил равновесие, но пока непосредственной опасности для жизни, вероятно, нет. Втроем они пошли посмотреть на него. Он как будто усох – худой, темнокожий, с трубками в ноздрях и у локтя, но дышал самостоятельно. «Он не умрет», – твердо подумала Мариам. «Он не умрет». Она хотела сказать это детям, но они, наверное, и не догадывались, насколько близко прошла угроза.
Врач их успокаивал. Возможно, для детей Аббас выглядел еще непривычнее, чем для нее, – последний раз они видели его еще до болезни – и ее, и его не навещали несколько недель и, вероятно, представляли их себе здоровыми и благополучными. А может, это всё ее сентиментальность – полагать, что дети наивнее, чем на самом деле. Может, они нисколько не были удивлены, когда стояли у кровати отца и скептически слушали ее заверения, что он поправляется. Они прекрасно знали, сколько ему лет, и втайне ужасались тому, что может ждать их впереди.
Домой они вернулись мрачными, но потрясение сблизило их, как подобие траура. Они пошли за Мариам на кухню и, пока она готовила ужин, говорили о папе, вспоминали его чудачества. Потом Джамал ушел в гостиную смотреть их древний, как он выражался, телевизор.
– У тебя есть в доме выпить? – спросила Ханна, заглянув в несколько кухонных шкафов.
Мариам кивнула на крайний справа и посмотрела на дочь, повернувшуюся к нему с решительным видом. Ханне очень хотелось выпить. Ей было двадцать восемь лет, она уже пять лет учительствовала, а теперь собиралась уйти с работы и переехать со своим другом Ником в Брайтон, где он получил место преподавателя в университете. С каждой встречей Ханна казалась матери всё более уверенной: голос, взгляд, манера одеваться, как будто всякий раз это определялось сложным выбором. Да, конечно, без выбора не обойтись, но казалось, что дочь сознательно переделывает себя из той, какой она себе не нравится. Мариам замечала, что и речь ее меняется, прежний голос уходит, и уже звучит другой, тоже теплый (по большей части), но с нотками вызова и светскости, чего раньше не было. Теперь это был голос молодой англичанки, делающей карьеру. «Не так ли и другие родители присматриваются к своим детям, – думала она, – наблюдают, как они превращаются в мужчин и женщин, и учатся вести себя с ними осторожнее? А сами дети – что они думают, глядя на нас? Как с нами трудно, какие мы скучные, какими несостоятельными оказались?» У нее самой не было родителей (настоящих), не было семьи, и невозможно было сравнить то, что она знала теперь, с тем, что знала прежде. И Аббас никогда (почти никогда) не вспоминал родителей, так что ей оставалось только гадать, додумывать.
– Теперь ему придется уйти на пенсию? – сказала Ханна и отпила из бокала. – Ты сумеешь собрать документы, или тебе помочь?
– Да-да, ему придется уйти, – ответила Мариам.
Если останется жив. Вопросы были заданы из лучших побуждений, но в разговорах с матерью Ханна держалась какого-то настойчивого тона, словно у той плоховато с памятью.
– Подождем, что скажет доктор. Но думаю, скажут, что пора на пенсию, – продолжала она.
– Хорошо, сообщи, если понадобится моя помощь, – сказала Ханна. Она подошла к матери и обняла ее. – Ник шлет тебе привет. Жалеет, что не мог приехать. Он ездит на работу в Брайтон и устает, но через две недели переезжаем. Он снял квартиру, а я нашла преподавательскую подработку. Первое время будет суетливо, но, если понадобится, я приеду.
– Да, сообщу, но сейчас хочу только, чтобы ему полегчало, – сказала Мариам, не в силах справиться с дрожью в голосе.
На другой день, перед тем как Ханне уезжать в Лондон, они навестили Аббаса. Мариам повезла Ханну на вокзал, а Джамал остался в больнице. Он сидел у постели отца, смотрел на его лицо, спокойное и ясное, несмотря на трубки, и улыбался. Не верил, что тот скоро умрет. Отец дышал ровно, глаза были закрыты, он молчал и был, казалось, где-то далеко. Но пепельный цвет лица, движения дряхлого горла говорили о перенесенной боли и, может быть, еще не отпустившей. Отец был молчуном, предпочитал одиночество, так что, возможно, не испытывал сейчас мучений – там, где пребывал сейчас. Это была лишь фантазия сына – так ему хотелось верить. Мать часто говорила, как они похожи, Джамал и Аббас, в своей любви к тишине. Может быть, и правда, но молчания Аббаса бывали мрачными, в его тяге к уединению было что-то угрожающее, словно там, куда он отправлялся, встретиться с ним было бы неприятно. В этих случаях лицо его становилось угрюмым, недовольным, он хмурился, в глазах стояла то ли боль, то ли стыд. Когда он заговаривал в таком состоянии, даже с Мариам, голос его был груб, а слова тяжелы. Джамал терпеть не мог этих его настроений и в особенности того, как он говорил с матерью. Он внутренне сжимался от тревоги – что последует за его словами, как сильно они должны ранить мать. Он сидел у постели отца, смотрел на худое лицо, спокойное после утихшей боли, и думал, что не хочет вспоминать эти мрачные молчания, этот рычащий голос. Он хотел думать о другом папе и, сидя с ним рядом, проникнуть в его мысли: это дало бы ему силы отразить отца угрюмого.
Когда они были детьми и не очень шумели, а папа был в настроении, он любил рассказывать им истории. (Джамал вспоминал его таким – смешливым рассказчиком, увлеченным своими фантазиями.) Он начинал, и они сразу к нему подсаживались. Иногда он даже кричал: «По местам!», чтобы они скорее сели. «”По местам!” – командуют дети, когда играют в матросов», – объяснял он. Какие дети? Где? На эти вопросы он не трудился отвечать. Велел замолчать и сесть рядом. Они садились как можно ближе и, широко раскрыв глаза, слушали чудесные небылицы. Истории были самые невероятные, и Джамал с Ханной слушали раскрыв рот. Он умел их увлечь, и они видели по его лицу, что истории правдивые. Свои небылицы он рассказывал так, что и они им верили, и, наверное, сам начинал верить по ходу рассказа. Один рассказ был о том, как за ним гналось стадо смеющихся слонов. Он описывал их детям – огромных, с топотом бежавших за ним, громоздких, толстокожих, вислоухих, хохочущих, сопящих, с качающимися на ходу громадными животами. Вы знаете, почему их называют толстокожими? Потому что их не прошибешь. Он их обманул в конце концов – повалился на землю. Слоны стояли вокруг него, и уже не смеясь, а с грустным недоумением. Потом ушли. «Надо понимать, – сказал им папа, – что слоны считают недостойным топтать кого-то смирно лежащего на земле. Но лежать надо совсем тихо, иначе тебе конец, каюк, крышка».
В другой раз папе пришлось играть в прятки с голодной акулой среди коралловых рифов Сулавеси. «Тамошние акулы знамениты своей величиной и прожорливостью, – рассказывал он. – Они любят свою работу – рыскать по океану и набрасываться на всё, что попадется. Если наблюдать за ними внимательно, держась на расстоянии, конечно, увидишь, как они с улыбкой раскрывают громадную пасть и заглатывают проплывающую мимо безобидную рыбку-попугая. Но они не умные – вечно натыкаются на разные предметы, и если держаться подальше от этих громадных зубов, то можешь уцелеть». Эта акула в Сулавеси часами гонялась за ним, но в конце концов папа ее обманул, заплыв в узкий коралловый коридор; акула же застряла в нем, и папа спасся.
А однажды он неделю просидел на дереве, когда стая гиен с лаем караулила его внизу и, подняв зады, пускала в его сторону струи ядовитого кала. Вы не знали, что дерьмо у гиен жгучее? Это их страшное оружие. Гиены стреляют калом в глаза своей жертве и потом набрасываются. У папы не было выбора – только взобраться повыше на дерево и ждать, когда они опорожнят свой боезапас. Он даже задремать боялся, чтобы не сползти по стволу: иначе страшные гиеньи челюсти раскусили бы его кости в два счета.
А любимым у них был рассказ о говорящем верблюде. Папа был моряком до того, как познакомился с мамой, побывал везде и в Индии познакомился с говорящим верблюдом. В Индии полно чудес: небывалых волшебных зверей; а еще Ладху, халва-бадам, драгоценные камни, которые вылупляются из птичьих яиц, мраморные дворцы и ледяные реки. Говорящий верблюд рассказывал папе разные истории, и они так подружились, что папа пригласил его в гости. Так что, может, они с ним еще познакомятся, хотя Индия далеко и говорящему верблюду долго идти до Англии. А пока что папа рассказал детям кое-что из историй, которые ему рассказал говорящий верблюд. Историй было без конца и края – столько их знал верблюд. В них не было ни гиен, ни акул, а только верблюжата, обезьяны, лебеди и разные другие маленькие дружелюбные создания.
Иногда он рассказывал им настоящие истории, которые знал с детства. Но только по особым случаям и когда они были моложе – в дни рождения и на Рождество. С днями рождения вначале было сложно – папа считал, что в них есть самодовольство, иностранцы портят ими своих детей. Что в тебе такого важного, чтобы праздновать день твоего рождения? Свой день рождения он не празднует. Мама свой день рождения не празднует. Никто не празднует. Кроме европейских иностранцев, он не знает никого, кто празднует день рождения. Чем они важнее мамы и папы и всех остальных в мире неевропейцев? Никаких дней рождения. Но в конце концов он вынужден был уступить, и на дни рождения мама пекла торт, ставила в него свечи, готовила особые угощения, и однажды, вернувшись с работы, отец увидел увешанную воздушными шарами кухню и маленькую вечеринку на полном ходу. Так что оставалось только улыбаться, признав поражение, и наблюдать торжественную радость детей. «Yallah, мы становимся цивилизованными», – сказал он. С Рождеством было так же трудно поначалу: расточительный праздник языческого пьянства – так он его называл. Но однажды втайне от всех он купил маленькую серебряную елку и гирлянду лампочек и смеялся вместе с детьми, когда они с радостным удивлением прыгали вокруг. Когда они утихомирились, все сели на пол кружком – мама, Ханна, Джамал, – и он начал. Hapo zamani za kale. В старые добрые времена. Для разных персонажей у него были разные голоса. Когда смеялся жестокий человек, голос у папы становился хриплым и злым, он крутил воображаемый ус и расправлял свои худые плечи, как драчун. Когда красивая молодая мать молила о помощи, он делался жалким, заламывал руки и моргал. Когда хороший человек наводил в мире порядок, он становился властным, решительно поднимал подбородок и сверкал глазами. Это было примитивное актерство, но дети были в восторге, и, когда он закончил, они аплодировали и осыпа́ли его поцелуями. Он тоже был доволен, их папа: улыбался, похохатывал и умолял маму спасти его от детей.
Джамал улыбнулся, вспомнив это представление, и наклонился, чтобы тронуть отца за руку. А спектакли эти были особенно забавны оттого, что папа не был веселым или шумным человеком. В отличие от мамы, он не участвовал в их веселых играх и не любил, когда они шумели. Возможно, потому, что был намного старше мамы. Мама соглашалась вести себя по-детски, но папа снизойти до этого не мог. Когда наступало время телевизора, он уходил наверх; но надо сказать, что прогоняли его детские передачи и старые мюзиклы по выходным. Он смотрел новости. Часто он уставал после работы, целый день его не было дома, он успевал отвыкнуть от их возни, криков, беззлобных детских препирательств. Но сам был тихим и, наверное, с годами делался еще тише. Когда Джамал подрос, ему казалось порой, что молчанье отца означает, что он его огорчил, – чем, непонятно. Каким утомительным бывает потомство: не можешь посидеть тихо – тут же начинают думать, что чем-то тебя огорчили!
В общем, папа был неразговорчив. Никогда не подходил к телефону, почти никогда. Когда был один дома, телефон мог звонить и звонить, пока звонивший не сдавался. Здесь никого нет, уважаемый. Мама придумала способ, как подозвать его к телефону в случае надобности. Два звонка и отбой. Еще два звонка и отбой. Третий раз звонить, пока он не подойдет. На третий он всегда подходил. Когда все были дома и как-то развлекались, он мог сидеть с ними, но участия обычно не принимал. Не потому, что был недоволен, не ворчал – почти никогда, – просто сидел на своем обычном месте, иногда улыбался, иногда произносил несколько слов, но ворчал очень редко. Только когда на него вдруг накатывало – тогда его было не остановить, пока не выговорится. Остановить его или сменить тему было невозможно – как бывает с политиками, когда им задают вопрос, на который они не хотят отвечать. А обычно, если не очень шумели, сидел с газетой, с кроссвордом или книгой и говорил мало. Да, мало говорил. Он любил книги о море, приключения, романы, книги о морских обитателях, о странствиях, путешествиях, о человеческой стойкости. Они обожали, когда он пересказывал их и разыгрывал. Это было тем радостнее, что они помнили, каков он в других настроениях.
Когда они были маленькие и до той поры, когда Джамалу исполнилось десять или одиннадцать, они часто выезжали на природу. Папа любил эти вылазки. Он находил в местной газете объявления о чем-то занимательном и говорил: «Дети, давайте поедем, посмотрим, что там будет в воскресенье». Воскресным утром они прихорашивались, одевались, как будто предстоял далекий путь, брали одеяло для пикника, полотенце на случай, если что прольется, и дождевики. Далеко не ездили, но накануне вечером папа изучал карту дорог, как будто они собирались в экспедицию, а он был руководителем. Они посещали ботанические сады, заказники, древние церкви, ярмарочные представления, разъездные выставки. Мама никогда не противилась его выбору. Экскурсиями командовал он. Она только готовила еду: сандвичи с помидорами – папа их обожал, а остальные терпеть не могли, – сандвичи с сыром, тефтели, йогурты, чипсы, лимонад и термос сладкого чая с молоком специально для папы. Набор всегда был один и тот же, и Джамал знал, что до конца жизни, когда подадут тефтели, он будет вспоминать эти вылазки. Собравшись, они садились в машину и выезжали. Иногда через несколько минут им приходилось возвращаться – папа спрашивал: «Ты заперла заднюю дверь? Отопление мы выключили? Мой бумажник у тебя?» За рулем всегда была мама, а папа, как турист, поглядывал вокруг и привлекал внимание детей к самым обычным видам: к овцам на лугу, к ветряной мельнице, к веренице столбов в поле. Если даже цель поездки казалась странной, Ханна и Джамал строили рожи друг другу, но всё равно радовались. В поездке всегда бывало угощение. Иногда мама запевала веселые песни, и папа старался терпеть шум.
Ханна иногда говорила Джамалу, что они странная семья, чудна́я. Мама была подкидышем, не знала настоящих родителей, а папа о своих никогда не говорил. Джамалу их семья не казалась необычной или странной, но с Ханной, когда она это говорила, соглашался. В ее рассказах так получалось. Он не помнил, когда впервые услышал рассказ о детстве матери и от кого услышал – от нее или от Ханны. В детстве всё ему рассказывала Ханна. Но казалось, он всю жизнь знал эту историю, только с годами смысл ее как будто расширялся, и всё более странным представлялось молчание папы. Он не помнил, было ли им велено не рассказывать чужим о детстве матери, но он не рассказывал. Никогда и никому. С годами мама, случалось, заговаривала об этом, иногда он узнавал какую-то новую подробность. Эти ее рассказы были не такие, как те, что родители перебирали вместе, пересказывали друг другу, смеясь над памятными эпизодами, которые изначально вовсе не были смешными, истории об их любви, ухаживании, о стойкости и нелепостях, иногда на грани катастрофы. История жизни матери складывалась из отрывочков – посреди рассказа другой истории или выговора детям вспоминалось какое-то чувство или впечатление, когда мысль начинала блуждать. А Джамал слушал по-особенному, не потому, что этому научился или заставлял себя, – это пришло само. Он слушал молча. Не перебивал, не спрашивал о подробностях. Теперь он задавался вопросом: так ли слушают все дети, или это он был таким послушным и одиноким мальчиком, или мамины рассказы были такими занятными, что не требовали вопросов? Мама кратко излагала ситуацию, он рисовал ее в своем воображении и помещал этот образ среди уже имевшихся.
Поначалу он не знал, верит ли сам в историю мамы-найденыша. Возможно, не верил. В детстве всё казалось непохожим на тот мир, который уже существовал где-то в других местах его сознания, и он не понимал, как не верить чему-то. Но в какой-то момент он, должно быть, понял, что история подлинная, и уцеплялся за каждую новую подробность в рассказах матери. Когда он стал подростком и с ним уже можно было говорить откровеннее, мать сменила манеру повествования. Джамал побаивался это нарушить, боялся, что она решит говорить осторожнее о каких-то вещах. Ханна была не такой послушной, решительнее добивалась того, что хотела узнать от мамы. Просила, чтобы происшествия излагались яснее, чтобы мама повторила имена, хотела услышать, что произошло с героями рассказа. «Далеко ли отсюда Эксетер? Где теперь живут твои мама и папа? Как получил свое название Маврикий?» Вопросы вынуждали маму отклоняться, объяснять, уходить от доверительного тона, каким говорят о самых чувствительных подробностях. Когда Джамал оставался с ней наедине, он не прерывал ее, наслаждаясь неторопливым рассказом, придававшим событию глубину, с перебивками, когда всплывала вдруг деталь, выпавшая было из памяти. А когда замечал в рассказе противоречия, помалкивал. Он не понимал еще, что истории не живут в неподвижности, что они меняются с каждым новым рассказом, исподволь перестраиваются с каждым новым дополнением, и то, что кажется противоречием, на самом деле – неизбежный пересмотр произошедшего. Умом не понимал, но обладал даром слушания, вполне заменявшим понимание.
Однажды, когда он еще жил дома, мама рассказывала о тяжелой зиме в Эксетере – всё тогда померзло. Разговорилась, стала вспоминать, и чем дальше, тем грустнее: и что не бывала там с 1974 года, когда они уехали, и о потерянных подругах, и о Феруз. Папа тоже был в комнате; он оторвался от кроссворда, почувствовал настроение Мариам и прогремел: «Приятно познакомиться, мистер Бутс», – такая была у них шутка о начале их знакомства.
Мама улыбнулась.
– Как бы я хотела разыскать Феруз, – сказала она, глядя на папу.
Джамал знал, что мать пыталась связаться с приемными родителями, но найти их не удалось. В семье все знали об этом: она часто говорила, что после рождения Ханны больше всего на свете хотела примирения с ними и как она жалеет, что потеряла Феруз. При папе она об этом не говорила, во всяком случае, насколько знал Джамал. А сейчас папа посмотрел на нее неодобрительно.
– Что ты беспокоишься об этих людях? – резко сказал он. И, видимо, сам услышал эту резкость, продолжал спокойно и рассудительно: – Они не так уж хорошо с тобой обращались. По крайней мере, ты пыталась их разыскать, а они этим не озаботились, уверяю тебя. Ты пыталась их отыскать, не смогла – что еще остается? Забудь о них.
Момент был напряженный; Джамал увидел, как мать посмотрела отцу в глаза и он опустил взгляд на кроссворд. И Джамал понял, что в ее взгляде был вызов: Я не хочу их забывать. Я не хочу быть, как ты. Что такого плохого могло случиться, если она решила сбежать, – но не настолько плохого, если мечтала о воссоединении? Может быть, ничего особенного. Может, она была слишком порывистой – девушка семнадцати лет, встретившая любовь всей жизни, – а потом слишком поздно к ней пришли сожаления. В такие минуты родители казались ему странной семьей – когда подступали к каким-то темам, а потом отступали, – какие-то сюжеты, истории возникали неожиданно и пропадали под долгими взглядами, в затянувшемся молчании.
Почему папа молчал о своей прошлой жизни? Сидя у больничной кровати, Джамал погладил папу по бедру. «Что ты делал? Ты меня слышишь? Не так уж ты плох – иначе накололи бы в тебе дырок, навставляли трубок и пристегнули бы к машине», – сказал он вслух.
Аббас вдруг открыл глаза, посмотрел невидящим взглядом и опять закрыл. Джамала поразил этот короткий, налитый кровью взгляд – словно заговорил покойник, – и он тут же устыдился своей мысли. «Не так уж ты плох, гляди, разлегся, как паша в гамаке», – тихо сказал он. Но тут заметил, что дыхание отца слегка участилось, стало неровным. Позвать кого-нибудь? Слышно было, как за занавеской, отгораживавшей кровать, ходят люди. Но папа коротко вздохнул, и дыхание постепенно успокоилось. Непривычно было сидеть рядом со спящим отцом: таким беззащитным он никогда его не видел. Отец всегда спал чутко; случись застать его дремлющим – он встрепенется, не успеешь даже подойти. Может быть, чуткие нервы его еще работали, и голос Джамала проник сквозь пелену успокоительных и вынудил открыть глаза.
Джамал снова погладил его по бедру. Больше не пугай меня так. Отдыхай. Почему ты никогда не рассказываешь о своих родителях? Он не рассказывал – разве набросает коротко портрет скареды-отца и затюканной матери. Иногда, даже часто он рассказывал о том, как был моряком, в каких побывал странах, какими паршивыми работами занимался, прежде чем остановился на этой, и уже до конца жизни – механика на фабрике электроники. Но никогда – о своих родных и даже о месте, где вырос. Маленькие Ханна и Джамал по-детски простодушно допытывались, где живут их дедушка с бабушкой, какие они, и задавали другие подобные вопросы, но он эти вопросы обычно отметал, иногда с улыбкой, иногда без нее. «Вам про это незачем знать», – говорил он. Иногда он рассказывал им о каких-то мелочах, казавшихся Джамалу интересными, – но не очень подробно, не очень конкретно. Рассказывал, будто забывшись на минуту, не контролируя себя, выставлял причудливую деталь, и она уплывала, растворялась в слепящем свете.
Он помнил, как однажды в Рождество отец рассказал им про розовую воду. «Так мы поздравляли друг друга с праздником. В первый день Ида люди приходят друг к другу с поздравлениями, выпивают по чашке кофе, а если достаточно состоятельные, то и с кусочком халвы. В некоторых домах хозяин брызгал на гостей розовой водой из серебряного сосуда, наливая им на руки, иногда смачивал им волосы». Когда Ханна спрашивала подробности – ей хотелось побольше узнать об этих людях и чьи дома они посещали (Джамалу тоже было интересно узнать, но он робел расспрашивать), – отец объяснял, что розовую воду делают из лепестков и употребляют в разных блюдах и в религиозных церемониях по всему миру, от Китая до Аргентины. Он рассказывал им про Ид и его географию: как его празднуют в одной стране и как в другой, в каком месяце лунного года его празднуют и что такое лунный год. Когда они спрашивали о его родине, отвечал, что он обезьяна из Африки.
Они довольно рано поняли, что некоторые вопросы ему не стоит задавать. Джамалу больно было видеть раздражение на его лице, когда они приставали с расспросами. Чаще – Ханна, она острее воспринимала недосказанность. Она стремилась уяснить детали, и отцовские умолчания раздражали ее настолько, что иной раз она даже выходила из комнаты.
– Нет, не уклончивость, а увертки, Красавец, – объясняла она впоследствии, когда они стали достаточно взрослыми, чтобы обсуждать это с огорчением, а старшекурсница Ханна достаточно овладела языком, чтобы анализировать, по ее выражению, дисфункцию в их семье. Когда-то он спросил отца, что означает имя Джамал, отец сказал, что оно значит «Красивый», и с тех пор Ханна использовала перевод как ироническое прозвище. Себя вне семьи она предпочитала называть Анной.
– Они себя потеряли, – сказала она. – Ба сознательно себя потерял, и уже давно, а Ма была потерянной с самого начала – найденышем. Я хочу услышать от них историю, у которой есть начало, – правдоподобную и ясную, а не такую, которая спотыкается на недомолвках и умолчаниях. Почему это так трудно? Хочу, чтобы я могла сказать: вот кто я такая. Знаю, этого хочет каждый, кто дал себе труд об этом подумать, – а разгадывать тайны души и природы бытия мне не требуется. Мне нужны простые скучные подробности. А вместо них нас потчуют обрывками таинственных сюжетов, и ни расспрашивать о них нельзя, ни обсуждать их. Терпеть не могу. Иногда мне кажется, что живу я, прячась от стыда. И все мы так.
Джамалу было знакомо это чувство. Оно просыпалось у него вдруг, когда он тоже чувствовал, что должен лгать и лицемерить. Это чувство – что он должен чего-то стыдиться – сопровождало его почти всю жизнь, даже когда он не отдавал себе в нем отчета, – и только со временем он начал понимать некоторые его причины. От этого обострялось ощущение своей особости, чуждости, с которым он рос. Ощущение это возникало в разных случаях, не только в ответ на чью-то враждебность, недоброжелательство и подначки в школе. Он видел это в высокомерных сдержанных улыбках матерей учеников, в том, как люди старались не показать, что замечают в нем что-то необычное, в простодушных, а иногда настойчивых и жестоких расспросах детей о его родине и ее обычаях. Лишь с годами он научился говорить: здесь моя родина, – и научила его так отвечать Ханна.
Даже если старались, они не могли забыть, что он – другой, и сам он не мог, хотя делал вид, что не помнит об этом. Да и как иначе? После двух и трех веков повествований о том, какие они несхожие, могло ли быть иначе? Рано или поздно несхожесть напомнит о себе взглядом, словом. Обликом человека, переходящего улицу. Учитель, рассказывая о бедности в мире, невольно бросит взгляд в его сторону. Нищета обитает в таких краях, где живут подобные ему, а мы, избавившиеся от нее, должны научиться не презирать тех, кто еще не обрел средств спасения. Мы должны всеми силами им помогать. Так он понимал огорченный взгляд учителя: Джамал (и Ханна, и другие, похожие на них) – из этих несчастных, но мы не должны презирать его и говорить с ним жестоко.
Когда какой-нибудь темнокожий старик с растрепанными волосами, в дрянном, криво застегнутом пальто, шаркая, брел по тротуару, они хихикали – дети, с которыми он рос, – и поглядывали на него смущенно. Он делал вид, что не стесняется, что ничем не отличается от этих хихикающих.
– Мне бывает противно, что меня растили здесь, – говорила Ханна. – Что не нашли другого места, где нам с тобой родиться. Не потому, что в других местах нет жестокости и лжи, а просто чтобы избежать этого унизительного притворства. Где не надо изображать, что мы ничем не отличаемся от людей, которые черт знает что мнят о себе. Но думаю, что у родителей не было выбора в этом вопросе, а только видимость выбора. Они могли не рожать меня, а уж когда родили, от них больше ничто не зависело.
Ханна бушевала так из-за их скрытной, притворной, придавленной жизни, когда они уже уехали из дому. Одно время она была одержима этим, но потом сумела как-то с собой сладить. Помогли студенческая жизнь, новые друзья и романы, успехи в учебе. Она входила в большой мир, и огорчения из-за того, что она Ханна Аббас, и выросла в скромном домике в Норидже, и родители справляются с жизнью из последних сил, притупились. Теперь она была окончательно Анной и почти не заговаривала, как прежде, о своем чужеродстве. Наоборот, оно стало украшением ее британства. Однажды, дразня ее, Джамал сказал, что и ему, наверное, стоит сменить имя на Джимми и тогда он будет не таким нервным. Он почувствовал, что обидел ее, дав понять, что она изменила себе.
– Ненавижу имя Ханна, – сказала она. – Не знаю, откуда они его взяли. И вообще, это ты стал звать меня Анной.
– Знаю, знаю, – сказал он, пытаясь умиротворить ее. – Я был маленький и не мог как следует выговорить имя. Это я так, подразнил просто.
Джамал еще не достиг ее стадии, но благоразумие, вероятно, вело к тому. Он не мог заставить себя произнести «родина», когда говорил об Англии, или подумать о «приезжих» без чувства солидарности.
Он думал, что немногие на свете так мало знают о своих родителях, как он. Ему представлялось, что другие люди знают, кто они такие, знают, кто были их деды, где жили и чем занимались. У них там дядья в Ирландии, двоюродные в Австралии, зятья в Канаде и какой-нибудь непутевый родственник, порвавший со всеми. У них обязательства, семейные сходки, сложные отношения. Такой, насколько он понимал, должна быть нормальная семейная жизнь, а они семья бродяг, скитальцы без связей и обязанностей. Когда он стал работать над диссертацией о мигрантах в Европе, мнения его изменились, он узнал, насколько ненадежна, насколько скудна здесь жизнь этих чужаков, как им приходится крутиться и как эта жизнь бывает кровава. Он научился терпеть в ожидании того дня, когда отец расскажет наконец свою историю. Он смотрел сейчас на отца, дышавшего мерно под снотворным, едва избежавшего смерти, и думал, что, может быть, и до рассказа этого не так далеко. «Если перестанешь так упорно сопротивляться, жизнь может быть вполне терпимой», – шептал он отцу, но не знал, верит ли в это сам. Почему отец не сделал в жизни больше? Почему не захотел большего? Но так ли мало он сделал, так ли уж мало от нее хотел? Ведь не так уж это мало – провести столько лет в терпеливом молчании, зная, что однажды жизнь обрушится.
– Что ты сделал? – шептал Джамал отцу. – Убил кого-то? Пытал? Губил души?
Вернулась Мариам, отвезя Ханну на вокзал, и Джамал уступил ей свой стул. Она тронула папу за руку; Джамал подумал, что отец опять откроет глаза, но этого не произошло.
– Пока тебя не было, отец открыл глаза, – сказал он.
– Что? Он разговаривал?
– Нет. Только широко открыл глаза и опять закрыл. Не думаю, что просыпался. Нет, как-то судорожно.
Мариам отправилась сказать об этом старшей сестре. Та пришла, взглянула и заверила их, что он спит и всё благополучно. «Может быть, пойдете отдохнуть, а завтра вернетесь? Состояние у него такое, что завтра доктор, возможно, позволит его разбудить».
По дороге домой Мариам спросила Джамала, надолго ли он намерен остаться, и он сказал: дня на три-четыре. Смотря как пойдут дела. Через несколько дней он переезжает в однокомнатную квартирку. «Квартирку» он произнес насмешливо. Она наверху, спальня, за перегородкой душ и туалет, но всё лучше, чем комнатка с еще двумя студентами в доме, которых он успел уже очень хорошо узнать. Меньше отвлечений, больше работы, и никто не действует на нервы.
Когда вернулись домой, Мариам пошла наверх и принесла фотографию Аббаса в рамке. Снимок сделал друг Аббаса, с которым они вместе жили. Аббас был в светлом свитере и короткой джинсовой куртке. Мариам поставила фото на полку над газовым камином и повернулась к Джамалу.
– Какой красивый! Ты очень на него похож. Только без мохнатой бороды.
Он подумал, что она хотела сказать «лохматой», но поправлять не стал. Его огорчало, что она путает некоторые слова, как будто английский выучила не очень хорошо, хотя прожила в Англии всю жизнь и другого языка не знала.
– Где его сняли? – спросил он. Он сам знал где, но чувствовал, что матери хочется поговорить о былом.
Сначала они поехали в Бирмингем. Аббас сказал, что там легче найти работу, а ей было всё равно. Если бы он сказал «в Ньюкасл», она бы тоже согласилась, а дальше ее представления не шли – дальше только за морем. А Шотландия – почему-то такое место, откуда уезжают, а туда не едут. Так она думала по невежеству. Это он побродил по миру и знал, каково там, знал, где безопасно. Бирмингем был интересен ей, как и любое другое место, далекое от Эксетера, и потому еще, что Аббас был рядом. Иногда ей становилось страшно оттого, на что она решилась, а другой раз сама не могла понять, почему не решалась так долго. Но всё-таки, наверное, понимала: не сумела бы она сбежать самостоятельно. Боялась бы того, что могла преподнести ей жизнь, когда нет ни денег, ни отваги, ни особой красоты. Ничего. У Аббаса было немного денег – не совсем нищие, они могли найти комнату и искать работу. Не так уж плохо. Работу найти было нелегко: инфляция, забастовки, профсоюзные войны. Она нашла работу уборщицы в больнице – такая работа никого не привлекала, – а он сперва пошел на стройку, а потом получил работу на фабрике. Жизнь в большом городе и сам характер работы смущали, но особенно сожалеть не приходилось, да и поздно было думать о том, что ей во всем этом не нравится.
Жизнь ее решительно изменилась. Иногда она нервничала: не знала, как что-то делается, спросить Аббаса не могла, если его не было дома, но в конце дня он всегда возвращался, и она даже не представляла себе раньше, какой радостью будет для нее жизнь с любящим человеком. Его общество. Вечные рассказы, смех… правда, когда они наедине. На людях он был осторожнее, но не робел – он не боялся. По крайней мере, так говорил: не боюсь никого и ничего. Услышав это в первый раз, она не поверила. Подумала, что он рисуется, говорит это, чтобы больше ей понравиться. Видимо, на нее действовало – вот он и повторял это несколько лет. И правда, он был боевой в те годы. Никто не смеет на них наезжать или морочить их. Она думала, что говорит он так, чтобы поднять им дух, придать уверенность, – и получалось, получалось. Но когда не хвастал, был нежен с ней и, может быть, немного тревожен – она не знала, из-за чего и есть ли за этим что-то конкретное. Она была молода, легко принимала всё как должное, ни из-за чего особенно не беспокоилась – ни тогда, когда он рассказывал уморительные истории о своих странствиях, ни тогда, когда эти истории бывали печальными. По выходным они могли валяться в постели до середины дня. Ходили в кино, если было настроение, угощались жареным мясом в кафе по соседству. Она думала, что он будет скучать по морю, но он говорил: нет, с него хватит. «Какое счастье, что нашли друг друга, – думала она, – какое везение!»
Хорошо жилось в Бирмингеме. Оба работали, хотя работа была неважная, и первые три года пролетели. Иногда она вспоминала Феруз и Виджея, с противным чувством вины оттого, что сбежала не попрощавшись. Когда заговаривала об этом с Аббасом, он молчал. Не сочувствовал и не осуждал в те дни. Опускал глаза и молча ждал, когда пройдет у нее боль, и в ту пору боль чуть погодя проходила. Удовольствие доставляли самые простые дела: покупка кастрюль и сковородок, украшение ванной комнаты в их съемной квартире, слушание музыки, которую, ей раньше казалось, она не переносит. Он любил читать, а ее к чтению никак не тянуло. Оно отнимает много времени, а кругом полно занятий, столько времени не требующих. Иногда он рассказывал о прочитанном в книге, и ей этого было достаточно. Она любила слушать его рассказы о местах, где он побывал, о происшествиях, таких удивительных, что прямо для книги. Она заметила, что в какой-то момент он останавливается, обрывает рассказ, и вскоре пришла к выводу, что не рассказывает он о детстве, о тогдашнем своем доме. Когда спрашивала, он ускользал от объяснений, и она не настаивала – хотя, наверное, надо было. После стольких лет, прожитых вместе, и всякого пережитого она не знала, как заставить его говорить о том, о чем позволяла молчать так долго. Тогда это не казалось важным – у них еще не было детей. А она их хотела, все годы в Бирмингеме. Сразу же хотела Ханну, но Аббас сказал, что она еще молода, надо несколько годков подождать. Они спорили. Она знала, что на самом деле он старше, чем говорит, что на самом деле ему было тридцать четыре года, когда они познакомились в Эксетере, и думала, он уже не хочет детей, привык к бродячей жизни, но он сказал: нет, просто она еще молода, рано обременять себя детьми.
После трех лет в Бирмингеме, пролетевших совсем незаметно, они переехали в Норидж. Аббас подал заявление в новую фирму электроники, и его приняли. Пришлось пройти переподготовку. Работа была гораздо лучше прежней, с хорошей зарплатой, пенсионным планом, и они решили, что им больше нравится жить в маленьком городе. Аббас был рад, что море близко. Сначала он назывался наладчиком, со временем сделался механиком, а затем, еще позже, вырос до главного механика. Она пошла в Центр трудоустройства, сотрудник спросил ее, какой работой она занималась в Бирмингеме. Она ответила, что была уборщицей в больнице; он улыбнулся и сказал: «Вам повезло», – и она снова стала уборщицей в больнице. Она сказала себе, что в работе уборщицы есть свой смысл – ты наводишь чистоту, – и согласилась. В детстве, когда жила с Феруз и Виджеем, она мечтала работать в больнице – стать сестрой в психиатрии, как Феруз. Вот в больнице она и проработала почти всю взрослую жизнь, хотя и не медсестрой в психиатрии.
Мариам задержала взгляд на фотографии и спросила:
– Как по-твоему? Он всё же хорошо выглядит, а? Знаешь, почти никогда не болел. Но так вот и бывает: всю жизнь здоров, и вдруг всё сыплется.
Он думал, что может уже не оправиться. Годами страшился этого, наступления этого страшного, смерти в чужой стране, которая его не хочет. Это было много лет назад, но страна так и ощущалась чужой. Местом, которое он однажды покинет. В некоторых портовых городах, где побывал когда-то, были целые районы, населенные сомалийцами, или филиппинцами, или китайцами, и там иногда забывалось, что в Англии он сам недолго. Несмотря на свою обтрепанность, жители этих районов настороженно наблюдали за чужаками. Эти люди, жившие далеко от родины, здесь держались кучно для безопасности, бдительно охраняя свою честь, иначе говоря – своих женщин и имущество. Но и не в портах ему иной раз встречался темнокожий старик, одиночка (чаще – старик, редко когда старуха), и он их жалел. Они выглядели такими чужими, эти старики, с задубелой темной кожей и курчавыми седыми волосами, когда шли по английским улицам, словно животные, попавшие в чужую среду, толстокожие, на бетонных тротуарах. «Себя я до такого не допущу, – думал он. – Не позволю себе умереть в чужой стране, которая меня не хочет», – и вот он где: почти что на тележке в крематории.
Врач мистер Кенион… Поначалу он думал, что фамилия его Кения, и подумал еще: «Как странно, они повсюду расселились и не стыдятся называть себя именем захваченных стран!» – но врач сказал: «Кенион». Почему они с возрастом начинают называть себя «мистер», а не «доктор»? Мистер Кенион сказал ему, что пострадают некоторые функции. Парализуются. Но некоторые могут восстановиться. Физиотерапия и не падать духом. Важен настрой. Так, что ли? Слух не нарушен, пострадала речь. Он может издавать звуки, но не произносить слова. Удивительно, как возникают слова, смысл из этого бульканья, посвистывания. «Мы это восстановим», – сказал мистер Кенион. Да, бвана, вы и я.
Такой усталости он никогда не испытывал. Как будто вытекли из тела жизненные соки, и, когда его отправили домой, он часами сидел, неподвижно и безвольно, не в силах поднять руку, встать на ноги или хотя бы закрыть рот. Даже глаза не всегда мог открыть, а мысли блуждали или совсем останавливались. К его изумлению, часы проходили в мгновение ока. Он не выносил голоса и музыку по радио, тишина окутывала его и сгущала воздух вокруг.
Он почти ничего не делал самостоятельно. Мариам мыла его, кормила, давала лекарства, он этого не замечал. Раз в неделю она отвозила его в больницу: одевала его, помогала спуститься по лестнице, шажок за шажком, и везла в машине. Пока она обсуждала с доктором его симптомы и лечение, он сидел и молчал. Они с доктором были давними противниками, и Аббас улыбался, глядя, как они препираются над его немощным телом. Он надеялся, что улыбается про себя и по лицу ничего не видно. Доктор хотела, чтобы он упражнялся, каждый день выходил погулять.
– Вы любите читать, – говорила она, чеканя каждое слово, как будто у Аббаса был непорядок со слухом, хотя слух у него не пострадал. – Пройдитесь до библиотеки, почитайте там. Вам очень важно двигаться. Говорите себе, что вы поправитесь. Настрой очень важен в терапии.
«Настрой» – наверное, это слово произнес тогда мистер Кенион.
«Спать не могу», – хотел он ей сказать. Нормально спать, всё мешает: голова, горло, желудок, – но выходили только хриплые звуки. Он лежал на кровати с открытыми глазами, стараясь поменьше шевелиться. Мариам спала на раскладушке, всунув ее между гардеробом и окном, всю кровать предоставила ему. «Чтобы тебе было просторнее», говорила она, – но, может, и для того еще, чтобы быть подальше от его старческого запаха. И всё равно он часто не мог заснуть. Ее будил малейший звук, поэтому он лежал, застыв, дожидаясь, когда станет ровным ее дыхание. Но иногда не мог совладать с собой, тошнота и боль в животе одолевали его, и он слышал свои крики в подземных залах сознания, снова и снова, будто кричало умирающее животное. А иные ночи лежал не шевелясь, не в силах уснуть, и где-то в уголках сознания, где затаилась боль, возникали зеленые и красные вспышки, дожидаясь ее приближения.
От дороги вела заросшая тропинка, ее легко было пропустить, когда забыл, чего ищешь. Он шел домой из школы. Идти было далеко, по проселку, иногда отступать в сторону, чтобы дать дорогу телеге или грузовику с пассажирами. Вдоль обочин густо росли деревья, пальмы, они укрывали от послеполуденного жаркого солнца. От школы до дома был час ходу. Его единственного в семье отдали в школу. Какие были сражения из-за этого! Когда он показывался из-за деревьев, его встречал взгляд отца. Отец плел корзину для овощей, которые завтра отправятся на базар; он прерывал работу и кричал ему: «Берись за работу, бездельник! Думаешь, у тебя тут рабы?»
Таков был отец. Его имя было Отман, суровый человек, он наслаждался своей крутостью и разговаривал исключительно криком. А теперь, лежа в потемках, разбитый болезнью, в чужой стране, Аббас видел отца, стоящего во дворе под вечерним солнцем: саронг подвернут до бедер, и на пне перед ним наполовину сплетенная корзина. В ногах у него лежит короткая мотыга, с которой он никогда не расставался. Низкорослый, мускулистый, с твердым, как кулак, телом, он смотрел на Аббаса с нескрываемой свирепостью. Он на всё так смотрел, готовый сцепиться с кем угодно – с человеком или зверем, – и выражение ярости на его лице нисколько не смягчали большие очки в толстой оправе, которые он носил постоянно, снимая только перед сном. Чем бы ни занимался он, вид у него всегда был грозный – и вместе с тем комический. Аббас мечтал об обеде, но знал: если заикнется о нем, это вызовет тяжелый гнев отца. Поэтому он попросил разрешения сначала прочесть молитву, рассчитывая перехватить что-нибудь из съестного, отложенного для него матерью. Отец улыбнулся в ответ на его уловку, но, будучи человеком набожным, не мог в этом отказать.
– Поторопись, – сказал он. – Не заставляй Бога ждать, и меня тоже.
У них был небольшой участок, акра два, с фруктовыми и кокосовыми деревьями, росшими как попало, словно их не высадили, а занесло сюда случайно. Кроме того, отец выращивал овощи на продажу, и никто в семье не был освобожден от ежедневной работы на огороде. Он не уставал объяснять детям, что вырос в нищете, тяжело трудился всю жизнь и не хочет снова стать нищим. Никто в его доме не будет жить на дармовщину. Все должны работать за пищу, которой он их кормит. Его сыновья были его батраками, и он заставлял их работать так же усердно, как он сам. Жена и дочь были чем-то вроде служанок, watumwa wa serikali, государственных рабынь, говаривала мать. Они носили воду и дрова, стряпали и убирались, исполняли любое требование, весь день от восхода до заката. Будь проклята эта собачья жизнь!
Единственной слабостью отца были голуби. Ничего особенного не было в этих голубях: ни длинных хвостов, ни яркого оперения. Обычные серые плебеи, каких полно и в городе, и в сельской местности, но он строил им домики, горстями сыпал им просо, смотрел, как они слетаются вокруг него во двор, и с ненавистью отгонял ворон и кошек. Своих детей не защищал так, как их. Не позволял детям гоняться за ними, так что одним из бунтарских удовольствий у них было подбить голубя из рогатки и зажарить на костре где-нибудь подальше от дома. Но даже голуби не отвлекали его надолго от неослабного наблюдения за своим каторжным лагерем.
Так они работали, вся семья, но жили тяжело и скудно, впритык, без малейших удобств. И всё потому, что отец был скуп. Он ненавидел тратить деньги. Он вырыл яму в земле у себя под кроватью и там держал запертую шкатулку с деньгами. Потом сколотил крышку над ямой и запер на висячий замок. Это было как зарок, или клятва, или обет – тратить как можно меньше денег. Они ходили в обносках, спали на тюфяках на полу. Мяса почти не ели, а когда случалось, это были козьи бабки, сваренные в супе. Он был скуп – скуп на деньги и скуп в своем взгляде на мир. Allah karim, – говорил он, когда кто-нибудь из соседей по какому-то экстренному случаю просил в долг. «Бог щедр. У него проси в долг, не у меня». И всё же они были благополучнее своих деревенских соседей: жили в каменном доме, с уборной в тыльной части, а не в глинобитной хижине с отхожим местом в кустах. Из-за тяжелой обстановки в семье и бесконечного труда Аббас ощущал свое отличие от других детей. Те жили так же скудно, но находили время шататься по окрестностям, совершать налеты на фруктовые сады, играть подолгу в войну, тогда как сам он мчался домой перехватить кассавы или банан и трудиться на земле. Скудость – это слово он усвоил позже, но когда усвоил, оно правильно описывало его детство, и сам звук его напоминал ему о зловещей и ненужной нищете их жизни.
У него было двое братьев и сестра, он – младший. Однажды – ему было лет семь – самый старший из них, Кассим, отвел его в школу: дорога была трудная, по меньшей мере мили полторы от дома. Отцу это не нравилось. «Научат в школе одному – лентяйничать и чваниться», – сказал он. Но Кассим часто видел школьников, когда ждал автобуса, чтобы отвезти в город кокосы, окру и баклажаны. Он видел, какие они веселые и чистенькие, эти дети. Слышал их голоса через дорогу, их стишки и болтовню. Аббасу были знакомы эти звуки – иногда он сопровождал брата в город, чтобы помочь и поучиться, потому что когда-нибудь ему самому придется возить продукты на рынок, но главное, потому что брат понимал, как ему нравится ездить на автобусе. Он был еще мал, мог ездить бесплатно, поэтому отец не противился.
Они дожидались автобуса под деревом и слышали, как малыши на другой стороне дороги читают и тихо заучивают стихи. Эти звуки вызывали у Аббаса улыбку, он надеялся, что и ему когда-нибудь выпадет такое счастье. Он понимал, что и Кассиму такого же хотелось бы. И сказал ему об этом. Кассиму было тогда тринадцать лет – тощий мальчик, труженик всю свою жизнь. Он был уже глуп для школы. Ему уже поздно. Так он сказал Аббасу, когда они стояли под деревом, через дорогу от школы, и ждали автобуса. Брат Кассим. Позже в кафе, куда они зашли съесть булочку и выпить чаю, по радио кто-то говорил, что долг каждого – отдать своих детей в школу, и как это благородно – искать знаний, даже если придется отправиться за ними в Китай. Брат спросил, кто это говорит, и им сказали, что это новый кади, просвещенный человек, он хочет изменить жизнь, хочет, чтобы люди задумались о своей жизни. Он проповедовал по радио каждую неделю, говорил, что люди должны думать о своем здоровье, думать о своем питании, быть щедрыми с соседями, и говорил, что забота об этом – их долг перед Богом. В каждой проповеди он что-то говорил о необходимости отдавать детей в школу.
Однажды созвали собрание под большим деревом, и поговорить с ними приехал человек из правительства. Дело было в пятницу днем, после молитв, а под деревом – потому, что в ближайшей мечети все не помещались. Отец был там, и Кассим, и другой брат, Юсуф, такой молчаливый, что получил кличку Kimya (тишина). Кассим, и Kimya, и их младший брат Аббас, тоже kimya, – дети скупого Отмана. Человек из правительства был высокий, худой и одет в канзу и куфию. Он помолился с ними перед тем, как выступать, а потом заговорил с такой же настойчивостью, как кади по радио. Он сказал им, что войны теперь нет и правительство готово улучшить жизнь своих граждан. Для Аббаса война была новостью, но позже он поймет. Год был 1947-й. Человек из правительства долго говорил о пользе образования и всем советовал отдать детей в школу в новом году, который вскорости начнется. Домой шли молча, отец, как всегда, шагал впереди, а трое братьев следом, со своими мыслями.
Вечером перед всей семьей Кассим сказал, что Аббаса надо отдать в школу. Отец фыркал и грозился, все примолкли, но Кассим не отступал. Он спорил, ныл, упрашивал отца целыми днями. Хватит того, что все они тупые вьючные животные, но раз правительство хочет, чтобы молодые ходили в школу, мешать этому неправильно, говорил он. Какой от этого вред? Отец пытался заткнуть Кассима, ругался – «ты ничего не понимаешь, глупый щенок», – но сын продолжал уговаривать, и тогда он просто перестал слушать и отвернулся. И в день начала занятий, через две недели после собрания под деревом, Кассим, ни слова не сказав отцу, взял Аббаса за руку и отвел в школу. Днем, когда уроки кончились, Кассим уже ждал его, чтобы отвести домой, и Аббас увидел, что брат в синяках от отцовских побоев. Но на другое утро Кассим опять взял его за руку и отвел в школу – и на этом споры закончились. Аббас молча лежал в темноте, вспоминая тот первый день, вспоминал брата, и на глаза у него наворачивались слезы.
Это было первое важное событие в его жизни – школа в Мфенесини. Он годами избегал думать о тех событиях, и иногда удавалось даже убедить себя, что многое из этого забыл. Он плакал в темноте и о брате Кассиме, и о себе в то январское утро 1947 года, плакал старческими расслабленными слезами о двоих людях, теперь пропавших под грузом паники и вины. Он очень старался не думать о многом, и долгие годы это будто бы удавалось, – но вдруг ударит врасплох, выскочив невесть откуда и свирепо. Может быть, так и у других людей, которые ныряют, и увиливают от ударов жизни, и вздрагивают от них, и выстраивают корявый заслон от крепнущего противника. А может, жизнь вовсе не такова у большинства, и время приносит им покой и умиротворение, – но ему не так повезло, или он не оценил свое везение. Сколько ни уклонялся, он понимал, что время изнашивает его, и всё труднее было отмахнуться от того, что он должен был привести в порядок и не удосужился. Теперь он болен и изношен, и не может занять себя или отвлечься – лежит в темноте и ждет наступления боли.
«Эта школа в Мфенесини. Думай о школе в Мфенесини». Он мысленно рисовал схему. Было три корпуса: большой, фасадом к дороге, и два поменьше с боков, под прямым углом к нему – незамкнутый четырехугольник. Между средним корпусом и дорогой были клумбы и кусты; на одном из них висел кусок рельса – школьный звонок. Дежурный учитель, как его называли, держал на столе будильник и, когда перемена заканчивалась, велел одному из учеников своего класса бежать во двор и дважды ударить по рельсу железным прутом, висевшим тут же. В большую перемену и в конце уроков он сам шел к рельсу и сам выбивал энергичную веселую мелодию – дети радостно кричали. Стены классов были высотой в три фута. Дверей и окон не было, дети могли увидеть и услышать, что делается в других классах, – то есть если бы осмелились поглядеть. За одним из боковых корпусов был двор, там играли на переменах, а за ним – уборные. Каждый день после уроков их чистили все классы по очереди. «Полезно приучиться соблюдать чистоту», – говорили учителя. Дома они живут в грязи, как будто Бог дал им такое право. Здесь, в школе, они узнают преимущества чистоты и здоровья. Учителя были свирепые и чаще кричали, чем разговаривали, большинство из них расхаживали с палкой из гуавы, или тростью, или линейкой и грозно трясли ими, требуя порядка, а при надобности – били. Били на самом деле не серьезно, и после первого года дети вообще делали вид, что линейка или палка не причиняют боли. Это часть школьной жизни, это заставляет тебя учиться.
Когда он был нужен, отец на несколько дней забирал его из школы. Делал это с торжеством, словно восставал против жестокого закона. Аббаса отправляли полоть, или упаковывать, или делать что-то еще, для чего он годился по возрасту, и отец их, скупец Отман, злорадно показывал детям, что все в доме обязаны работать за еду. Из-за этих перерывов Аббас отстал в школе на целый год: вдобавок к неделям, когда отец удерживал его дома, он заболел лихорадкой и долго пролежал в постели. Учителя выговаривали ему за пропуски, но это была сельская школа, и не ему одному приходилось пропускать занятия. Несмотря на свое презрение к наукам, отец по дороге в город иногда заглядывал в школу, ходил по классам и, отыскав малолетнего сына, с насмешливой улыбкой наблюдал за происходящим. Но была и невольная теплота в этой улыбке, и, вспоминая о ней – если она и вправду была, – Аббас сам улыбался. А может, было это всего лишь старческим сентиментальным вымыслом. И не было никакой невольной теплоты в улыбке отца, а только презрение.
В общем, была улыбка или не было ее, у дороги росло громадное дерево, а напротив, через дорогу, – школа. В учебное время, даже в перемену, переходить дорогу запрещалось. Он не помнил, чтобы им объясняли причину. Школьным правилам надо подчиняться, а не обсуждать их. Как будто, перейдя дорогу, исчезнешь в листве – хотя классы были открыты солнцу, а территория школы не ограждена ни стеной, ни забором. Наверное, учителя просто хотели, чтобы ученики всё время были на глазах, в безопасности. Дети, когда была возможность, наблюдали за людьми под деревом. Это был маленький деревенский рынок, там продавали и покупали фрукты, овощи, яйца, дрова. Был киоск с чаем и закусками. Он часто думал об этом рыночке под деревом – нет, может, даже не думал, а перед мысленным взором вставал образ, когда он засыпал или уплывал в воспоминания. Образ, являвшийся ему, обладал глубиной и фактурой – это была не картинка. Он ощущал теплый ветерок, слышал смех людей, покупавших и продающих. Иногда появлялась новая подробность – лицо, о котором он сорок лет не вспоминал, происшествие, значение которого он осознал столько времени спустя. Подобные места он видел по телевизору – не Мфенесини, но похожие. И когда он видел эти места, он и Мфенесини видел яснее. Как это случилось? Однажды они смотрели по телевизору что-то о Судане, увидели рынок под деревом, и он сказал: «Мфенесини».
– О чем ты? – спросила Мариам.
– Там я ходил в школу, – сказал он.
Она попросила написать слово – хотела узнать, как оно пишется. Ему надо было бы продолжать. Дети уехали, времени стало больше, можно было продолжать рассказ, но он умолк, и она не просила его рассказывать дальше.
Наверное, учителя нервничали из-за автобусов: ездили они не так часто, но появления их нельзя было предугадать. Иногда они час не появлялись и больше, и вдруг вылетал неизвестно откуда набитый людьми автобус и останавливался у рынка. Если он ехал в город, то загружался продуктами, а если из города, то останавливался, чтобы высадить людей. Этот рыночек был маленькой пыткой для детей. Они не могли оторвать взгляд от кипучей деятельности под деревом. Учителя требовали от них полного внимания, а это значило, что они были обязаны смотреть прямо перед собой, даже когда учили наизусть таблицу умножения или слушали учителя, читавшего какой-нибудь рассказ. Отвлекшемуся непременно доставалось по уху. И непременно – мальчику, девочек учителя-мужчины не били, а учителя все были мужчины. Если учитель стукал девочку, приходили с жалобой ее родители, как будто он совершил непристойность.
Если что-то случалось под деревом – драка или кто-то падал с велосипеда, – вся школа – ух! – вскакивала на ноги, забыв об учителях. Вспоминая это, Аббас улыбался. Учителя изо всех сил старались поддерживать тишину и порядок, словно это было делом их чести. Иногда, стоило кому-то почесаться или заерзать, они воспринимали это чуть ли не как свой позор. Как же они любили покорную тишину! Но долго поддерживать ее они не могли. Не могли всё время держать детей в узде. Вечно что-то случалось: маленький бунт, взрыв смеха, дерзкий мальчишка, нечувствительный к пощечинам.
После стольких лет, после всего, что случилось потом в жизни, это время представлялось безмятежным. Он ходил в школу, работал на земле, иногда шатался с другими мальчишками. Самое памятное было связано со свадьбой сестры Фавзии. Она была самой старшей из них и уже упрямилась, бунтовала против отцовских порядков, весь день ныла и жаловалась тонким голосом, вставала на дыбы после каждого выговора, убегала и где-то пропадала часами. Ей было тогда лет семнадцать, и эти исчезновения сильно ускорили ее замужество. Нельзя, чтобы девица пропадала где-то часами. Чем она там занимается, портит себе репутацию и позорит семью? В свои одиннадцать лет Аббас еще не знал, как устраиваются такие дела, но жених ей был найден, и приготовления к свадьбе начались.
Отец без конца жаловался на траты. Расходы на свадьбу съели все его сбережения, говорил он. Никто ему не верил, хотя известно: свадьбы оставляли семьи нищими. Родители тратили всё накопленное или залезали в долги, чтобы дать серебро, золото и деньги в приданое. Устраивали пир, чтобы все родственники и любой присоседившийся бездельник могли набить животы жарки́м и мороженым. Раскошеливались, чтобы не было позорных сплетен. Их называли бы скупцами, если бы они не наполнили жадные животы гостей, которых даже не приглашали, но не могли прогнать. Отец не возражал против того, чтобы его сочли скупцом. Таким он слыл уже, и его это нисколько не смущало. Но раскошелился по полной, как полагалось. У него нет выбора, твердила ему жена, иначе он опозорит дочь. Так что накрыли богатый стол, приехали повара из города со своими котлами, блюдами, сбивалками для мороженого. Детвора возбудилась немыслимо. Недалеко от дома привязали теленка, он жалобно мычал, словно знал, что его ожидает, а рядом сидели, жужжали мальчишки. Ждали, когда придет резак и зарежет его. Пришел, но разогнал их перед тем, как начать. Развели костры из душистого дерева, и в воздухе повис аромат бирьяни. Заиграли барабанщики, из города и других мест потянулись гости. Женщины ушли на площадку, отгороженную пальмовыми ветвями, а мужчины оставались под навесом, здоровались, разговаривали, хлопали друг друга по плечам, смеялись. Отман отложил свою короткую мотыгу, он был в новом канзу – белом халате, специально сшитом по этому случаю, – и в куфии, шапке без полей. Ее подарил отец жениха. На плечи он накинул шелковый платок, извлеченный из сундука в его спальне и пропахший камфарой. Ему как-то удалось подавить огорчение, вызванное безумными тратами, и даже выглядеть отчасти горделиво в новом убранстве. Потом были пир, барабаны и пение до поздней ночи, и мальчишки, спрятавшись в кустах, глядели на женщин, танцевавших за пальмовой оградой.
