Шепоты дикого леса
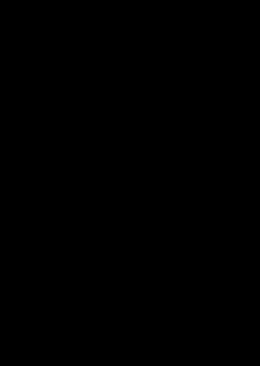
© 2021 by Willa Reece
Печатается с разрешения автора при содействии литературных агентств The Knight Agency и Nova Littera SIA
Перевод с английского Александры Перелыгиной
© Рис Уилла
© Издание на русском языке, оформление. Строки
Пролог
Апрель, 2009 год
Я была готова.
Я всегда была готова.
Перед звонком на перемену я открыла свой шкафчик и погладила дно висящего на крючке рюкзака с Чудо-женщиной. Его выпуклые бока, раздутые парой туго скатанных футболок, шорт и комплектов нижнего белья, придавали спокойствия. В другом шкафчике, дальше по коридору, находился ранец Сары, не менее тщательно заполненный всем необходимым.
Хотелось проверить и его – хотя утром, перед тем как покинуть дом приемных родителей, я уже это сделала.
На перемене всегда случалось что-то плохое. А теперь, когда защитить нужно было не только себя, дела пошли еще хуже. Хулиганы, казалось, чувствовали жертву, за которую не заступятся взрослые. Тех, кого любящие мама с папой не заслонят своим крылом в случае беды.
Я-то уже знала, как себя уберечь, поскольку, в отличие от Сары, находилась в системе всё время, что себя помнила. Убрав руку от рюкзака, я захлопнула дверцу шкафчика сильней, чем следовало. Звук удара разнесся по всему коридору – его не заглушили даже голоса учеников, спешивших потратить свободные полчаса. Я не поднимала глаз. Внутренне съежилась и с усилием разжала кулаки. Ладони прижались к прохладному помятому металлу, словно уговаривая его замолчать. Поздно. Я привлекла внимание. Казалось, в мою ссутулившуюся спину вперились взгляды сотен пар глаз.
Поэтому я сделала единственное, что оставалось.
Обернулась, выпрямилась и расправила плечи.
Вымахав под метр семьдесят, я была выше большинства одноклассников. Густая копна непослушных каштановых кудрей добавляла еще пяток сантиметров. Но, высокая или нет, для мира я все еще оставалась ребенком. Я древняя только внутри. Первую пару уставившихся на меня глаз я встретила решительно, всем своим видом спрашивая: «Ну и чего тебе надо?» Мальчик отвернулся. То же самое пришлось проделать еще неоднократно, пока вся толпа не прошла мимо.
Перемена – ежедневное испытание, которое я встречала с мрачной решимостью солдата, ступающего на поле боя. До появления Сары мне всегда удавалось найти какой-нибудь спокойный закуток, да и мало кто хотел задирать такую дылду. Конечно, не обходилось без сплетен. От скуки дети выдумывают всякие бредни. Однако и учителя обсуждали меня между собой, и некоторые из их рассказов кочевали из школы в школу.
Я не сразу научилась избегать ненужного внимания.
Система не любит, когда кто-то показывает бойцовский характер. Чтобы понять это, у меня ушло одиннадцать лет. Я держала в наших рюкзаках набор вещей первой необходимости, потому что наилучший выход из любой ситуации – это побег. Не давать сдачи, а отступать – таков план. Соцработникам это нравилось. Беглецам отводилось больше сеансов с психологами. Им открывалось больше мест для распределения. Им выражали сочувствие глубоко тронутые дяди и тети, которые «просто делали свою работу».
Если не участвуешь в потасовках, твоя судьба складывается куда лучше.
Сара Росс пока не разобралась во всех этих хитростях. Она была годом старше, но неопытна, несмотря на то, через что ей довелось пройти. В зону действия органов опеки города Ричмонд Сара попала издалека. Говорила она нараспев и понятия не имела ни о хулиганах, ни о городском укладе жизни. Настолько миниатюрная и такая уязвимая, что от одной мысли об этом у меня опять сжимались кулаки.
До нее у меня ни с кем не получалось крепкой дружбы. Настоящая фамилия Сары известна только мне, а для всех остальных она была Смит – так же, как и я.
Еще три месяца назад меня называли Джейн Смит. Девочка без настоящего имени. Без настоящей семьи. Без надежды, что кто-нибудь решится удочерить ребенка с пометками о вспышках агрессии в личном деле. Однако вновь обретенную лучшую подругу не беспокоило, что я родилась бойцом в несправедливом мире, который заставлял пускать в ход кулаки и одновременно не упускал возможности наказать за это. Допускаю, что не только не беспокоило, но даже немного нравилось. Моя кипучая ярость была полной противоположностью ее ледяной тоске. Дружба наша возникла мгновенно и развивалась стремительно. Мы на мизинцах поклялись друг другу в нерушимых сестринских узах в полночь, при свете лампы с супергероями.
А уже со следующего дня Сара стала называть меня Мэл. Я не возражала: это имя почему-то казалось ближе, чем вроде бы уже привычное Джейн.
«Сара не может слезть с турника, у нее юбка задралась, а Джейсон это фотографирует и постит в сеть!» – услышала я, стоило только выйти на улицу и начать осматриваться. В голосе крикнувшей мне это девочки, Венди Соломон, звучало удовольствие, а не расстройство. Будто бы перемена куда интересней, если сопровождается издевательствами и приставаниями.
Большинство учеников побросали свои дела и окружили турник, где самый крупный из них – даже крупнее меня – подкараулил Сару.
Она отличалась спокойным нравом и к тому же давно переросла игры на детской площадке, но когда высоко в небе светило солнце, а горки и лазалки оказывались так близко, никогда не могла удержаться. Природа притягивала ее, будто каждая травинка на лужайке была настоящим чудом. Сара совершенно не обращала внимания на шум загруженной трассы или на шлейф загрязненного воздуха. Да и на хулиганов, которых привлекали ее покатые плечи и бездонные глаза.
Я не мешкала ни секунды. Даже не подумала уйти в другой конец двора и переждать все это на пустой скамейке. Нельзя доверять судьбу Сары кучке учителей, собравшихся у баскетбольной площадки, потонувшая в зарослях ограда которой давала им укрытие для курения. Не остановило меня и то, что вмешательство, скорее всего, обернется очередной неприятной строкой в личном деле.
Однако я не кинулась к турнику очертя голову. Двигалась по площадке так осторожно, как только могла. Никто не обратил на меня внимания. Одно дело – слухи, другое – личный опыт. А здесь я раньше не ввязывалась в заварушки на перемене. Наоборот, старательно избегала задир и изображала невозмутимость.
Только Сара знала правду. И сейчас только она наблюдала за моим приближением к турнику.
Несложно представить, как все случилось. Стоял теплый погожий весенний день. Бабочки порхали над одуванчиками, до которых у озеленителей не дошли руки – видимо, для выведения сорняков им платили недостаточно. Пока я еле волочила ноги к выходу из здания школы, Сара с энтузиазмом выбежала во двор. Она вскарабкалась на самый верх лесенки, чтобы приблизиться к белым пушистым облакам, которые так ей нравились.
А по ее следу шел Джейсон Мьюз.
Надо было сразу догнать подругу. Надо было успеть туда раньше и встать на страже у турника, чтобы защитить ее от извращенцев.
Я подошла достаточно близко, и мне стали видны зардевшиеся щеки и заплаканные глаза Сары. Видны побелевшие костяшки пальцев, вцепившихся в ржавые металлические прутья, видны дорожки от слез на лице. И тут тугой раскаленный узел ярости, который постоянно обволакивал внутренности, сдавливая легкие и сковывая движения, разорвался. Я была свободна.
И побежала.
Бросившись на Джейсона всем корпусом, я выплеснула силу и ярость, скопившиеся за десять тысяч раз, когда хотелось, но не было возможности его проучить. Он потерял равновесие, выпустив сотовый из рук. Телефон приземлился на мульчу [1] у основания лесенки, и моя нога дважды надавила на экран, пока Джейсон восстанавливал дыхание.
– Мэл. – Голос Сары дрожал, но в нем прозвучали надежда и облегчение.
Нужно было предупредить ее, что добром это не кончится. Система не жаловала героев. Жертвы – другое дело: они тише, с ними проще сладить. Но, прежде чем я успела облечь эту непростую мораль в слова, Джейсон лягнул меня своей длинной ногой. Я свалилась на покрытие, из-под тонкого слоя которого местами проступал плотно утрамбованный грунт.
Мой подбородок угодил как раз по такой проплешине, и от боли аж искры из глаз посыпались. Во рту появился неприятный привкус металла, и я постаралась побыстрее проглотить кровь. Всегда ненавидела этот вкус. Потому что обычно за ним следовали вещи похуже.
– Что? Думаешь, тебе одной можно смотреть на розовые кружева этой деревенщины, а, Браслетница? – спросил Джейсон.
Я никогда не числилась среди малолетних преступников, и никаких мер пресечения вроде электронного браслета мне не назначали, но прозвище родилось благодаря слухам, опровергать которые было бы глупо. Возможно, в глубине души я полагала, что рано или поздно они станут реальностью. Избегать внимания так тяжело.
Поперхнувшись, я сплюнула покрасневшую слюну. Дети вокруг зашумели. Кто-то подначивал Джейсона пнуть меня снова. Почему-то эти выкрики были больнее, чем падение. Другие предупреждали, что сюда идут учителя. Не слушать никого. Не замечать боли. Я зачерпнула две пригоршни мульчи и приподнялась на колени.
– Сиди, где сидишь, Браслетница, – пригрозил мне Джейсон, а затем отвернулся перешучиваться с друзьями в полной уверенности, что я послушаюсь.
Мы с Сарой всего лишь приемыши. Заступиться за нас некому.
Разумнее всего было бы отступить. «Ой, я упала, просто случайность». Нет причин для вмешательства учителя. До этого я лишь толкнула мальчика намного крупнее себя. Ну, наступила на телефон. Подумаешь. На противнике-то крови не было. И синяков тоже. То, что из нас двоих кровь пошла у меня, могло сыграть мне на пользу. Только вот этому переростку еще мало досталось. Моя решимость усилилась, когда я заметила, что он все еще поглядывает Саре под юбку.
Угрозу я проигнорировала. Челюсть болела, не без труда получилось подняться на ноги. Хотя наполненные мульчей кулаки, казалось, увеличились в размере.
Не влипать в неприятности было тяжело, потому что задиры вроде этого сами напрашивались на трепку.
– Да они розовые, говорю вам. И на одном боку болтается порванная резинка, – сказал Джейсон и рассмеялся. Потому что над бедными смеяться легко. Потому что, если ты не дразнишь и не унижаешь кого-то другого, то и с тобой может случиться какая-нибудь неприятность. Потому что проще быть жестоким, ведь добрый мог бы почувствовать нашу боль. Некоторые из дружков Джейсона, стоявших в толпе, тоже засмеялись и продолжали выкрикивать гадкие советы, но остальные притихли, увидев, что я снова на ногах.
Через кольцо детей уже протискивалась первая из учителей, когда Джейсон, которому жестами и взглядами указали на опасность за спиной, начал разворачиваться. Я отреагировала моментально. Нельзя было упускать такую возможность. Хулиган крупнее, но я – безумнее. Я вложила весь свой вес в замах. Когда костяшки моих пальцев встретились с его ухмылкой, у него из губы брызнула кровь. От удара его развернуло вполоборота, и он рухнул на землю. Мульча полетела в стороны, как конфетти. Джейсон был ошеломлен. Как и все, кто был на площадке. Кроме Сары, которая отчетливо предвидела, к чему все идет.
Инерция замаха понесла меня вперед, прямо в объятия мисс Татум, которая достигла наконец турника. Выражение ее лица в значительной степени иллюстрировало мысли о преимуществах незаметного существования, но сейчас меня занимала Сара. Лучшая подруга. Сестра. Семья. Она смотрела сверху вниз с перекладины и широко улыбалась – впервые я видела у нее такую улыбку, от которой лицо подруги даже казалось не таким бледным. Она будто говорила: «Ничего страшного, все будет нормально, если держаться друг за друга». Джейсон сыпал проклятиями, лежа на земле. Руки мисс Татум безжалостно стиснули мои плечи. Но в шкафчиках висели рюкзаки для «тактического отступления», и Сара продолжала улыбаться.
Бойцом я была всегда.
Но не всегда знала, что семья – это то, за что стоит бороться.
Апрель, 2019 год
Мэл не пользовалась духами. Ей и не нужно было. Пусть ее каштановые кудри всегда были сзади подколоты массивными заколками, а спереди – собраны под козырек с логотипом сети кофеен, густой аромат насквозь пропитал волосы, кожу и одежду. Да это и не удивительно. Она чуть ли не жила на работе, брала дополнительные смены, не отказывалась работать сверхурочно и помогала с инвентаризацией – ведь обучение в колледже медсестер обходилось недешево. А Сара всегда хотела стать медсестрой.
Почти всегда.
Еще не забылись времена, когда она мечтала о другом. Выросшая в горах на западе Виргинии с матерью-травницей, она в будущем тоже видела себя целительницей. Ей было тяжело вспоминать, как именно прежние помыслы превратились в нынешние – не без помощи Мэл.
Сара глубоко вдохнула утешающий запах кофе, исходящий от подруги.
Невозможно вернуться домой. По крайней мере, в этой жизни. Это небезопасно. Конечно, однажды Сару Росс там похоронят. Рядом с матерью. А до тех пор она будет учиться исцелять более современными способами.
Тем утром аромат работы Мэл наполнял квартиру, пока она пила травяной чай, заваренный заботливой рукой Сары. Около чашки оставались только хлебные крошки от тоста, который тоже поджарила Сара, но та знала, что уговаривать подругу съесть что-то еще бессмысленно. В вопросах экономии бюджета Мэл была непреклонна и не позволяла себе ни кусочком больше запланированного, хотя подруга часто уговаривала взять добавки.
Даже настоящая сестра не беспокоилась бы о ней так, как беспокоилась Мэл. С самого начала эта опека принесла Саре огромное облегчение. Когда боль от утраты матери была остра и свежа. Когда оказалось, что требования города, его виды и звуки кардинально отличаются от порядков укромного мира посреди шепчущей чащи, где она выросла.
Мэл в буквальном смысле давала отпор всем насмешникам, которые передразнивали говор Сары или ее провинциальную манеру держаться. Всем задирам, для кого она была легкой мишенью, потому что не понимала, как сироте отстаивать свое право на существование. Потрясенная утратой, она училась этому медленно. В Ричмондский детский дом она попала полностью изувеченной крушением той единственной жизни, которую когда-либо знала.
А Мэл подхватила ее, не дала упасть и разбиться.
И собственные проблемы Мэл – сироты без перспектив удочерения – отошли на второй план. С того самого момента она взяла Сару под крыло и помогала ей во всем. И Сара полагалась на нее. Но теперь кое-что изменилось. Проходив полгода в колледж медсестер, Сара поняла, что названая сестра не собирается поступать туда вслед за ней, как обещала. И прекращать урезать свои потребности в еде, одежде и всем остальном, чтобы Саре доставалось больше, она тоже не планирует.
Нет, если только Сара ее не заставит.
Обескураживающая мысль. Никто не мог принудить Мэл делать что-то, чего ей не хотелось. Она была сама непреклонность. Словно солнце… или, скорее, луна. В ней определенно больше от ночи, чем ото дня. В их маленькой семье источником тепла была Сара. Тепло исходило от чая, который она заваривала, от ее вышивки. От комнатных растений в горшочках и дурашливых сообщений, иногда заставляющих Мэл улыбнуться. А Мэл олицетворяла извечную предсказуемость приливов и отливов. Ее трудами их существование двигалось вперед, но старалась она всегда ради Сары, а не для себя. Только Сара знала, что жизнь Мэл не будет исчерпываться подобными заботами и работой.
– Тебе надо побольше времени проводить вне кофейни, – сказала Сара. Веки Мэл утомленно опустились, но на губах при мысли об отдыхе все же возникла ухмылка.
– Буду спать весь день, обещаю, – ответила Мэл, кинула осточертевший козырек с логотипом на стол возле себя и начала вынимать заколки. Они часто провоцировали у нее головные боли. Вот и сейчас она погрузила пальцы в волосы, чтобы помассировать кожу – видимо, пытаясь справиться с болью, промолчав о ней.
Но Саре часто было известно больше, чем другим.
К примеру, она знала, что Мэл вовсе не уготовано судьбой варить кофе до конца своих дней. Только вот не знала, как заставить подругу выйти из роли спасателя-опекуна и позаботиться о самой себе.
– Они опять тебе позвонят раньше положенного. И ты опять уйдешь, потому что меня не будет рядом, чтобы отговорить, – продолжала Сара, на что подруга пожала плечами и отхлебнула еще чаю, не став спорить.
Сара хотела предупредить: вот-вот случится что-то нехорошее. Кроме трудоголизма Мэл ее беспокоило и нечто другое, считывающееся где-то на периферии чувств. Знаки приближающейся опасности. Они слышались в ворковании голубей, сидящих на подоконнике. И в шуме ветра, колеблющего ветви деревьев. В ее жизни до сих пор звучал голос природы, и Сара не могла взять и отмахнуться от того, что он говорил. Но она не представляла, как передать это знание Мэл, чтобы не усугублять и без того нелегкое бремя, которое та решительно несла на своих сильных плечах.
И вот ее названая сестра поднялась с места, допив оставшийся чай. Затем решительным движением стукнула донышком о стол. Проходя мимо стула Сары, она остановилась и наклонилась, чтобы поцеловать ее в макушку.
– Иди на занятия. Я со всем разберусь, – сказала подруга, легонько толкнув Сару бедром в бок. Это не отменяло нежного поцелуя, однако обозначило конец разговора.
Сара наблюдала, как, избегая серьезного обсуждения, Мэл ретируется в свою комнату. Чтобы там, несмотря на успокаивающий чай с валерианой, ворочаться в кровати, думая, где наскрести денег на оплату стажировки Сары и как долго можно будет проносить собственную старую обувь. Когда дверь в комнату закрылась, Сара с неохотой потянулась к кружке с веселым лисом, которую купила для Мэл на прошлое Рождество, скопив понемногу денег. Нужно было взглянуть на остатки молотого корня валерианы на дне чашки, хоть Сара и опасалась того, на что они укажут.
Сердце оглушительно забилось, а глаза широко распахнулись. Комочки и завитки в чашке Мэл сводили на нет улыбку мультяшного лиса. Сара уронила чашку на стол. Она со стуком опрокинулась набок. Девушка взглянула в сторону комнаты Мэл и приподнялась, собираясь пойти к ней… За утешением? Чтобы предупредить? Но ни то ни другое не могло решить проблему. Ее взгляд переместился на входную дверь и замер. Три дополнительных засова, которые поставила Мэл, не могли защищать их вечно. Угроза, выгнавшая Сару из горных лесов, все еще шла по ее следу, и на сей раз даже Мэл не под силу остановить падение.
А кто подхватит саму Мэл?
Сара тихо собрала со стола посуду и смыла заварку в раковину, надеясь, что ошиблась. Споласкивая тарелки, она изо всех сил старалась уловить правдивые ответы, но воркующим голубям на подоконнике больше нечего было сказать.
Глава первая
Сара Росс, двенадцати лет от роду, схватила под подушкой пахнущий травами оберег – сделала она это так стремительно, как если бы это был не оберег, а вытяжное кольцо парашюта, а ее грубо вытолкнули за борт самолета, летящего на высоте нескольких тысяч километров. Кошмары часто заставляли проснуться, но от этого воображаемого падения дрожащие пальцы сжали крошечную вязаную мышь с такой силой, будто от нее зависела жизнь Сары. Оберег, подарок матери, набитый полынью, мелиссой и прочими травами, должен был помогать заснуть – и, как правило, помогал, но сновидение разбудило ее и наполнило неодолимым ужасом, словно под ней вместо земной тверди зияла бездонная пустота.
В этот раз пальцы продолжало ломить даже после того, как она почувствовала под собой матрас. Она никуда не падала. Сон прошел. Простыни на мягкой кровати все еще пахли солнечным лугом: они впитали его аромат, пока сушились на улице.
Только руки все равно болели.
Подобные ощущения сопровождали пробуждения Сары с самого раннего детства и не имели рационального объяснения. С ее пальцами, костяшками и ладонями физически все было в порядке. Обычно мышка помогала за несколько минут, возвращая девочку в реальный мир.
Но в этот раз все было иначе.
Сара села на кровати, но без оберега в руках. Она оставила его там же, под подушкой, потому что в двенадцать лет уже стыдно хвататься за Шарми, выцветшую розовую игрушку, когда тебе страшно. Сердце все еще лихорадочно билось. Желудок сводило от тошноты: деревянные половицы под босыми ногами Сары не казались достаточно осязаемыми. И все равно Сара встала и прошла несколько шагов, чтобы закрыть окно.
Может быть, ее разбудил остывший утренний воздух?
Только вот иногда женщин семейства Росс посещали предчувствия, объяснить которые с помощью привычной логики было нельзя.
Предрассветное марево едва окрашивало небо. Сара напрягла слух. Не было слышно криков козодоя. Не раздавалось насмешливого лая койотов, спешащих залечь на день в логове, и петухи, сбежавшие из курятника, не сообщали округе о своей ловкости и удаче из укромных уголков.
В диколесье было непривычно тихо.
Внезапная тревога стряхнула с девочки остатки сна и заглушила боль в костяшках. Хижина казалась неродной, и это противоестественное ощущение словно расползалось от точки, где неподвижно и безмолвно стояла Сара, по аппалачской глухомани, простиравшейся на сотни километров вокруг.
Сара хотела было снова нащупать мышиный оберег, но тут вспомнила, что сегодня день ее рождения. А значит, будет традиционный в этих горах многослойный яблочный пирог, подарки, и, может, если очень повезет, мама наконец разрешит кому-нибудь из своих подруг приложить девочке к ушам грелку со льдом и проколоть мочки иголкой. Тогда можно было бы надеть новые сережки, которые наверняка лежат в одной из ярких коробочек в маминой спальне.
Радостные мысли.
И тем не менее сердце Сары продолжало биться быстрее, чем следовало. Этого не объясняла тишина леса и приснившееся падение. И фантомная боль была слишком обычным явлением, чтобы послужить причиной. Что-то не так. Поэтому Сара и проснулась. Не от прохлады. Не из-за кошмара. И не от возвращающихся болей в пальцах, источник которых, как сказала мама, когда-нибудь отыщется.
Вчера ночью, перед тем как лечь спать, Сара распахнула окно, чтобы выпустить испуганного мотылька-сатурнию, угодившего в промежуток между сеткой и волнистым стеклом. Беспокойное биение в груди напомнило девочке трепет крыльев насекомого. Та же беспомощность и желание освободиться. Мотылька она отпустила, но своему неистово колотящемуся сердцу помочь сейчас не могла.
Пол под ногами казался холодным, но Сара не стала искать носки или тапки. Она поспешно вышла из своей расположенной на чердаке спальни на маленькую лестничную площадку, от которой вниз вели ступени из горбыля. На них были разостланы лоскутные коврики, так что Сара спустилась в гостиную почти бесшумно.
Света нигде не было – даже в ванной рядом с маминой спальней. Мать Сары всегда оставляла эту лампочку гореть на случай, если посреди ночи придется открывать входную дверь. Живущую в горах целительницу могли побеспокоить в любое время, пусть до современной клиники теперь было меньше часа езды.
Неожиданная темнота была временной. Вот-вот должно встать солнце. Розоватая дымка уже обрамляла силуэты предметов вокруг.
Вместо того чтобы бежать будить маму, Сара пошла на кухню. Она ведь уже не ребенок – несмотря на трепещущего мотылька в груди.
Ей исполнилось двенадцать. Она скоро проколет уши, а потом начнет помогать матери в семейном ремесле. Наблюдая за ней, Сара уже многое узнала: как выращивать травы и перемалывать их, как готовить настойки и отвары. Теперь уже не по возрасту пугаться плохих снов и предчувствий.
Боль в костяшках прекратилась. А с ее причиной можно будет разобраться потом.
Когда Сара открыла холодильник, тот ободряюще загудел. Она потянулась за апельсиновым соком, который мать держала в графине на верхней полке. Знакомый терпко-сладкий вкус помог успокоиться. По крайней мере, так она думала, пока не вернула графин на полку и не закрыла дверцу. Оказалось, ее успокаивал свет изнутри холодильника. А когда дверца захлопнулась и девочка снова очутилась в странной мгле, мысли о скором рассвете и праздничном пироге не удержали от того, чтобы побежать в комнату матери.
Темнота не мешала ориентироваться. Сара прекрасно знала каждый сантиметр дома. В этой уютной хижине, построенной ее прабабушкой, она прожила всю жизнь. Как прежде – ее мама и бабушка.
Сара остановилась в дверях спальни и далеко не сразу заметила, что мамы нет в постели. Желудок снова скрутило, как во время падения, а в горле застрял сдавленный крик. Она нащупала дверной косяк и обхватила его так, что побелели косточки на пальцах – сильных, целых и невредимых. Кошмары нереальны. Должно быть, Мелоди Росс встала пораньше, чтобы подмести крыльцо или перемолоть травы во врезанной в пень каменной ступке, использовавшейся многими поколениями женщин семьи Росс.
Но даже представив себе звук, с которым дубовый пестик, гладкий и лоснящийся от многолетнего использования, растирает в ступке корешки, Сара не поверила в это объяснение.
Потому что она принадлежала к семье Росс, а женщины в их роду знали: предчувствия не менее реальны, чем бумаги, разбросанные по полу спальни.
Сара отпустила дверной косяк и вбежала в комнату. Она упала на колени в ворох бумаги, но даже шуршание вырванных страниц, которые она подбирала и прижимала к груди, с трудом заставило поверить в то, что святыня осквернена. Мама бы ни за что такого не допустила – если только с ней не стряслась беда.
Снаружи рассеивалась темнота, небо стало блекло-серым.
Разбросанные страницы были вырваны из старинного лечебника семьи Росс, который ночью обычно хранился на мамином прикроватном столике. За годы службы они выцвели и покрылись пятнами. Тем не менее рукописные заметки травниц предшествующих поколений тщательно оберегались.
До сего дня.
Неправильность происходящего потрясла Сару. Чувство падения в бездну переполнило желудок и погрузило все тело в пучину отчаяния. Однако, прежде чем, дрожа, подняться на ноги, она подобрала вырванные страницы. Все до единой.
Стало светлее, и она увидела то, чего не заметила ранее.
След из страниц вел по коридору в гостиную. А оттуда – дальше, через порог дома мимо открытой входной двери. Мотылек сердца поднялся выше, к горлу, и замер там, едва позволяя дышать. Она кинулась вперед, подбирая остатки книги, потому что знала: этого хотела бы ее мать.
Лечебник сопровождал жизнь Сары чуть ли не с рождения. Она ведь была из семьи Росс. Книга была предназначена научить ее врачевать и готовить лекарства, взращивать и пожинать семена будущего. Горячие слезы хлынули по ее замерзшим щекам. Утром в горах было морозно. Легкая ночная рубашка не давала достаточно тепла. Но возвращаться за халатом девочка не стала. Плача и дрожа от холода, она подбирала страницу за страницей, пока ее ноги леденели от росы.
Сара не оставила ни одной страницы на сырой траве, собрав даже те, на которых были липкие следы крови. Когда она прикасалась к ним, с ее холодных губ срывался отчаянный стон, сдержать который мотыльку в горле было не по силам.
Разбросанные страницы привели к тропинке, скрывавшейся в лесу. Девочка без колебаний ступила под его тихие и все еще темные своды. Тени диколесья были ей знакомы. Прежде чем она научилась ходить и говорить, ей показали тут каждое растение, каждый корень, каждое дерево и каждую лозу. Но и здесь Сару уже поджидало нечто искаженное, противоестественное. Шелест листьев от дуновения утреннего ветерка не звучал гостеприимно – к нему примешивался другой звук: размеренный скрип, заставивший ее плотнее прижать к груди остатки лечебника.
Скрип не умолкал. Чужеродный звук в родном месте.
Сара дошла до конца такой знакомой тропинки, ведущей со двора в сад, но впервые что-то на этом пути заставило ее застыть в страхе. Скрип стал слышнее. Он давил на уши, заглушая грохот сердцебиения и приветливое журчание горного ручья.
Зловещий звук стал вездесущим. Разум пытался определить, откуда он исходит, и в то же время уклонялся от этого знания.
А вдруг часть страниц унесла вода?
Паника заставила девочку двинуться дальше.
Нужно сберечь книгу. То утро, бросившее вызов всему привычному, оставило Саре только такой смысл.
Внезапно открывшаяся чудовищная картина – тело, висящее на белой акации, – снова остановила ее. Смысла не стало. Все разумные доводы улетучились. Тугая веревка шла от материнской шеи к скрюченной ветви, на которой терлась о кору и издавала стоны затянутая петля. Руки Сары обмякли, и собранные страницы, словно осенние листья с алыми крапинками, рассыпались по земле. Теперь и правда какие-то из них оказались в ручье. Им повезло – течение подхватило их и понесло по волнам, а Сара, оцепеневшая снаружи и внутри, так и стояла, приковав взгляд к телу матери.
Наконец мотылек, сидевший в ее горле, выпорхнул наружу надломленным криком. Он разорвал тишину, сковавшую гору. Всеобщей неподвижности тоже пришел конец: сонные вороны встрепенулись и поднялись с насиженных мест, откуда наблюдали за мрачной сценой. Сара бросилась к качавшимся, подобно маятнику, посиневшим ногам матери. Чтобы помочь. Защитить. Хотя явно уже слишком поздно.
Мамина ночная рубашка была в крови: засохшие брызги резко выделялись на бледно-розовой ткани. Мама всегда была такая чистая и опрятная, такая решительная и ко всему готовая, переполненная энергией и жизнелюбием. Кто-то сделал ей больно. Кто-то вытащил ее из дома, оставив след из окровавленных страниц.
Сара оказалась не готова. Двенадцати лет ученичества не хватило. Оберегов и снадобий было недостаточно. И сада дикого леса – тоже. Мотылек улетел. Остались только стоны. Острые и уродливые, они раздвигали губы зазубренными крыльями, которые резали, как стекло. Тело на дереве не было ее матерью. Осталась лишь изуродованная, безжизненная оболочка знахарки Мелоди Росс. Ее остекленевшие глаза не выражали ничего. На ее губах больше никогда не появится улыбка. Еще недавно блестевшие на солнце темные волосы растрепались и вымокли.
Сара добиралась до сада слишком долго. Она должна была услышать шум. Должна была почувствовать ужас. Все это разбудило ее, но она отвлеклась на игрушечную мышь и блуждания по темному дому. Притворялась, что все в порядке, выпив сока и думая о подарках ко дню рождения. Но она была из семьи Росс, жизнь которой никогда не ограничивались пустяками вроде сережек или пирогов.
Вой, полный гнева и страха, понесся к солнцу, показавшемуся на горизонте. Никогда больше мелочь вроде связанного крючком оберега не сможет ее утешить. Сара упала на колени у подножия белой акации, потрясенная собственным криком. Пройдет немало времени, прежде чем она снова сможет издать хоть звук.
Урна с прахом стояла там, где я ее оставила. Ваза из нержавеющей стали не опрокинулась, пока я спала, и останки Сары не рассыпались по полу вместе с ее жуткими воспоминаниями. Скорбный пепел не проник в мои обычно безликие кошмары и не наполнил их ужасающе отчетливыми образами. Результатом автомобильной аварии, отнявшей жизнь моей лучшей подруги, стало легкое сотрясение мозга… и прах Сары.
Прошел месяц с тех пор, как я забрала ее останки.
Никто другой на них не претендовал.
Эта ответственность, проникнутая каким-то опустошающим холодом, днем превращала меня в блеклое подобие самой себя, а по ночам отравляла мою голову пугающими мыслями.
Ведь это мне Сара Росс доверилась после того, как убили ее мать, а я не справилась с задачей. Не уберегла названую сестру. Ее не стало. Как и всего, что я пыталась сохранить за свои двадцать три года… Кроме воспоминаний Сары.
В день нашего знакомства я взяла ее за руку, и в череде ночных разговоров по душам она шепотом пересказала мне, что случилось тем утром, когда она нашла свою мать мертвой.
Такая хрупкая.
На фоне миниатюрной фигурки Сары я казалась неуклюжей верзилой. Нас определили в одну и ту же приемную семью, и комната у нас была общей. Небольшой рост новой знакомой лишь на несколько секунд обманул меня. Я догадалась верно – она оказалась старше. На целый год. Но возраст не помешал мне понять, что ей нужна защита. На это намекали синяки под глазами и нездоровая бледность, пришедшая на смену выцветающему загару. Губы у нее были обветренные, в трещинах. В первый вечер она проплакала несколько часов, и во рту у нее пересохло от соленой печали.
Я принесла стакан воды и присела на краешек ее кровати. Она сделала несколько глотков, чтобы промочить горло, а потом начала говорить. Я взяла ее за руку и не отпустила бы даже при угрозе собственной жизни.
Только когда подруга умерла, я поняла, что запомнила каждое ее слово.
После несчастного случая, виновник которого так и не был найден, мне каждую ночь приходил кошмар, навеянный ее хриплым шепотом. От него я всегда подскакивала на кровати в один и тот же момент, а затем вставала и блуждала в поисках покоя. А находила урну. Это не приносило облегчения.
Под резким светом люстры поверхность урны блестела, словно зеркальная. Она искажала мое отражение. Увидев странное, нечеткое и будто бы незнакомое женское лицо, я отступала назад и закрывала дверь.
Вторая спальня нашей квартиры в Ричмонде, оплачивать которую мне скоро будет не по карману, превратилась в склеп.
По пути в ванную за обезболивающим я проверила телефон. Никаких уведомлений. Ничего, напоминающего о Саре, в нем не осталось. Никаких писем или сообщений. Я удалила их все, а новых никогда больше не появится. Почему я их не сохранила? Потому что свидетельства того, что какое-то время, очень недолго, мы жили нормальной жизнью, были для меня невыносимы.
И на сердце у меня было так же пусто, как на экране телефона.
Я оставила его на тумбочке в коридоре и сосредоточилась на пульсирующей боли в висках и других частях своего пострадавшего в аварии тела. Пришло время для очередной дозы лекарства. Вероятно, к моим чересчур ярким сновидениям крошечные белые таблетки тоже имели отношение, но без них я заснуть не могла, а ночь прошла только наполовину.
Сара заварила бы чай с валерианой. С годами мне удалось полюбить горьковато-мятный вкус этого напитка, рецепт которого хранили в ее семье.
Сара так никогда и не оправилась от убийства своей матери. Она оставалась бледной, ее окружала аура хрупкости, и правда о ней открывалась только мне. А я, высокая и сильная, отгораживалась от окружающего мира неприступной стеной. И только для Сары этой стены не существовало. Вместе мы сумели построить нормальную жизнь. Ненадолго.
А теперь в стене, которую сумела пробить Сара, зияла брешь, куда просачивались леденящие кровь кошмары. Однажды я дала Саре обещание. Что отвезу домой, когда ее не станет.
И намеревалась сдержать слово. Когда-нибудь. Я не допускала никакой лжи между нами, не допущу и этой, последней. Вернувшись в постель, я поняла, что организм не стал сопротивляться воздействию таблеток. Он был изнурен. По правде говоря, разум тоже с готовностью погрузился обратно в туманное бессознательное. Ведь теперь только в кошмарах можно было увидеть Сару. И страху не удастся помешать мне отправиться за ней. Никогда не удавалось.
Глава вторая
От Ричмонда до городка Морган-Гэп ехать недолго, не нужно даже покидать Виргинию. Однако удаленность одного населенного пункта от другого измеряется не только в километрах. Ни одна спутниковая система навигации не смогла бы подготовить меня к тому, какой мир открывается с вершины горы Шугарлоуф. Карта, поджидающая читателя в каком-нибудь романе в стиле фэнтези, была бы уместнее, чем электронный голос, указывающий путь сквозь страну утренних туманов и густых теней леса – невероятно далекую от загруженных улиц и бесконечных чашек капучино. Была поздняя весна, и, выехав из царства асфальта и невзрачных бетонных коробок, я попала в водоворот оттенков зеленого, от которых рябило в глазах.
Когда я наконец достигла родного города Сары и припарковалась, горизонт на востоке приобрел насыщенно-розовый, сюрреалистичный оттенок, вызывающий мысли об инопланетных пейзажах. Навигатор сообщил, что дорога до ближайшей сетевой кофейни займет сорок пять минут – причем в обратную сторону. Повезло, что он здесь вообще работал. Телефон показывал очень слабый уровень сигнала. В каком-то оцепеневшем, не подогретом кофеином безмолвии я наблюдала из арендованной машины превращение розового восхода в оранжевое утро. Хорошо быть бариста. Рядом всегда есть кофе. Какая-то часть моего сознания не успела погрузиться в дрему и смогла преобразовать вывеску находившегося поблизости кафе-закусочной в заманчивую картинку тяжелых белых фарфоровых чашек, наполненных черной жидкостью. Эта картинка была навеяна сценой из какого-то фильма, а не моим жизненным опытом, но острая потребность в стимуляторе заставила меня поверить в ее реальность и покинуть автомобиль. Я была на взводе, и виной тому не только недостаток кофеина или отсутствие привычного утреннего ритуала его употребления.
На заднем сиденье лежала урна с прахом. Я упаковала ее в один из контейнеров, в которых Сара хранила вещи. Ей нравились коробки со старомодным растительным орнаментом. На этой были нарисованы цветы. Крупные столистные розы размером с чайные блюдца. Не могла ли такая симпатичная упаковка соблазнить какого-нибудь вора вскрыть машину и выкрасть то, что потом станет для него жутковатым сюрпризом? Эта мысль вызвала спазм в пустом желудке – я быстро сняла джинсовую куртку и аккуратно положила ее поверх контейнера.
Правда такова: жизнь не учит надлежащему обращению с кремированными останками. Любое действие будет казаться кощунственным. Впервые я увидела смысл в некоторых из ритуалов, связанных со смертью. Сама я жила в отрыве от всяких традиций. Мне не на что было опереться. Неудачное сочетание горя с неопытностью и неловкостью.
Или страхом.
На мне был привычный городской «камуфляж»: черные узкие джинсы, черные высокие кроссовки и футболка с логотипом несуществующего бара. Только вот здесь подобная одежда возымела противоположный эффект. На тротуаре я ощутила себя мишенью для глаз прохожих. Слишком мрачная снаружи и внутри. Приехав исполнить обещание, я оказалась на чужбине. И сказочный восход нисколько не помогал побороть ужас, шедший из моих снов.
Ведь где-то недалеко от этой залитой солнцем улицы росла белая акация, на ветке которой однажды висело тело женщины, так что, возможно, мой наряд был не столь чужд этим местам.
Я склонилась в салон машины, приложила ладонь к потертой куртке и обратилась к Саре. Безмолвно, больше для того, чтобы успокоить собственные нервы. Я здесь. Я обо всем позабочусь. Затем я резко отстранилась и захлопнула дверцу.
Сары больше нет. Я обещала вернуть ее домой. Две аксиомы, определяющие сейчас мою жизнь. Да и не отсиживаться же в квартире. Ни секунды это не казалось мне верной стратегией.
В последний раз я пыталась скрыться, когда мне было пять. Крошечный чулан, жестокая женщина и старый игрушечный клоун, бессильный защитить обнимающую его маленькую девочку. Несколько часов я просидела неподвижно в тесном углу, игнорируя позывы мочевого пузыря и покалывание в затекающих ногах. Обнаружив это убежище, приемная мать выхватила клоуна из моих слабых рук. В гневе она разрывала игрушку на мелкие части. Белые хлопья набивки опускались на мое запрокинутое заплаканное лицо, словно снег. Они прилипали к ресницам и губам, и я навсегда запомнила вкус свалявшейся ваты. Когда от клоуна ничего не осталось, меня резко подняли и поставили на негнущиеся, едва державшие онемевшие ноги.
Но чувствительность вернулась к ним очень скоро. Когда начались побои.
С того раза я навсегда перестала прятаться. Любые угрозы встречала лицом к лицу и справлялась с ними. Точно так же я разбиралась с проблемами Сары с тех самых пор, как она появилась в моей жизни.
И я открыла дверь закусочной, ожидая проблем. Более того, втайне надеясь их найти. Мне так хотелось дать Вселенной ответную оплеуху – похлеще удара Джейсона Мьюза, прилетевшего мне много лет назад на школьном дворе. Но за порогом обнаружились лишь густой запах бекона, официантка, мечущаяся среди «толпы» людей за тремя столиками, и молодой мужчина на табурете у стойки. Пройдя мимо него к дальнему столику, я села, повернувшись лицом к двери и прислонившись к стене. В ожидании официантки я вертела в руках сахарницу. Щелканье скользящей металлической крышечки успокаивало, пока не обнаружилось, что она отражает мое лицо с таким же искажением, как поверхность урны вчера.
В кого я превратилась теперь, когда Сары не стало? Когда мы встретились, мне исполнилось одиннадцать, и я была полностью сосредоточена на том, чтобы пережить текущий день. И это обостренное чувство самосохранения мгновенно расширилось, распространившись на хрупкую девочку, в которой был заключен мой мир.
– Если что, сегодня утром у нас свежий пирог с ревенем. – Официантка быстрым шагом подошла к моему столику, за ней следовал шлейф из аромата кофе и бекона. Должна признать, это был весьма приятный парфюм. Нотка бекона компенсировала отсутствие запаха импортных кофейных зерен, хорошо знакомого мне по собственным волосам и коже. Желудок заурчал, хотя я понятия не имела о том, что такое ревень. Остальное меню располагалось над стойкой, на меловой доске, видавшей и лучшие дни. Кто-то, желая добавить ей привлекательности, изобразил по краям веселые смайлики. От их вида мне стало так же скверно, как от всего того, что я недавно удалила со смартфона. Слишком все это было радостным и слишком близким к нормальной жизни, на смену которой пришли пустота и холод. Вот опять. Потеря – слишком простое слово, чтобы описать мою опустошенность.
– Кофе и тост, – ответила я. И через паузу добавила: – Пожалуйста.
Добавила, потому что первые слова прозвучали слишком отрывисто и не сочетались с нарисованными смайликами. Мне не хотелось вымещать скверное настроение на девушке, которая просто делала свою работу. Нервы, недосып, скорбь и страх – не оправдание. Ничто из этого не должно сводить на нет сочувствие к обслуживающему персоналу, развившееся за годы моей собственной работы за прилавком.
– Хорошо. И принесу немного моего черничного варенья – вам, похоже, не помешает что-нибудь сладкое, – сказала официантка. Бейджа с именем я не заметила. Одета она была в выцветшие черные джинсы и футболку с эмблемой заведения на груди. Символом закусочной был широко улыбавшийся поросенок в поварском колпаке, что в моей голове не вполне сочеталось с витавшим вокруг запахом бекона… Но в словах девушки не было ехидства. Переведя взгляд с ухмыляющегося поросенка на ее лицо, я увидела улыбку куда более сдержанную и искреннюю.
Доброта. Тело отреагировало, наполнив глаза горячей влагой.
Официантка не стала ждать согласия. Она поспешила в другой конец зала, а я облегченно выдохнула – после аварии говорить с людьми было все равно что ходить по битому стеклу. Быстрый уход девушки дал мне время шире раскрыть глаза и высушить слезы, прежде чем они стекут по щекам.
В Морган-Гэпе мне предстояло столкнуться с вещами потяжелей, чем приветливость. Меня ждало прощание с Сарой. Придется пережить наяву сцену из кошмаров, чтобы сделать это. А потом еще решить, куда двигаться дальше.
Я допивала уже вторую чашку кофе – настолько едкого, что содержимое третьей вполне могло сжечь пищевод, и приходилось относиться к нему как к горькому лекарству, – когда входная дверь открылась. Появление пожилой женщины сопровождалось приветственными возгласами. Все присутствующие называли ее «бабуля», и на секунду мне в голову пришла безумная идея, что все они члены одной семьи.
Но ход моих мыслей прервал одинокий мужчина у барной стойки. Он встал, повернулся лицом к пожилой даме и, кивнув, тоже назвал ее бабулей – сдержанность приветствия свидетельствовала, что та не приходилась ему родной бабушкой. Однако он не достал кошелек, чтобы расплатиться, поскольку поднялся с места не для того, чтобы уйти. Он начал придвигать поближе к стойке табуреты, облегчая даме проход. И остался стоять – как будто следя за тем, чтобы бабуля ни обо что не споткнулась. В этом действии читалось уважение, но вместе с тем и какая-то настороженность. Он вытянулся по струнке: спина прямая, плечи расправлены, челюсти крепко сжаты – и молча наблюдал за старушкой, пока та не дошла до моего столика.
В один момент я перехватила его взгляд. Лишь на секунду. Я быстро отвернулась, но успела заметить, насколько не сочетался этот напряженный взгляд темно-зеленых глаз с небрежной грубостью его облика. Одет он был на осенний манер и, похоже, работал на свежем воздухе. Изношенные ботинки. Взлохмаченные густые волосы. Только вот в тяжести его взгляда было что-то неоднозначное. Откуда такая тревога при появлении безобидной старушки? И почему, несмотря на его напряженность, мне кажутся милыми его старомодные манеры? Я была слишком измотана, чтобы по достоинству оценить этот рыцарский жест. Однако, как и в случае с официанткой, проявленное внимание было искренним.
Мне приходилось готовить кофе для самых разных утренних завсегдатаев: от чиновников из городской администрации до работяг-строителей. У незнакомца за стойкой на уме явно было нечто большее, чем прогулки на природе. Я не сомневалась в этом. Настороженность и почтение, которые вызвала в нем пожилая дама, заставили меня внимательнее к ней присмотреться.
Бабуля – если она вообще была чьей-то бабушкой – двигалась к моему столику с такой решительностью, будто проснулась утром исключительно ради этого. Даже не замедлила шаг, когда мужчина за стойкой поднялся, чтобы поздороваться. В отличие от меня ее, похоже, нисколько не волновал его взгляд, манеры и тот факт, что круг его забот не ограничивался омлетом на тарелке.
Старушек, посещающих кофейни Ричмонда, спутники чаще всего называют Луиза или Беверли. Иногда – Нэнни [2] или Нэн. Но как только я встретилась взглядом с присевшей за мой столик женщиной, то уже не могла представить, что ее могут звать иначе, чем Бабуля.
– Кофе, – заговорила она. – Как я не догадалась? Проклятая дрянь. Всегда мешает. Никогда не пей его, если только не собираешься воспрепятствовать… Ох, ну ладно, Сара ведь не могла запомнить всё, правда же? Благослови Господь ее и тебя. Я хорошо знала ее мать, а до этого – бабушку. Даже с прабабушкой Росс была знакома. Не то чтобы та с кем-то водила дружбу. Делала для вас все, что могла, девочки. Только сил моих не хватило. Но ты здесь – так и должно быть.
Ее наряд походил на пышный кокон из разноцветных тканей, и я не могла понять, где заканчивается свитер и начинается рубашка. Сперва старушка показалась мне рыхлой и округлой, но объем объяснялся манерой одеваться, а не лишними килограммами. Многослойные одежды не выглядели неопрятно, да и все в ее облике было живописным и благообразным, под стать внимательным голубым глазам. Пока я изучала причудливый гардероб, напоминающий о стиле бохо, в руках старушки появился крошечный плетеный мешочек, перевязанный желтой нитью. Внезапно меня посетила уверенность: слои материи скрывают множество карманов, вмещающих все, что может понадобиться Бабуле в ежедневных заботах, которые вряд ли похожи на те, какие предполагаешь у людей подобного возраста, о чем говорил и тот факт, что она, очевидно, считала себя знакомой со мной, хотя я о ней никогда и не слышала.
Официантка поспешила к нашему столику и поставила на него дымящуюся чашку – по-видимому, внутри был кипяток. Бабуля опустила в чашку свой мешочек. Движения обеих выглядели непринужденно-выверенными. Будто эта конкретная посетительница всегда заваривала собственный чай.
– Я обещала Саре, что верну ее домой, – сказала я. В мозгу беспорядочно роились мысли, а недостаток сна, похоже, начал пагубно влиять на восприятие. Я была готова тотчас же открыться странной женщине, как будто только и ждала ее появления.
– Что ж, она хотя бы догадалась попросить тебя об этом. Пусть даже и позабыла, что с кофе лучше не связываться. А вот про сад – не забыла. – Бабуля отпила из своей чашки, и, как только по поверхности напитка пошла рябь, воздух наполнился ароматом перечной мяты.
Непослушные седеющие кудри, пышная лоскутная юбка до колен и пара начищенных горных ботинок практически детского размера. Я никогда не видела никого похожего, и в голове без конца вертелась фраза «старый эльф-весельчак», но инстинкт, выработавшийся за годы «кочевой» жизни, подсказывал, что эта бодрость может иметь более мрачный оттенок, чем мне кажется.
– Она нашла мать повешенной на белой акации, – прошептала я. Это не было секретом, и тем не менее я произнесла слова так, как будто открывала большую тайну. О том убийстве, должно быть, слышал весь город, включая и давнюю его обитательницу, сидевшую напротив меня. Заведение вокруг нас жило своей жизнью. Официантка все еще бегала от столика к столику. Мужчина за стойкой доел омлет. Какие-то посетители ушли, и им на смену появились следующие. Но перед моими глазами постоянно стояла картина, которую видела Сара в худшее утро своей жизни.
– Ты ей помогла. Возложила ее бремя на свои плечи. Теперь, когда вижу тебя воочию, меня это не удивляет. Твоя сила ощутима, – ответила Бабуля, отпив еще чаю. – Как раз то, что нужно. Ты действительно работала с кофе? Ты сварила и выпила этого пойла куда больше, чем следовало.
Глаза снова начало жечь и щипать. Так долго я была сильной ради Сары. Теперь, когда ее не стало, я утратила чувство цельности. Сила будто испарилась. Казалось, подуй ветер покрепче – и меня тут же унесет. Странным образом успокаивало, что эта женщина знает обо мне, хотя я всегда предпочитала оставаться незнакомкой. Вероятно, мне нужно было напоминание о том, кем я была или кем должна стать.
От последней мысли острота восприятия, которую подпитывал кофеин, еще усилилась. Я потянулась к своему напитку.
– Так! Снова кофе. Тебе это совсем не идет на пользу. Принеси вторую чашку, Джун! – внезапно распорядилась Бабуля. Она отодвинула от моего локтя кофе и из складок своего наряда достала еще один плетеный мешочек. Этот был перевязан зеленой веревочкой, и, как только он опустился в кипяток, который успела поднести официантка, я почувствовала до дрожи знакомый аромат.
– Чай с валерианой, – проговорила я. Слезы не покатились, хотя картинка перед глазами размылась по краям. – Сара постоянно мне его заваривала.
– Она покинула нас совсем юной, но многому успела научиться у своей матери.
Как я ни старалась сохранять бдительность, невозможно было устоять перед валериановым чаем, напоминающим о сестре. Я взяла чашку и осторожно отпила из нее, пока мешочек с травами все глубже утопал в кипятке. Аромат заставил меня прочувствовать все заново: дружбу, утрату, уверенность в совместном будущем и незыблемость того, что я осталась одна на всю оставшуюся жизнь.
– Время еще не пришло. Я хотела, чтобы вы обе стали старше и мудрее, прежде чем вернетесь. Но вот ты здесь. Ты слишком молода, – продолжала Бабуля. – А я слишком стара. Но семена падают и зреют там, где могут.
Стало ясно, что она еще старше, чем я предположила сначала. Ее движения были точными и проворными. Глаза блестели. Но при более пристальном взгляде становилась видна тонкая паутина морщин вокруг глаз и губ. Она допила свой чай и поставила чашку на стол перед собой, а затем развязала желтую нить, чтобы влажная травяная смесь высыпалась на донышко. Старушка всмотрелась в свою чашку и прикусила нижнюю губу с таким видом, будто размышляла над тайнами мироздания.
– Мне нужно захоронить прах Сары возле дома ее матери, – сказала я. Чай Бабули и ее сочувствие ослабили мой внутренний барьер. Нужно было рассказать кому-то о моей скорбной обязанности, а ближе всех оказалась она.
– Сара хочет, чтоб ты сделала нечто большее, – ответила Бабуля.
Она потянулась к моей чашке, но я крепко держалась за ручку. Почему-то мне вдруг не захотелось, чтобы она дергала за зеленую нитку и выпускала из мешочка заварку. Не просто не захотелось. Сердце бешено заколотилось. Словно маленькая девочка с плюшевым клоуном снова прячется в кладовке, а дверная ручка под напором руки приемной матери скрипит так решительно, что хлипкий замок вот-вот сломается.
Я не знала эту женщину.
Не знала ее намерений и мотивов.
Пальцы Бабули с неожиданной твердостью взялись за чашку, но смирились с моим сопротивлением. Рука медленно опустилась, и лишь приподнятая бровь намекнула, что старушка знает достаточно и без гадания по травяной гуще.
Да и у Сары разве не было поразительной интуиции? Сестра надолго останавливалась около каждого объявления о пропаже животного. Я к этому привыкла и даже не пыталась ее от них оторвать. Очень многих она разыскала. Сару Росс нужно было просто принять. Каждый день восходит солнце. Сара чувствует точное местонахождение потерявшейся французской болонки. Так что встреча с кем-то вроде Бабули в Морган-Гэпе меня не особо потрясла. Сара попросила вернуть ее домой, потому что точно знала, что я справлюсь.
И все же привыкание к сверхъестественным талантам Сары происходило у меня постепенно. А знакомство с Бабулей оказалось внезапным. В мире, часто казавшемся унылым и бесцветным, Сара была яркой искоркой, однако мой инстинкт самосохранения запаниковал от встречи с чем-то еще более ярким – и это здесь-то, в городке, где угольная пыль все еще могла испачкать хлам на чердаках.
– Женщины из рода Росс жили в Морган-Гэпе еще со времен Восстания из-за виски [3]: тогда сюда приехали переселенцы из Ирландии. Некоторые говорят, что Россы уже ждали здесь, когда прибыли первопроходцы. Они были знахарками, понимаешь? – спросила Бабуля.
– Владели знаниями, – ответила я, но без особого энтузиазма в голосе. Можно привыкнуть к необычным чертам своей лучшей подруги, но нельзя совершенно спокойно принять те же черты в другом человеке. Или не в человеке, а в мире. От напряженного внимания у меня встали дыбом волосы на затылке, а желудок стал невесомым, будто вместо травяного чая наполнился гелием. Эта женщина заранее знала о моем прибытии, хотя поехать я решилась через пару часов после полуночи – «пережив» гибель матери Сары очередные несколько раз.
– Можно сказать и так, – согласилась Бабуля. – А еще можно сказать, что им были ведомы способы повлиять на наш мир. Слегка его кольнуть. Подтолкнуть, когда надо. Помочь. Исцелить. Как это ни назови, а в здешних местах, если тебе вдруг открывается что-то, о чем не могло быть известно, – например, что начнется дождь или что какая-то молодая пара собирается пожениться, – то про тебя скажут: «Это кровь Россов в ней говорит». Кто-то отрицает это. Кто-то заявляет, что так и есть. А кто-то – боится. Но хижину и сад Россов никто не потревожил. Тебе ничто не помешает похоронить Сару возле ее матери, бабушки и прабабушки.
Договорив, она поднялась и встала из-за стола. Достав несколько крошечных конвертов из очередного потайного кармана, она положила их рядом со своей чашкой.
– Молотый женьшень для матери Джун, – кивнула старушка в сторону конвертов. – Она лечится от рака, и ее энергия на исходе. Приходи ко мне, когда закончишь в саду. Тогда нам будет что обсудить.
Незнакомец за стойкой вновь смотрел в нашу сторону. Странным образом его взгляд был еще пристальней, чем до этого. И на этот раз Бабуля обернулась и шикнула, как будто он что-то сказал:
– Не переживай, Джейкоб Уокер. Браконьерством не промышляю. Этот женьшень я абсолютно законно вырастила на своем участке. – Потом она снова обратилась ко мне: – Будто я хоть одной травинке в этих лесах могу навредить. Он – биолог. Работает на государство. Пора бы ему понять, что мы оба служим этой горе, только по-разному.
Биолог не отворачивался. Наши взгляды снова встретились: это длилось достаточно долго, чтобы суеверная тревога уступила место тревоге иного рода, и я сидела не в силах пошевелиться. Я приучила себя не расслабляться, поэтому не могла не заметить, если вдруг моя бдительность падала ниже допустимого предела. Почему меня так тронуло, что он подвинул стулья из прохода, облегчая путь пожилой женщине? Или меня тронуло уже то, что он поднялся с места? Сам знак уважения? Это ведь просто посетитель, который ест свой завтрак. Незнакомец, проявивший вежливость. Я всегда ужасно нелепо вела себя с мужчинами при первой встрече. Так что обычно просто игнорировала такого рода тревогу.
Но сегодняшний день оказался еще тяжелее, чем я ожидала. Мне не хотелось, чтобы кто-то видел мою боль, и я опасалась, что мужчина за стойкой заметил навернувшиеся у меня слезы – и не только их, – прежде чем вернулся к своей тарелке.
Бабуля, похоже, не уловила моей реакции на Уокера. Она, как ни в чем не бывало, снова потянулась в недра своего кокона, будто я не моргала что есть мочи, чтобы заставить исчезнуть горячую влагу. Я отметила, что контуры губ биолога слегка смягчились, когда он оценил выражение моего лица. Но нельзя было показывать уязвимость. Если бы он вновь оглянулся, то увидел бы мои ясные глаза и стиснутую челюсть. Но он не оглянулся, а из очередного Бабулиного кармана появился свернутый лист бумаги. Бумага пожелтела и пошла пятнами, словно ее испачкали смуглые пальцы старушки. Но я уже успела понять, что работа с растениями, их выращивание и заготовка не могли не оставить следов на руках. В ее темных волосах блестело серебро седины. На щеках играл румянец, одежда была чистой. Кожа рук потемнела не от грязи. Скорее, земля таким образом отметила Бабулины заслуги, чтобы другие жители не сомневались в ее мастерстве.
– Все давно для тебя подготовлено. – Она протянула мне свернутый лист с таким значительным видом, что отказаться принять его я не могла.
Свиток с трудом развернулся – ведь он пробыл в скрученном состоянии довольно долго, – и я смогла различить рукописные строчки. Чернила выцвели, но мне удалось понять, что это маршрутные указания. Они завершались более крупной подписью. Инициалы «М.Р.» почти не утратили изначальной четкости. Они пришлись на самую защищенную часть свитка: от солнечных лучей и сырости их уберегли несколько слоев свернутой бумаги.
Как можно было довериться чьей-то самодельной карте, полученной от дамы, которую я едва знаю?
– Здесь написано, как добраться до хижины семьи Росс. Сад расположен недалеко от нее. Иди по тропе. Ты поймешь, где следует упокоить прах Сары, – произнесла Бабуля. Затем она отступила на шаг, и это движение застало меня врасплох. Свиток выпал из рук на стол и свернулся обратно. Не знаю почему, но я вдруг потянулась к потемневшей Бабулиной руке, чтобы не позволить ей уйти. Я ни к кому не прикасалась с тех пор, как умерла Сара. Да и не в моем характере было тянуться навстречу другим. Вот отбрыкиваться от кого-то время от времени – другое дело. Бабулина ладонь оказалась на удивление прохладной – видимо, из-за возраста ее кровообращение ухудшилось. Свободной рукой она мягко погладила мое запястье, и в этом жесте, несмотря на прохладу кожи, ощущалось тепло. Хоть точный возраст дамы и не поддавался определению, ей наверняка уже приходилось хоронить друзей. До этого момента мне не хотелось, чтобы остатки заварки в моей чашке открыли ей нечто сокровенное. А теперь получилось почти то же самое. Чересчур быстро. Чересчур близко. И вообще чересчур.
Сама я могла проявить эмпатию из вежливости с незнакомой официанткой. А вот сочувствие, выказанное кем-то мне, когда горе все еще ранило, заставляло еще сильнее ощетиниться.
И все равно я потянулась к старушке и не выпускала ее руки.
– Тебе лучше сперва разобраться с главным. А потом мы снова поговорим. Разыщи меня, когда дело будет сделано. – Она переместила свободную руку с моего запястья к ладони, которая сжимала ее руку. Это убедило меня ослабить хватку и отпустить ее. Затем Бабуля аккуратно согнула мои пальцы так, чтобы ладонь превратилась в неплотно сжатый кулак. – Ты боец. Сара нуждалась в твоей защите. И все еще нуждается. Не сдавайся. Это не конец. Это – начало.
Мои пальцы не разогнулись, даже когда она отпустила меня и ушла восвояси.
Когда Бабуля выходила из закусочной, биолог не стал подниматься с места. Он никак не отреагировал на ее уход. Это тоже вызвало у меня симпатию. Бабуля шла по своим делам, а он просто не вставал ей поперек дороги. Не знаю, перевел ли он взгляд в мою сторону, когда я, распрямив наконец кисть, попросила счет. Я же твердо решила не смотреть на него. Присутствие Уокера осознавалось и без зрительного контакта, и от этого становилось не по себе.
Проходя мимо места, где сидел биолог, я оказалась меньше чем в метре от его спины. Мое тело просканировало это пространство, словно желая понять, как быстро сможет преодолеть его, если мозг даст такую команду. К тому же каждый из нас, похоже, подсознательно был осведомлен о другом. Готова поклясться, его плечи напряглись, когда я приблизилась к стойке. Но я просто шла дальше. Около входной двери у меня уже болели стиснутые челюсти и щипало от сухости широко раскрытые глаза.
Скорее всего, он ничего не заметил или не придал значения. Все, что я пыталась доказать, я доказывала только самой себе. И этого было достаточно. Попав в своеобразный городок, жизнь которого в утренние часы оказалась куда насыщенней, чем можно было ожидать, мне нужно было сохранить волю и решимость. Когда-то давно я создала равновесие из хаоса. Да и смерть Сары я пережила. Разве нет? По крайней мере, физически? И я точно не собиралась терять самообладание из-за пары пристальных зеленых глаз и умудренной годами феи-крестной с волшебными карманами, набитыми запасами травяного чая.
Глава третья
Я не привыкла ориентироваться по письменным указаниям, но адреса у хижины Россов не было, а мой навигатор на таком удалении от города начинал сбоить. Телефон все еще позволял принимать входящие звонки и звонить самой, но одинокая полоска в правом верхнем углу экрана выглядела почти фатально.
Итак, я пыталась отыскать ориентиры, упомянутые в маршруте, действуя отчаянным методом проб и ошибок, и надеялась, что бензина в баке хватит на эти скитания.
Наконец удалось найти проезд, совпадающий с описанием, – его предваряло скальное образование, в заметках М.Р. названное Стоячими камнями. Трем массивным глыбам, прислоненным друг к другу, больше подходило бы «Скалы, оказавшиеся не по зубам дорожно-строительной компании». Я включила поворотник и крутанула руль, заложив крутой вираж, хотя колея в траве виднелась слабо.
Арендованный автомобиль пружинил на заросших травой кочках. Слоя высокой густой зелени между колесами оказалось достаточно, чтобы замедлить ход. Поток примятой травы с шуршанием проносился под шасси. Это было похоже на движение по воде. Я вела осторожно, проезжая рощи, поля и постепенно поднимаясь все выше. Перед склоном, около которого стоял дом Россов, дорога надвое рассекала заросший полевыми цветами луг. Слева от меня показался красный некогда сарай с тронутой ржавчиной жестяной крышей, а еще – яркий на общем фоне, бирюзового цвета старый пикап, который уже наполовину поглотила местная растительность. Окна и кузов почти полностью скрылись под лозами, оплетавшими автомобиль сверху донизу, словно природа специально следовала его контурам, превращая его в нечто зеленое и живое.
У обочины дороги в землю была воткнута табличка с надписью: «Нет ходу трубопроводу». От времени и непогоды она накренилась и выцвела. По дороге в город мне подобные уже попадались. Из нашумевших новостных репортажей я знала, что компании по добыче природного газа хотели проложить трубопровод от месторождений в Северной Виргинии в остальные части страны. Очевидно, у многих жителей в окрестностях горы Шугарлоуф эта идея не встретила одобрения.
Зарастающая дорога и старая табличка уняли мои волнения по поводу нечаянной встречи с другими людьми. Хотя кто-то здесь явно бывал время от времени. Наверное, Бабуля. В противном случае все бы тут окончательно заросло. Но когда я остановила машину перед домом, кругом стояли тишина и покой. Не дав себе времени собраться с мыслями, а то могла бы просто взять и вернуться по дороге обратно, я вышла из машины и захлопнула переднюю дверцу. Затем открыла заднюю и отодвинула куртку. Все это я делала быстро и уверенно, будто каждый день ездила в горы развеивать прах самого близкого человека.
Урна холодила мне руки. Я прижала ее к животу и закрыла автомобиль ногой.
Может, когда я расстанусь с прахом Сары, кошмары прекратятся. Спокойный сон был мне необходим, но в то же время пугал. Сейчас я, можно сказать, каждую ночь воссоединялась с ней. Но слово есть слово. Я не могла нарушить обещание, данное лучшей подруге, даже если ее последняя просьба разбивала мне сердце.
Хижина была построена давным-давно. Ее бревенчатые стены посерели и обветрились. Между ними тусклыми полосами проглядывали слои промазки. Но постройка казалась прочной. Простая квадратная конструкция с отлично сохранившейся металлической крышей. В пустоте, жившей у меня внутри со дня трагедии, эхом отозвались слезы Сары, когда я заметила возле входной двери пару красных резиновых сапог. Они, в отличие от сарая и стен хижины, сохранили яркость цвета. Я потеряла Сару. Сара потеряла мать. Ничуть не удивительно, что всепоглощающая пустота кошмаров не отпускала меня и наяву. На крыльце у входа в хижину в стороне от двери покачивались на ветру подвесные качели – одновременно и уютно, и душераздирающе.
Покой. Безмятежность. И все это было обманом.
В этот домик на отшибе тоже проникли опасность и боль. Красные резиновые сапоги, скорее всего, принадлежали матери Сары. Женщине, которую убили поблизости от этого места более десяти лет назад. Их жизнерадостный оттенок вызвал в памяти куда более мрачный красный прямиком из моих кошмаров.
Подниматься на крыльцо я не стала. Не смогла бы вынести скрипа половиц, по которым, играя, бегала Сара. Да и задержка лишь ненадолго отсрочивала неизбежное. Я приехала, чтобы захоронить прах в саду. Мне предстоит увидеть дерево, преследовавшее меня во снах. Мне придется пройти по замшелой лесной тропе вдоль устья ручья, куда упали страницы с рецептами.
Когда я обошла дом и оказалась рядом с местом, где росла, обвивая поблекшие белые шпалеры, непокорная дикая роза, открывшийся вид заставил меня замереть. Розу давно не подрезали, но в остальном задний двор выглядел не изменившимся. Это был тот самый двор, по которому я раз за разом шла в кошмарах. Роса на траве испарилась несколько часов назад, но я бывала здесь – прямо здесь – в облике Сары так много раз.
По телу пробежала дрожь.
Точно.
Суеверное волнение, посетившее меня в кафе, теперь скользнуло по позвоночнику ледяными пальцами страха. Неужели пересказ Сары был настолько детальным, что у меня получилось представить себе все в точности так, как это выглядело на самом деле? Дверь в хижину со двора сейчас оказалась закрыта, но это та самая каркасная дверь из выдержанной древесины. И порог, который я переступала десятки раз.
Подойдя ближе, я не потянулась к дверной ручке, а крепче прижала к себе урну с прахом Сары. Что, если внутри хижины тоже будет что-то знакомое? Я повернулась к лесу. Просвет между деревьями указывал, где начиналась тропа. Ей явно регулярно пользовались. На секунду я представила, как каждую ночь на этой дорожке появляются следы Сары, ведущие к дереву белой акации и невольно увлекающие меня за собой. Мрачная фантазия не ослабила хватку ужаса.
Земля под ногами была ровной и хорошо утрамбованной. Такая же, как и в каждом из снов. Но тропинки протаптывают живые люди, а не фантомы. Нельзя было позволить себе поддаться мороку.
Внезапно этот суеверный страх заглушила вернувшаяся тревога встретить здесь кого-то. Мне нужно отнести прах Сары в сад. Опасаясь посторонних и не представляя, кто это может быть, я продолжила путь.
Я не наткнулась бы на повешенную на дереве женщину. Кроме перспективы выставить свою скорбь на обозрение незнакомцам, бояться было нечего.
По пути от ограды к просвету между деревьями я сорвала стебелек лаванды. Поднеся цветок к носу, я глубоко вдохнула его успокаивающий аромат. От этого в сознании возникла картина, как лепестки лаванды становятся бледно-сиреневой пыльцой в руках у матери Сары. Тропа не заросла, но, чтобы ступить на нее, нужно было преодолеть росшие по бокам кусты и ветви. Я осторожно отодвигала свисающие ветви, лозы и пушистые еловые лапы, не зная, видит ли во мне лес нарушителя или долгожданного гостя. Впервые я вступала в диколесье, как называла его подруга, и при этом представляла, как мать Сары разжимает пальцы и позволяет лавандовому порошку упасть в горячую, окутанную паром ванну, которую она приготовила для дочери.
Утром у Сары опять разболелись пальцы, поэтому перед сном мама приготовила ей особую ванну с лавандой. Саре было всего пять лет, однако она уже знала, что к утру боль может вернуться: ее несли сны – те самые, которые иногда приходили вместо снов о пони или сладкой вате.
Ночнушка уже была разложена на кровати, а на бельевой веревке на дворе проветривалось любимое Сарино лоскутное одеяло – летом мама часто выносила его туда. Это чудесное одеяло сшили своими руками она и ее подруги: они соединяли разноцветные яркие лоскутки, получая удивительный калейдоскоп узоров – эти узоры Сара год за годом обводила пальцами.
В ее спальне пахло солнечным днем и теплой травой. Набирая горячую воду в большую ванну на когтистых лапах, ее мама напевала. Песня была из семейного лечебника. Вряд ли много кто ее слышал. Мотив был необычный, живой и переливчатый, а среди слов встречалось много таких, которые сама Сара еще не могла выговорить.
Пока не могла.
Однажды она их выучит и споет. Потому что так делают все поколения семьи Росс.
Давным-давно мама научила ее плести венки из маргариток. Стебелек к цветку, цветок к стебельку. Венок всегда нужно было замкнуть в круг, соединив конец с началом. Иногда вместе с мамой они целый день напролет плели длиннющий венок, который огибал весь дом. А потом брались за руки над цветочной гирляндой и проходили вдоль нее семь раз, пропевая имена всех женщин из рода Росс, начиная с живших ранее, чтобы помнить.
Фэйр – Маргарет – Энн – Элизабет – Берта – Кэтрин – Мэри – Беатрис – Мелоди – Сара.
Мудрые и могущественные женщины, жившие тут до них, всегда носили фамилию Росс. Если они и выходили замуж, то венчались под луной и звездами: свидетелем у них был лес, а его обитатели заменяли гостей и священников, отправляющих обряд. Отца Сара не знала, зато в свои пять лет уже была в курсе, что кровь Россов течет во многих семьях, населяющих округу. Просто у некоторых она получилась разбавленной – все равно что крепкий, горький чай, в который долили сливок и добавили сахара. Такой чай уже превращался в другой напиток – более приятный для некоторых желудков. Нежнее. Слаще.
Вода набралась, а мамина песня уже обходилась без слов, осталась только мелодия. Пока Сара раздевалась, мама взяла стеклянную банку с высушенными цветами и наклонила над своей второй ладонью, высыпав на нее часть лепестков. Затем она стала перетирать их пальцами, пока лаванда не превратилась в пыльцу, которую мамина рука рассыпала по всей длине ванны. Лаванда опускалась в горячую воду, выдыхая свой запах, и комнату наполнила весна.
– Ну вот. Готово. Ночью будешь спать спокойно, и никакие сны тебя не разбудят, – сказала мама. Но девочка знала: Мелоди Росс не уверена в том, что сны Сару не потревожат. Порой дочери Росс не могли найти покоя. Изредка что-то открывалось им и будило в предрассветные часы. Такое знание никогда не было четким и конкретным. Оно дуновением проникало в их сознание и рассеивалось, подобно лавандовой пыльце, упавшей в воду, оставляя после себя лишь отголосок.
Мама протянула руку с фиолетовыми следами и помогла Саре забраться в ванну. Девочка смело погрузилась в воду, и ей не мешало, что та горячая и от этого кожа розовеет под рябью волн.
Когда она устроилась в ванне, мама дала ей кусок домашнего мыла. Ваниль мыла не перебивала запах лаванды. Они дополняли друг друга. То есть были к-о-м-п-л-е-м-е-н-т-а-р-н-ы-м-и. Сара научилась читать и писать до того, как пошла в школу, – по лечебнику. Вспенивая мыло, она старалась повторить мотив, который напевала мама, пока без слов. Так она училась. Училась постоянно. Но стать целительницей – задача на всю жизнь. А сейчас ее вполне устраивало быть обычной девочкой. Она выпустила из рук мыльную пену и наблюдала, как та плывет по воде, от которой исходит безмятежный аромат лаванды. И она представляла, что это корабль, который отвезет ее к пони, а пони умчит ее прочь от боли, проникшей в сны.
Я выронила стебелек лаванды из рук. Пригрезившееся было туманным и нечетким – в отличие от эпизодов, преследовавших меня в кошмарах. Вся эта картина могла оказаться прихотью воображения, навеянной таинственным лесом вокруг. Наступило позднее утро. Вот-вот прохлада сменится дневным жаром. Но в тени деревьев идти было приятно. Когда грезы о ванне с лавандой в моей голове рассеялись, я вдруг поняла, что под ногами сыро от росы. Но я не замедлила шаг. Ведь я оказалась здесь наяву. На земле не было видно вырванных страниц. Крови – тоже. Вместо остатков книги, которые, будучи Сарой, прижимала к груди во сне, я несла на руках урну с ее прахом.
Вокруг пели птицы и, жужжа, пролетали по своим неведомым делам насекомые. Невдалеке по камням журчал ручей, а под подошвами моих кроссовок шуршала земля. Ничьих других шагов я не слышала. И уж точно не слышала шлепков босых ног моей продрогшей подруги.
У меня и самой стыли ноги, пока я подходила ближе и ближе к месту, откуда раздавался плеск воды. В груди почувствовалась тяжесть. Кровь понеслась по венам с удвоенной силой – так, что у меня зашумело в ушах. Воздух, который я с усилием впустила в скованные легкие, был одновременно терпким от запаха прелой листвы и свежим от буйной молодой зелени.
Тропинка повернула, и я услышала скрип веревки, натянутой на ветку. Ее витки терлись о кору, сопротивляясь грузу. Неживой груз. Тело моей матери. Нет. Не моей. Матери Сары. Нет, я не застряла в кошмаре. Я лишь исполняла возложенный на меня долг.
Я никак не ожидала, что открывшийся моим глазам сад окажется таким пышным, ярким, полным жизни. Из стесненной груди вырвался изумленный вздох.
Этот ухоженный сад, переполненный сочной листвой, яркими лепестками, всяческими побегами, бутонами и цветущими грядками и кустами, украсил бы обложку любого журнала. Я отметила, что каждый кустик, каждое растение и каждая лоза здесь высажены аккуратными рядами или формируют клумбы, но весь этот безудержный растительный триумф казался мне чистейшей экзотикой. Ничего знакомого здесь не было. Я привыкла к бетонированным тротуарам и жестоко подстриженным городским деревцам. А тут среди зелени пестрели розовые, золотистые, пурпурные и серо-голубые соцветия. В наличии были все оттенки желтого: от сливочного масла до апельсиновой корки. Вся эта живая радуга трепетала на ветру, в такт его дуновениям покачивались причудливые грозди и шелковистые клубки лепестков, каких я никогда прежде не видела. Я знала только, как называются деревья, высаженные по краям сада, – и то лишь потому, что Сара мне о них говорила, а еще – потому, что кора у них была покрыта характерными глубокими бороздами. Белые акации, все разного размера. Чем крупнее дерево, тем оно старше – по одному на каждую женщину из рода Росс, чей прах был развеян под их необычно узловатыми ветвями.
Проходимость лесной тропы и ухоженность сада никак не вязались с безлюдностью этого места. Сад усилил предчувствие, рожденное проторенной дорожкой. Возможно, мое уединение долго не продлится. Я еще сильнее прижала урну к груди.
– На общественных землях разбивать посадки запрещено. Этот лес – заповедный, но, мне кажется, первым поколениям Россов не было до этого дела. Весьма частая история среди жителей Аппалачей.
Я тут же обернулась и увидела биолога из закусочной. Джейкоб Уокер. Его имя прозвучало в голове с тем же шепчущим отзвуком, с каким ветер прикасался к золотистым лепесткам на самых высоких стеблях в саду.
Он оказался на поляне парой минут позже меня, но говорил непринужденным тоном – так, будто наша беседа длилась уже некоторое время. Он следил за мной от самого города? А потом, не здороваясь, прошел чуть позади по тропе? Бабуля, похоже, хорошо знала этого человека. Его внезапное появление меня напугало, но чувство опасности не просыпалось. Одет он был все так же: серые плотные брюки карго и рубашка с длинным рукавом и логотипом известного бренда одежды для активного отдыха над нагрудным карманом. Ботинки – дорогие, но добротные, а следы длительной носки показывали оправданность такого выбора. По всей видимости, он много времени проводил на открытом воздухе. Волосы были все так же взлохмачены. Отдельные пряди из каштановой копны подхватывал и ерошил утренний бриз – казалось, тот же самый, шепот которого прозвучал в моей голове, мягкое эхо шума ветра в кронах деревьев. Биолог подошел ближе, легко перепрыгнув через упавшее дерево, которое я обогнула.
В левой руке у него был стебель лаванды, который я сорвала и уронила. Вместо того чтобы наступить на цветок и не заметить, мужчина его подобрал. Меня не обрадовало появление постороннего, но без объяснимой причины привлекло то, как аккуратно он держал лаванду в руке. Это напомнило о почтительности, которую он выказал Бабуле. Пока я рассматривала цветок, бриз затих и замерло все, как внутри, так и снаружи меня.
– Сад здесь появился задолго до нас с вами, – ответила я. – Вряд ли ему есть дело, частные это владения или общественные. Чувствует он себя прекрасно.
На спине у биолога висел небольшой рюкзак, к которому ремешком крепилась складная трекинговая трость. Взгляд у Уокера был оживленный и деловитый: он явно подмечал все, что попадало в поле зрения. Но я обратила на это внимание еще раньше – в закусочной. Разве нет? Он остановился и оценивающе оглядел меня с ног до головы. Мой вид тоже ничуть не изменился со времени завтрака, но мы оба смотрели друг на друга так, будто с момента последней встречи прошло куда больше часа.
Или так, будто нашим глазам та встреча показалась слишком короткой и сейчас они стремились наверстать упущенное.
– В этом саду есть растения, которые вот уже пятьдесят лет считаются вымершими. Никак не могу решить, нужно ли сообщать об этом начальству или лучше просто собрать осенью как можно больше семян.
Внезапно с высоких желтых цветов, похожих на чертополох, поднялось облако бабочек, и они приземлились на голову и плечи мистера Уокера. То, что ему доверили принять эту изящно пританцовывающую крылатую процессию, заставило мои глаза вернуться к его персоне. Он не смотрел на порхающих насекомых. Он смотрел на меня. Наши взгляды снова встретились, и выражение моего лица стало слишком мягким, а глаза – слишком влажными. В закусочной я была лучше готова к такому. А сейчас расслабилась.
Словно он священник, лес – собор, а я пришла на исповедь.
– Здесь умерла мать моей подруги, Сары. Более десяти лет назад. Мать нашли повешенной вон на той акации с кривой веткой, – произнесла я. – А я привезла сюда ее дочь. Не знаю, кто посадил молодое дерево, но Бабуля сказала, что я пойму, где нужно развеять прах.
Он посмотрел на акации. От этого мне должно было стать легче, но не стало. Почему-то я не хотела, чтобы он отводил глаза.
– Слышал об убийстве. Но про вашу недавнюю потерю нет. Мои соболезнования.
Он поднял левую руку вверх и покрутил стебелек лаванды в пальцах. Тут я заметила, что руки у него тоже покрыты пятнами цвета земли, как у Бабули, но не возникало сомнений – эти следы легко смоются.
– Это вы ухаживаете за садом?
– Нет. Мне всего лишь стало интересно, кто выбросил этот цветок почти сразу же, как только сорвал. Иногда я пользуюсь домиком Россов, когда провожу полевые исследования. – Он снял с себя рюкзак, и тот легко звякнул, коснувшись земли. Вынув из бокового кармана небольшой полевой дневник, биолог вложил лаванду между страницами, после чего убрал блокнот обратно. Затем отцепил трость и вытянул ее на всю длину, вслед за этим просунув свободную руку обратно в лямку рюкзака.
Все это он проделал изумительно легко и проворно. Джейкоб Уокер был довольно высокого роста и крепкого сложения, но его движения выглядели такими естественными и пластичными, что он казался своим среди деревьев и цветов. Диколесье Сары не преграждало ему путь. Оно впускало его в себя. Так он – ученый? Никогда не встречала ни одного, но мои стереотипные представления о твидовых костюмах и душных лабораториях внезапно оказались вопиюще неверными.
– Я пользуюсь этой дорогой от случая к случаю. Много времени провожу на горе, но сад никогда не тревожил. Некоторые редкие растения осмотрел, это правда. – При упоминании о диковинках глаза Уокера блеснули и на миг обратились в сторону сада. Он упер трость в землю, сжимая ее обеими руками так, что на фоне пятен от травы и земли стали видны белые костяшки. – Бабуля – известная травница этих мест. Многие жители ищут в лесу разные ингредиенты. Красители. Или лекарства. Большинство не задумывается, как это влияет на окружающую среду. Женьшень числится среди исчезающих видов. На черном рынке за него можно получить хорошую цену. А его незаконная добыча и продажа порождают другие опасные преступления вроде отмывания денег.
Так, может, у его напряженности имелось логическое обоснование?
Он не просто ученый или любитель походов. Он выполняет миссию. И все равно даже отлов браконьеров не казался делом достаточно серьезным, чтобы соответствовать тому уровню подготовленности, который в нем чувствовался. Я не только бариста. Я та, кто выжил в одиночку. До того, как рядом появилась Сара. Утомленные соцработники и приемные родители не в счет. Уокер пошатнул мое внутреннее равновесие сильнее, чем Бабуля, и непонятно, о чем именно это говорило: о симпатии или о скрытой опасности. Между моим телом и разумом не было согласия. То, что выдавали глаза биолога, не сочеталось с другими его чертами, есть у него миссия или нет.
– Вы не рассказали начальству о саде, потому как считаете, что ему лучше оставаться для всех тайной? Чтобы не разорили, когда о нем станет известно? – предположила я. – Думаю, женщины семейства Росс или люди вроде Бабули скорее умрут, чем навредят лесу.
– Для них это кощунство. И то, как погибла мать вашей подруги. Убийца не просто отнял ее жизнь. Кто бы это ни был, он еще и осквернил белую акацию… – начал Уокер.
– …А вместе с ней осквернил диколесье, – закончила за него я.
И, высказанные вслух, эти слова внезапно открыли главную причину, приведшую меня сюда. Обстоятельства убийства и то, как обошлись с телом, производили впечатление не просто свирепой жестокости. Это надругательство над всем, что было дорого погибшей. В том числе – над Сарой, такой дорогой и для меня. Дороже самой себя. Теперь, когда она погибла, у меня не осталось привязанностей ни к кому и ни к чему, но в этом саду я чувствовала, как многовековой уклад жизни женщин Росс затягивает в свои призрачные сети. Привести сюда прах названой сестры меня заставили именно ее чувства и убеждения. Вскоре она воссоединится с этим местом, словно никогда и не покидала его. Силуэт Уокера и очертания сада вдруг стали размытыми: мои глаза заволокло слезами.
– Простите, что потревожил. Надо было мне просто идти своей дорогой, – неожиданно произнес биолог.
Сжав челюсти, я запретила себе плакать. Но руки, крепко стиснувшие урну, выдали все мои переживания и без слез. Разумеется, он заметил. И побелевшие костяшки. И влажные глаза. Он понимающе поглядел на меня. И от этого я тут же напряглась. Пускай наблюдает и подмечает что угодно, но не надо понимать меня лучше, чем я сама. Скорбь оставалась слабым местом, которое я не желала раскрывать перед незнакомцами.
Но неожиданно пришло спасение. Секундой ранее передо мной был мистер Уокер, пахнущий лавандой миролюбивый биолог, и вот это уже совершенно другой человек, который расправил плечи и занял оборонительную стойку, перехватив трость на манер оружия. Особенно мускулистым ученый не был. И его сдержанная сила проявлялась, лишь когда того требовала ситуация. Я потрясенно выдохнула и отступила. А затем развернулась – очевидно, эту перемену вызвало что-то позади меня.
– Том, – произнес Уокер с заметным облегчением. Глубокий и уверенный голос прозвучал непосредственно рядом со мной. Значит, когда я развернулась, биолог шагнул в мою сторону. И оказался гораздо ближе, чем я ожидала. Это был жест защиты, но от него мне не стало спокойней. Такая близкая дистанция сильно обеспокоила, словно компенсируя то, что мне не показалась достаточно нервирующей метаморфоза, произошедшая с мужчиной. – Так это ты посадил дерево для Сары Росс.
Появившийся в саду человек едва взглянул в нашу сторону, он непрерывно мелко кивал, подходя к молодому дереву акации, про которое говорил Уокер, с большим ведром воды в руках. Лицо незнакомца рассекал зловещий красный шрам, спускающийся от глаза и проходящий по диагонали через обе губы. Крупный мужчина, но он, похоже, не представлял угрозы и молча ухаживал за растениями, словно нас здесь и вовсе не было.
– Все в порядке. Он присматривает за садом. Я видел его здесь несколько раз, – сказал Уокер. Он не отодвинулся. И я тоже. Несколько шагов в сторону не ослабили бы реакцию моего тела на голос, прозвучавший чуть ли не вплотную к затылку. Биолог не прикасался ко мне и не сделал ничего, нарушающего личные границы. Так что дрожь и покалывание в спине спровоцировала я сама, а не он. Краем глаза я заметила, что он вновь оперся тростью о землю. Вернулся в образ безмятежного любителя полевых исследований. Однако это не помешало мне каталогизировать его внезапную защитную реакцию как не слишком академическую.
– Бабуля сказала, я пойму, где развеять прах Сары, – проговорила я.
Закончив с поливкой, Том теперь обходил сад, обрывая сухие листья и осматривая цветки и вьющиеся стебли. Он никак не отреагировал на то, что я подошла к молодому дереву акации и открыла урну.
Я очень долго не могла ее наклонить. Все стояла и чего-то ждала. В конце концов лишь благодаря невероятному усилию воли я смогла высыпать прах Сары на сырую землю. Удивительно, но мне казалось, что каждая частичка пепла ненадолго застывала в воздухе, прежде чем соглашалась упасть. Щебетали птицы. Жужжали насекомые. А я провожала в последний путь Сару – человека, который знал меня лучше, чем кто бы то ни было еще, – в окружении двух людей, с которыми едва была знакома.
На траурную речь у меня сил не хватило. Тоску по Саре, пронизавшую всю меня изнутри, невозможно было облечь в слова. Урна теперь казалась слишком легкой. Я завинтила на ней крышку и не знала, что делать дальше. Уокер стоял позади меня. Похоже, он не мог решить, следует ли ему уйти или предложить свою помощь. По правде говоря, поддержка была для меня чем-то настолько непривычным, что я не знала, как реагировать. Обычно я отпугивала от себя людей до того, как они решали пойти на сближение. В Ричмонде проще. Постоянные толпы. Спешка. Все понимают сигнал «оставьте меня в покое».
– Меня зовут Мэл, – представилась я. Джейкоб Уокер видел каждое мое движение, а я чувствовала каждый его вздох. Показалось глупым не представиться человеку, к дыханию которого я так чутко прислушивалась. Он уже был частью этого скромного мемориала, отбрасывавшего теперь зловещую тень на всё вокруг акации Сары.
Темные, изогнутые деревья хранили память об ушедших, но вместе с тем навевали какую-то неясную тревогу. Их ветви, словно скрюченные от боли конечности, тянулись к небу не с надеждой, но с предостережением.
– Приятно познакомиться, Мэл. – Новый знакомый перевел взгляд на окружающий лес и кивнул так, как будто нас формально представили друг другу листья на деревьях.
Прах опустился на землю и потемнел, впитав влагу от свежего полива. Никакого облегчения я не чувствовала. Как и того, что в этой истории наступила развязка. Бабуля ведь меня предупреждала. Все казалось не завершением, а началом. Я в первый раз встречала полдень на горе, где жила Сара. И от осознания, что этот раз вряд ли станет последним, по спине пробежали мурашки.
– Вы с Бабулей не ладите. – Мне хотелось однозначности. Определить для себя, что он такое. За одно это утро он переменился слишком много раз, и привычного уровня моего восприятия пока не хватало для внятного впечатления.
– Я заметил, что она угостила вас чаем. Будьте осторожны. Эта старушка постоянно что-то заваривает.
– Так вы полагаете, она не знает, что делает? – предположила я.
Присев на корточки, я поставила урну на землю, и только когда поднялась с опустевшими руками, мое сердце екнуло, осознав, что произошло. Жизнь Сары закончилась, а каждое сокращение сердца, продолжавшего мою жизнь, отдавалось болью.
– О, она-то прекрасно знает, что делает. Только я не уверен, что вы понимаете, с чем связываетесь, – возразил Уокер. В груди у меня жгло – как жжет кожу лед, – но, несмотря на болезненную скованность от внутреннего измождения, я обернулась, потому что его голос теперь раздавался издалека. Он двигался туда, где тропинка уходила с поляны дальше в лес. – Наверняка можно сказать одно: от каждого кулька с ее травяным чаем тянется веревочка – и я не про те ниточки, которыми они перевязаны.
– Вы ведь ученый. Не верите же вы… – начала я, но оборвала фразу. Сердце в оледеневшей груди забилось сильнее. Я годами пила травяные отвары Россов, и ничего со мной не стряслось. Полный порядок. Никаких чар или приворотов я на себе не чувствовала. Но разве Бабуля не сказала, что кофе «препятствует»? Я не верила в чудеса. Верила только Саре. А Сара умерла. Даже прирожденные бойцы иногда устают.
– Во что я верю – так это в то, что не стану пить никакие Бабулины зелья в ближайшем будущем, – отозвался Уокер. – И вам не советую. Вам бы лучше вернуться в Ричмонд. Попрощайтесь с подругой и езжайте обратно в город, пока еще можете.
– Пока еще могу? – переспросила я. Тон его был по-прежнему беззаботный, но в словах звучало явное предостережение.
– Едва вы вступите в диколесье, как оно заберет вас навсегда. – Уокер остановился у промежутка в деревьях, обозначающего продолжение тропинки. За его спиной лежали прохладные зеленые тени. Я заметила, что мох у корней такого же цвета, как его глаза. Оттенки леса вокруг него не просто перекликались с цветом его глаз. Множество золотистых и коричневых оттенков каштановых волос и чуть загорелой кожи настолько сливались с окружающим пейзажем, что сложно было разобрать, где кончались его собственные очертания и начиналась чаща.
– А вас уже забрало? – осторожно спросила я. Без моего ведома сердце вдруг притихло и наполнилось теплом. Лед таял. Биение стало ровнее. Уокер вдруг снова перестал походить на ученого и обратился в какое-то лесное создание. Он обладал сдержанной мужественной статью и почему-то в дикой местности выглядел куда органичнее, чем среди людей.
Как я могла расслабиться в присутствии этого хамелеона? Хотя бы на секунду? Очевидно, утрата повредила мой внутренний радар и ослабила защитные механизмы.
– Да. И заберет снова, – откликнулся он.
Он отвернулся и продолжил путь через лес пружинистым стремительным шагом, которым можно влегкую пройти десятки километров до конца дня. Через несколько секунд он исчез. Только тогда я поняла, что осталась в саду одна. И более того – урны тоже не было. Наверное, Том молча забрал ее с собой, уходя. Не место такому угрюмому, жуткому предмету среди зелени и цветов. Мои защитные инстинкты подводили в этом месте не просто так. Хладнокровие здесь не работало. В городе я могла оставаться настолько отстраненной, насколько заблагорассудится, – в толпе несложно сохранить анонимность. А вот диколесье требовало тепла. Оно пробуждало его. Можно скорбеть, но нужно и продолжать жить. Здесь все определял естественный цикл рождения, роста, смерти и возрождения, который необходимо было поддерживать.
На несколько сумрачных мгновений моим вниманием завладела белая акация со скрюченной ветвью. В воображении ужасающе натурально прозвучал скрип из кошмара. Убийство противоречит всему естественному.
Скрежет натянутой веревки по коре.
Здесь погибла женщина. Я видела ее труп так отчетливо, будто это я, а не Сара стояла возле этого дерева на похолодевших босых ногах.
Неожиданно солнце закрыли облака, и нечто заставило меня вздрогнуть. Даже на этой поляне лес поглощал сад, как только солнце скрывалось из виду. Я подняла глаза, и вид пушистого облака, сквозь которое с такой готовностью проглядывали лучи спрятавшегося солнца, успокоил меня.
Я не стала задерживаться.
Бабуля ждала меня. Она велела разыскать ее. Я погладила листья на ветвях саженца акации. Не прощаясь, а обещая вернуться. Несмотря на нервную дрожь, пробежавшую по спине, когда я проходила мимо дерева Мелоди Росс, я решила не следовать совету Уокера.
Призрачные сети поймали меня. Опутали мое сердце. Сара хотела вернуться сюда, ибо здесь был ее дом. Бабуля сказала, что это только начало, и я действительно чувствовала, как внутри что-то пробуждается. Через туман горя пробивалось любопытство. Я жаждала прекращения кошмаров, но в то же время хотела разобраться, что происходит. Сбежав, я не смогла бы этого сделать.
Глава четвертая
Как давно он здесь не был. Грязь под лапами. Сырая земля. Горькая кора. Отхватил и выплюнул. Нельзя есть. Он несколько раз чихнул. Содрогания приятны. Вычистили из носа домашнюю пыль. Он бежал по самому краю полоски голой земли. Прохладные тени подлеска укутывали, словно одеяло. Щекотка на кончиках ушей и в желудке шептала: «Укрыться. Укрыться в тенях». Но сильнее всего было жжение. Как от голода, но иное. Как когда ищешь самку, но иначе. Оно заставило покинуть укромную нору в доме.
Нос и уши. Подергиваются. Бежать. Нюхать. Вслушиваться. Пробовать. Целую вечность он таился, скрывался.
Выжидал.
Сотворенный из яростной любви, он ожил, когда сухие травы зашуршали внутри, отзываясь на появление незнакомки. Но он был слишком медленным. Изорванные нитки и поеденные молью травы обратились в плоть и кровь. Боль. И жжение. Вперед, вперед. Он не простой оберег. Вперед. Незнакомка ушла, но внутри еще жгло. Вниз по лестнице. И бегом наружу. Жжет – значит, можно двигаться. Радость после многолетней спячки.
Никто не нашептывал песен, чтобы восполнить его силы. Свежая зелень из сада не обновляла изнутри. Иголка и нить не прикасались к износившейся оболочке. Теперь все иначе. Он так давно не чувствовал рядом могущественную руку, создавшую его. Сердце, когда-то наполненное цветками лаванды, колотилось в груди. Он дышал. Вдох-выдох. Слишком быстро. Страшно.
Все иначе. Но он помнил, что было раньше.
Он последовал за новым запахом к дикому месту. Много раз, давным-давно, его брали в дикое место, спрятав в карман. Только в этот раз ему еще нужно было увернуться от смерти. Длинной, скользкой, беспощадной. Ловкой. Стремительной. Жаждущей проглотить. Как бы не так. Внутри жгло – и он делался проворней, быстрее. Он избежал атаки и замер в густой высокой траве. Щекотка подскажет, что делать. Он спрятался. На землю упала тень пролетающей птицы. Пробрало насквозь, до самых новообретенных костей.
Но не остановило.
И чем больше проходило времени, тем сильнее становилось тело и яснее голова.
Старый и потрепанный, благодаря любви он получил жизнь. Однако ему и теперь предстояло отваживать плохие сны и прогонять страхи. Вот что обжигало нутро. Предназначение. Пусть и не для девочки, которой пришлось оставить его, когда ее увезли. Ей хватило мужества перед уходом спрятать его, смоченного слезами, под подушку. В последний раз. Но даже ему – а голова у него была набита полынью и лавандой – было понято, что нельзя слишком отдаляться от растений и дикого места, его породивших. Иначе он снова стал бы кучкой ниток и травяной набивки.
Девочка оставила его, чтобы он не «умер». Возможно, зная, что ему нужно будет дождаться прихода другой.
Наконец он добрался до дикого места. Обнюхал каждый корешок и стебелек. Щекотка и жжение указали на те, которые требовались.
Здесь росло то, что обновит его изнутри. То, что когда-то наделило даром движения. Он перебегал от одного растения к другому. Набивал желудок, покуда жжение не прекратилось. После этого по запаху – нюхай, вслушивайся, смотри – он нашел молодое деревце, под которым недавно развеяли прах.
Он посидел немного рядом, вспоминая, как путешествовал в кармане девочки и как отгонял от нее плохие сны, а потом развернулся и отправился обратно к хижине. Не стал следовать за незнакомкой. Он уже едва ее чувствовал. Ушла слишком далеко, и вязаной мыши, оживленной любовью, ее было не догнать. Придется подождать еще какое-то время.
Спустя несколько часов практики его движения стали более точными и собранными, однако он все же не успел вовремя заметить, что смертоносный полоз, от которого прежде удалось увернуться, теперь затаился в тех же кустах, где сам он прятался от ястреба. Мир запахов и ощущений все еще оставался непривычен. Гибельную ошибку исправило солнце, вышедшее из-за туч и отразившееся блеском на змеиной чешуе.
В ответ на бросок полоза он подпрыгнул как никогда раньше. Но дикое место – лесной сад – обильно наполнило энергией ничтожные мускулы. Крошечное серое тельце подлетело вверх, а затем скрутилось и развернулось, упав на затылок полозу и впившись в него зубами.
В том, что произошло потом, проявилась неистовость его создательницы, а не природа его нынешнего воплощения – живой, дышащей мыши. Его ведь создали в качестве оберега. А чтобы исполнить предназначение, нужно было вначале уберечься самому. Брызнула кровь. Полоз бился в агонии, которая предназначалась тому, кто с ним расправился. Он теперь был не просто талисманом. И не просто мышью. Но в то же время он еще не стал тем, кем его создавали…
Между Той, что придет, и Той, что была прежде,
Фэйр-Маргарет-Энн-Элизабет-Берта-Кэтрин-Мэри-Беатрис-Мелоди-Сара.
Между лозой диколесья и бьющимся сердцем,
Соединять, указывать, оберегать.
Он не разжимал челюсти, пока полоз не перестал двигаться. От героических усилий крохотное мышиное тело – пусть оно было телом волшебного питомца знахарки и посланника диколесья – испытало боль, несравнимую с прежней. Но голова, некогда набитая травами, приноровилась к новому состоянию, как и все остальные органы. Оставив позади мертвую змею, он осознал, что стал чем-то большим, чем был до этого.
Он наберется сил и станет ждать здесь, пока незнакомка не начнет в нем нуждаться.
Мелоди Росс об этом позаботилась.
Крышу Бабулиного дома украшала викторианская резьба, напоминавшая фигурно выточенные клыки. Направление к нему мне указал первый же встреченный человек. Это была женщина, выходившая из парикмахерской, и, описывая маршрут, она говорила так тихо и так опасливо оглядывалась вокруг, как будто ей вовсе не хотелось быть кем-нибудь застуканной за ответом на подобный вопрос. Странно, учитывая, как все приветствовали Бабулю в закусочной.
Разумеется, попутно женщина оглядела меня с ног до головы, словно узкие черные джинсы и высокие кроссовки нарушали какой-то неведомый местный дресс-код.
Преодолев кованые железные ворота, увенчанные заостренными прутьями, я осторожно приблизилась к коттеджу в стиле королевы Анны – приходилось напоминать себе, что меня сюда пригласили. Зубастая резьба на фронтоне и плотно занавешенные окна не выглядели особенно гостеприимно. Древнее здание было больше остальных домов в квартале и располагалось в конце тупика, раскрошившийся асфальт в котором походил скорее на черный гравий. Соседние дома были отделаны крашеными досками или дешевым винилом, скорее всего, маскирующим подгнившее дерево, однако за лужайками жильцы ухаживали, от сорняков избавлялись, и то тут, то там виднелись свидетельства, что здесь живут люди с детьми: качели, песочница, прислоненный к ограде велосипед…
Бабулин дом из выцветшего кирпича выделялся на их фоне солидной красотой. На вершине круглой башенки со скрежетом поворачивался туда-сюда большой черный флюгер в виде ворона. Подумалось, что, должно быть, моя собеседница из парикмахерской считала этот дом, да и его обитательницу, эксцентричными. У нее самой волосы были выпрямлены, залиты лаком и уложены в традиционную прическу неработающей домохозяйки. С Бабулей я была знакома совсем недолго, но она-то со своими бесконечными одеждами, карманами и лоскутками, не говоря уже о непокорной пышной шевелюре, выходила за рамки нормы даже по меркам Ричмонда. Вероятно, в этом городке ее считали чудаковатой дикаркой, а не хранительницей традиций.
Возле крыльца гордо высилась еще одна табличка с лозунгом «Нет ходу трубопроводу».
Поднявшись к входной двери, я несколько нервных минут искала звонок. Никакой кнопки – лишь небольшая ручка, поворот которой не вызывал привычного электрического дребезжания. Специальным шнуром в стене она была связана с колокольчиком внутри.
Вслед за звоном колокольчика послышались шаги – я узнала походку.
Бабуля открыла дверь.
Щеки ее румянились, а по взъерошенным сильнее, чем утром, кудрявым волосам топорщились серебристые пряди, похожие на восклицательные знаки. Поверх уже знакомого мне наряда был повязан плотный фартук, добавивший новый слой и без того внушительному одеянию. Карманов, видимых и скрытых, стало еще больше. Так много, что и не сосчитаешь. Когда она двигалась, их содержимое шуршало, звенело или бряцало, окружая ее еще одной завесой – звуковой.
– Я испекла тебе печеньица, – громко объявила хозяйка, перекрикивая мяуканье невероятно крупного и толстого полосатого кота – вот кого явно чрезмерно баловали печеньицем, – который вился вокруг ее лодыжек.
Воздух, встретивший меня на пороге, приятно пах сахаром и ванилью, но к нему примешивались и другие, не столь приятные ароматы. Дыхание дьявола? Полироль для мебели? Подгоревший тост? Пыльца фей? Оставалось только гадать. Внутри, когда Бабуля закрыла за мной дверь, я испытала легкий приступ паники, хотя и не заметила ничего, что помешало бы выйти, возникни у меня такое желание.
– Ну вот, ты молодец. Дело сделано. Самое трудное позади. Остальное будет куда проще, – сказала Бабуля. Затем она сжала меня в объятиях, неожиданно крепких с учетом ее небольшого роста – на голову ниже меня. И все же я вдруг почувствовала, что кто-то меня всецело понимает и поддерживает. Это было не просто крепкое радушное объятие маленькой женщины. Так меня обнимала Сара, и несколько секунд, в которые я вновь это переживала, уже стоили того, чтобы увидеть Бабулю еще раз. Помимо всех прочих миссий, целей и задач. Ведь если решаешь отгородиться от мира стеной, то, достроив ее, остаешься один на один с собой – и от себя спрятаться негде.
После нескольких секунд слабости я отстранилась, не поняв, получила ли что-то от старушки или что-то отдала.
– Сны из тебя все соки выпили. Нужен отдых. Передышка. А моя стряпня с этим поможет. – Хозяйка подтолкнула меня вглубь длинного коридора, ведущего в заднюю часть дома.
Пришлось протискиваться между грудами копившихся годами вещей. Как я ни старалась рассмотреть детали антикварных безделушек и мебели, все же бронзовые статуэтки, диван с подушечками, зонтики, фотографии, хрустальные графины и пластиковая копилка в виде ухмыляющейся свиньи, в которой легко узнавался логотип местного кафе, пронеслись мимо слишком быстро.
Мы оказались перед двустворчатой дверью, которую Бабуля открыла, толкнув правую половину потемневшей от земли ладонью. А на кухне меня застал калейдоскоп уже иного рода. С потолка свешивались медные горшки. По полу выстроились корзины и бочонки. Каждая полочка была до отказа забита стеклянными и жестяными банками, а на столешницах ровными рядами, как на параде, стояли тщательно промаркированные бутылочки с аккуратными рукописными этикетками.
Бабуля оставила меня, поспешив к духовке – такой огромной я не видела за всю жизнь. Белая эмалированная махина со скругленными краями и хромовой отделкой была, наверное, ровесницей хозяйки. А то и старше. Но, когда Бабуля открыла дверцу духовки и достала противень, прихватив его краешком фартука, я убедилась, что обещанное печеньице аппетитно подрумянилось и идеально пропеклось.
Все еще чувствовался посторонний, необычный аромат – горелый это тост или дыхание дьявола, я по-прежнему не разобралась, – но сильнее всего пахло ванилью и сахаром. Так сильно, что в желудке у меня заурчало, а рот моментально наполнился слюной. С утра я успела перехватить только тост с джемом, а обед пропустила. Поездка к хижине заняла большую часть дня. Тут вдруг мысли о дыхании дьявола заставили меня вспомнить про зерна граната, которые Аид дал Персефоне. Неужели я и вправду собиралась съесть угощение после предупреждения, что с отварами и прочими «заготовками» этой своеобразной дамы нужно быть осторожнее?
Бабуля достала лопатку из керамического горшка на буфете и переложила печенье на заранее подготовленную решетку для выпечки.
– Нам нужно многое обсудить, пока оно остывает. Возьми-ка стул да погляди, что у меня для тебя есть… помимо средства для крепкого сна, – сказала Бабуля. Она кивком указала на столик, расположенный у панорамного окна, выходившего на задний двор – он оказался куда более заросшим, чем у соседей. Их лужайки были коротко выкошены на типично городской манер. А этот двор, в отличие от упорядоченной пышности сада диколесья, больше походил на одичавший огород.
Но указывала хозяйка не на разнотравье за окном.
На кухонном столе лежал лечебник семьи Росс.
Никогда раньше не видела его целиком, хотя разорванным он тысячу раз являлся мне во сне. На лбу и над верхней губой выступил пот. Во рту пересохло. Мой кошмар сбывался наяву. Но каким-то образом это была и Сара. Ее прошлое. Ее наследие. Ее мать. Ушедшие, но не забытые.
Однажды я посреди ночи вытащила Сару из нового приемного дома, потому что «отец» чересчур долго и крепко обнимал нас перед сном в тот день, когда «мама» уехала из города по делам. Я нашла безопасный ночлег, и с собой у нас было только то, что мы обычно паковали в рюкзаки как раз для таких случаев.
Даже зная, что соцработник не поверит в грозившую нам опасность, и сомневаясь, что в следующей семье, куда нас определят, станет лучше, я проделала все это без слез.
Но вот уже в миллионный раз за сегодняшний день мои глаза увлажнились. Узда, в которой я годами держала свои эмоции, ослабла, и непонятно было, как снова взять себя в руки.
Я подошла к столу и села. Протянув руки к лечебнику, коснулась его – впервые в реальной жизни. Нет. Убегать я не стану. С Бабулей, может, и надо быть начеку, но об отступлении речи идти не могло.
– Я его подлатала. Просушила страницы, сделала новый кожаный переплет и подшила к старому. Хотела сберечь для Сары. – Бабуля подошла и села напротив меня, оставив печенье остывать.
Кожа нового переплета была тугая и гладкая. Она выделялась бледно-карамельным цветом рядом со старыми обложками из черного ореха, которые были отполированы тысячами прикосновений. До этого момента я не знала, что лицевую сторону обложки украшал потертый тисненый рельеф в виде дерева. Я провела пальцами по его ветвям, задумавшись, делала ли Сара или ее предшественницы так же. Затем осторожно пролистала книгу, уверенная, что перепачканные страницы были теми самыми, которые подбирала Сара в то утро, когда убили ее мать. Чувствовалось, что Бабуля хорошо поработала, однако вне зависимости от ее трудов не возникало сомнений, что некоторые пятна на обложке и страницах появились очень давно и не от воды из ручья. Бледные, высохшие пятна крови – если это были именно они – не казались чем-то зверским: они больше походили на завет грядущим поколениям, на безукоризненную хронику множества жизней и событий, столь же тщательно изложенную, как и слова на страницах.
– Сара хотела бы, чтобы это было у тебя.
Под многими рецептами стояли те же крупные, с сильным наклоном инициалы, что и на свитке из закусочной. Взгляд задержался на буквах «М.Р.»: я знала, что, когда у меня не было собственного имени, Сара дала мне имя своей матери. Я считала это большой честью. Так подруга приняла меня в свою семью, когда мы обе, никому не нужные, оказались в полном одиночестве.
«Мэл» больше подходило под мой нрав, чем «Мелоди». Так мне и досталось это коротенькое имя. Но вот фамилию «Росс» я обрести никогда не старалась. Превращение Джейн Смит в Мэл Смит прошло легко и незаметно. Достигнув возраста, позволявшего сменить имя по собственному желанию, я так и сделала.
– Джейкоб Уокер посоветовал мне уезжать, пока еще можно. И еще – не пить ваш чай и не оставаться надолго в диколесье, – сказала я.
– А печенье мое он тебе тоже есть не велел? – поинтересовалась Бабуля. – Ведь рецепт-то как раз из этой книги. Его сама прабабка Росс вписала – даром, что чиркала, как курица лапой.
Тут Бабуля потянулась к книге и листала страницы до тех пор, пока не открыла разворот, украшенный изображениями цветков чертополоха – такие я видела сегодня в саду. На полях рецепта виднелись приписки, которые, очевидно, появились позднее самого рецепта. Неразборчивый почерк в центре действительно напоминал куриные следы.
– Ее заметки сложнее всего читать. Спасибо ее дочери и внучке, что добавили разъяснения. Она ведь самоучка. В школу не ходила. Все ее образование закончилось у матери на коленках, – пояснила Бабуля.
Я пробежала глазами список ингредиентов. В нем тоже не обнаружилось дыхания дьявола или сока поганок. Мне был незнаком только «молотый солнцецвет».
– Легкое снотворное. Поможет тебе заснуть. Только с этой целью я и взялась их печь, – сказала Бабуля. Она уже не была такой бодрой, как утром, но волшебством от нее веяло по-прежнему. Удивительные глаза сверкали бликами заходящего солнца и мудростью. Розоватый отсвет заката наполнил кухню теплом, поблескивая на горшочках и сковородках.
Пока я колебалась, поддаться ли соблазну крепкого сна или послушаться предостережений Уокера, через двери кухни протиснулся полосатый кот. Я наблюдала за его неожиданно грациозными движениями, пока он не запрыгнул на буфет прямо напротив стола. С царственным видом устроившись там, где другие коты сидеть бы не стали, он при этом не полез обнюхивать решетку с печеньем, а перехватил мой взгляд и, не мигая, уставился в ответ. Глаза у него были такими же зелеными и внимательными, как у биолога, но виделось в сосредоточенной мордочке и нечто такое, что не принадлежало ни зверю, ни человеку. Казалось, за вертикальными зрачками кроются неуловимые для меня, совсем не кошачьи мысли. Бабуля продолжила:
– Ты там, где и должна быть, но решение тебе придется принимать самой. И сейчас выбор не в том, чтобы уйти или остаться. Скорее – взять передышку или продолжить марафон. Смотри сама. Уокер, надо отдать должное, мудрее, чем кажется. Но некоторых вещей ему понять не дано… Например, тех, что касаются женщин из рода Росс и того, через что они прошли. Мать Сары убили. А теперь и Сара мертва. Я-то могу просто ходить за чаем, корешками, цветочками да листиками, но гора говорит со мной – и ее слова мне не нравятся.
– Автомобильная авария, – выпалила я. Может, на меня подействовал аромат печенья. Или то объятие. Внезапно я рассказала историю до самого конца. – Фургон без номеров, который подрезал нас тогда, так и не нашли. Сара была за рулем. Ей не нравилось, когда вела я. Просто я – агрессивный водитель. Легко раздражаюсь. А она всегда водила так аккуратно. Тише едешь – дальше будешь… Но в тот раз не помогло. Шел сильный дождь. Смеркаться еще не начало, но из-за непогоды было темно, как ночью. Фургон появился из ниоткуда. Гнал со всей дури.
Наконец я потеряла самообладание. Горячие слезы хлынули по щекам. Весь день я не позволяла им этого. До того – неделями напролет. В саду сердце мне будто ледышками обложили. А сейчас ручейки слез обжигали похолодевшие щеки, словно кислота. До этого мне некому было рассказывать про аварию. И все же я попыталась сглотнуть поток слов, вырвавшийся из моей измученной груди. Лучше держать в себе. Даже если слушатель сопереживает.
Бабуля поднялась и подошла к буфету. Кот не шевельнулся. Даже хвост его был неподвижен. Она же, не торопясь, выкладывала остывшее печенье на фарфоровую тарелку.
– Ужасный несчастный случай, вот и все, – закончила я. Слез не осталось. Щеки высохли, кожа стянулась и стала липкой. Бабуля вернулась к столу и поставила между нами печенье. Затем принесла стаканы и достала из холодильника – такого же старомодного, как и плита, – кувшинчик молока. Наполнив стаканы, она налила немного и в миску на полу, которую я до этого не заметила. К моему облегчению, кот поступил точно так, как ожидаешь от котов, – отвел взгляд и спрыгнул к миске. Пока он лакал молоко, Бабуля взяла одно печенье и откусила кусочек. Она как следует прожевала его, прежде чем заговорить:
– Я отправила Сару подальше отсюда. Прятала ее так долго, как только могла. И не справилась, судя по всему. Думаю, до нее добрались. Но не все еще потеряно: Сара ведь встретила тебя.
– Я – никто. Так, студентка. Да и то – с натяжкой. У нас не хватало денег, чтобы оплатить и ее, и мою учебу. Мне хотелось, чтобы Сара первой получила диплом медсестры. А сама что? Бариста, вот и все, – ответила я, отводя взгляд от ставшего абсолютно обычным полосатого кота. Руки, сжавшиеся в кулаки, легли по обе стороны от красивой тарелочки с печеньем. На костяшках пальцев покраснели следы от ран, полученных в попытках высвободить Сару из машины. Если бы окно не треснуло при столкновении, я бы себе все пальцы переломала, пытаясь разбить закаленное стекло. Наверное, шрамы останутся вечным напоминанием о моем исступлении в тот момент. Боль в них не шла ни в какое сравнение с той, что пронзила меня, когда я увидела безжизненное тело, заточенное в салоне автомобиля. И еще преследовала мысль – вдруг фантомные боли, которые посещали Сару до нашей встречи, были предчувствием того, что я сделаю со своими руками после столкновения?
Она говорила, что с тех пор, как мы взялись за руки в первую нашу ночь под одной крышей, та боль никогда не возвращалась.
– Бариста – значит, бариста. Правильно готовить напитки куда важнее, чем тебе кажется. Да и не только тебе. Это утраченное ремесло. Женщины из рода Росс это знали – и они старались, овладевали им, сохраняли, – сказала Бабуля. – Сама я старею, но тебе обучиться помогу. Студентка-то мне как раз и нужна. Если не решишь сбежать, я помогу тебе освоить рецепты из этой книги. Из книги Сары. А диколесье подскажет нам, что делать.
– Не верю я в это ремесло. Уж очень напоминает небылицы, в которые нас учили верить в детстве, – про счастливые семьи, про добро, которое всегда побеждает, про любовь, для которой нет преград. Про то, что однажды мы обретем дом.
– Но ты верила в Сару. И в ваши сестринские узы. Это все, что имеет значение, – возразила Бабуля.
Я действительно верила в Сару и в узы между нами. Старушка была права. Эта вера никуда не делась. Я ощущала ее внутри себя – от нее шло тепло, как от тлеющих углей. Может быть, удастся заново их разжечь, если я таким способом воздам дань уважения ее памяти. В Ричмонде меня не ждало ничего, кроме холодной пустой квартиры. А здесь я хотя бы могла лучше узнать мир, в котором росла Сара. Во что верила она. Кто ее окружал. Могла сохранить ее присутствие в своей жизни на еще один непродолжительный миг. Я разжала кулаки и потянулась за печеньем. Взяла одно и обмакнула в молоко.
Бабуля повторила мой жест и протянула свое мокрое печенье навстречу моему. Точно так же делала Сара. Пробовала ли она такое печенье, когда была маленькой? И, прежде чем откусить от печенья, я «чокнулась» им с Бабулиным точно так же, как когда-то делали мы с Сарой. Начав жевать, я ощутила во рту сладкую волну с оттенком горечи.
– Иногда гора шепчет мне и приятные вещи. – В глазах Бабули заиграл переливчатый блеск, но она прикрыла их, отпивая молоко из стакана, так что точно определить ее настроение не получилось. Когда она поставила стакан на стол, блеск уже исчез, но мне показалось, что он просочился в ее следующие слова: – Может, Уокер и посоветовал тебе держаться отсюда подальше, но он не расстроится, обнаружив, что ты не уехала.
Был ли это лукавый блеск? Этого установить не удалось: внезапно на меня навалилась сонливость. Без сомнения, этой ночью повешенная на дереве акации мать Сары мне не приснится. Но сладко-горькое печенье не имело к этому отношения. Бабулины слова вызвали у меня в голове воспоминания о взъерошенных волосах и глазах цвета лесного мха – видимо, загадочный биолог появится в моем сне.
Одно дело – игнорировать смутное волнение, а вовсе его не ощущать – совсем другое. Возможно, то, что я решилась открыть кому-то некоторые свои мысли, не пошло мне во вред.
Завтра я буду готова отправиться в диколесье Сары – на сей раз не для того, чтобы дать пристанище ее праху, а для того, чтобы вновь обрести ее в этом месте, полном тайн и цветущей лаванды.
Глава пятая
Лето – любимое время года Сары. К середине июня ноги ее уже привыкали к шершавой траве и земле, и она редко надевала кеды, которые через силу носила в школе. Потертые и забытые, они стояли у задней двери, а верхние части стоп девочки тем временем делались бронзовыми от загара.
Ее мало заботило, что колени исцарапаны кустами шиповника и на них слетаются комары, не волновали и спутавшиеся кудри, к которым не притрагивался гребешок или расческа. От рассвета до заката, а нередко и после того, как в темноте зажигались огни светлячков, она пропадала в диколесье, не забывая за играми помочь матери в саду или набрать ей холодной родниковой воды.
Мама была занята круглый год, но сильнее всего – летом, когда сад превращался в джунгли всевозможных ароматных ингредиентов, за которыми нужно было ухаживать и поддерживать их в более-менее окультуренном состоянии, чтобы потом снять урожай. Едва научившись ходить, Сара уже знала, что из этого многообразия можно трогать, а что – лучше не надо. И к моменту, когда ей исполнилось десять, ежегодные игры на покрытой мхом поляне в лесном саду сделали из нее настоящего эксперта.
Узнав о лесе достаточно, она стала приглашать свою лучшую подругу поиграть вместе с ней. Удачно, что их мамы тоже были лучшими подругами.
В тот день, пока взрослые прищипывали боковые отростки у несозревших томатов и обрезали увядшие соцветия бархатцев, девочки строили возле ручья кукольный дом из камней и веток. Коврами стали тополиные листья, а стульями – сосновые шишки. Кровати и ванны были сплетены из побегов жимолости, а обеденным столом служил большой плоский булыжник. Из хижины, из комнаты Сары, подружки принесли кукол: подкрасили им волосы с помощью ягодного сока, а на платья пустили разноцветные шелковые платки, которые Таллула Рей нашла в шкафу своей бабушки.
И, конечно же, Лу пела.
Это было ее призванием. Из-за пения она часто попадала в неприятности в школе – как попадала и Сара, когда вдруг узнавала что-то, чего не должна была бы: например, кто из учителей за кем ухаживает или что мистер Томпсон на перемене после обеда выбегает на улицу, чтобы покурить. Нередко подружек вместе в наказание ставили у стены, и тогда они начинали тихонько напевать. Сара подхватывала мелодии Лу сразу, как только та их выдумывала. Они обе были «особенными», но не глупыми. Давным-давно они усвоили, что всему было свое время: когда-то ты поешь, а когда-то – с притворным вниманием закрашиваешь обведенные участки или вырезаешь фигурки из бумаги.
Как и сверхчувствительность Сары, песни Лу не поддавались контролю. В ней постоянно копилось вдохновение для мелодий, и Сара замечала в глазах подруги их появление, даже если Лу не издавала ни звука. В лучшем случае той удавалось лишь ненадолго удержать песню в себе, обдумать – по тому же принципу, по какому мать Сары ухаживала за садом, без лишнего вмешательства, – но Лу признавалась, что и это дается ей с трудом.
Вдвоем им, непохожим на других, было здорово.
Летом Лу могла петь сколько душе угодно, и время от времени взрослые в саду тоже подхватывали ее мелодии. Но подхватывать те песни, которые Лу сочиняла на ходу, получалось лишь у Сары. Мотив и слова становились ей известны почти тогда же, когда приходили в голову самой Лу. Сара успела понять, что в школе подпевать Лу надо не всегда, но цветы и растения лесного сада были прекрасной аудиторией, так что летом подруги обычно беззаботно веселились и пели часами напролет…
Девочек отвлек от игры с куклами нектар жимолости, а взрослые вполголоса заговорили о чем-то печальном и серьезном. Новая забава нравилась Саре и Лу даже больше, чем обустройство домика. Они побросали кукол на испачканных соком креслах из шишек и представили, что превратились в фей. Они порхали от растения к растению, срывали цветки и выпивали их сладкий, душистый сок. Какое-то время сладкий нектар отвлекал от тревожного разговора матерей. Фей такие вещи не интересуют. Им бы лишь порхать по лугу наперегонки с пчелами. Но вот девочкам, которые только притворялись феями, требовалось что-то более весомое, чем жимолость, чтобы заглушить тяжелый разговор о болезни, исцелить которую сад был не в силах.
– Повезло мне, что Мэй так помогает. Она души не чает в Лу. Ты знаешь, что она хочет сделать ей дульцимер [4]? Том даже принес для этого древесину грецкого ореха, росшего у заброшенного дома дальше по дороге. Помнишь, туда молния ударила в прошлом августе? – рассказывала мать Лу.
– Том всегда узнает, что тебе нужно, раньше тебя самого, – ответила Мелоди. – Моя прабабушка сказала бы, что он слышит шепот диколесья.
Тут мать Сары выпрямилась и потянула спину, прежде чем отряхнуть грязь с рук. Потом она приобняла свою больную подругу за плечо:
– Я бы так хотела сделать больше.
Любительницы нектара обменялись взглядами поверх цветков. Тяжелый, грустный разговор. Печальные времена. А от того, что был разгар лета, становилось еще хуже. Гудение пчел и ласковый пушистый мох под ногами делали рак еще более ужасным.
Но было так.
Сад разрастался и цвел, но даже тогда какие-то его части отмирали. Листья на стеблях становились бурыми и засыхали. Лепестки съеживались, увядали и падали на землю. Мама Таллулы не поправится. Уже никогда. Песня Лу была лишь временным утешением перед горьким прощанием.
Саре больше не хотелось пить нектар. Вместо этого она шагнула к своей лучшей подруге. Близость тоже была проявлением поддержки – несколько иным, чем пение дуэтом на школьном дворе. Без бунтарства, обыкновенное желание утешить.
Вдруг в подлеске на северной стороне поляны послышались торопливые шаги. Из зарослей выбежала девушка и с удивлением уставилась на присутствующих, будто этот сад возник здесь только сейчас, а не более ста лет назад. Ее платье было порвано, а на шее болтался сбившийся платок, и только по виду неяркой домотканой материи Сара поняла, что девушка из религиозной общины на другом краю леса.
– Вы в порядке? – спросила Мелоди Росс. Затем, одновременно с Сарой, сделала шаг в направлении сектантки.
Но прежде, чем они успели приблизиться к тяжело дышащей девушке, из-за деревьев позади нее показался Том. У него всегда получалось передвигаться по дикому лесу без единого звука. Никто лучше него не знал все здешние пути и тайные тропы. На этот раз его внезапное появление заставило всех вздрогнуть – они и так уже были напуганы девушкой из общины.
– Они тебя ищут, Мэри. Нельзя, чтобы ты их сюда привела. Пойдем со мной, – произнес Том. Он взял молодую женщину под руку – обычно точный возраст сектанток определить было непросто из-за спрятанных под платками волос и одинаково обветренных лиц, – и, когда он уводил ее, никто не стал ему мешать, даже мать Сары.
– Девочки, быстро в дом. Мы пойдем следом за вами, – скомандовала Мелоди Росс. – Не волочите ноги. И не оглядывайтесь. Бегом.
Даже лето не могло скрасить тот факт, что происходило скверное. Даже более скверное, чем болезнь, от которой страдала мать Лу. До этого в разговоре взрослых звучало принятие. Смирение. Скорбь. Но теперь Мелоди Росс глядела в сторону диколесья, откуда появилась сектантка, и на лице ее читалось нечто иное. Ее подбородок был вздернут, а перепачканные землей руки сжались в кулаки. Миссис Рей нетвердым и медленным шагом приблизилась к Мелоди и встала рядом.
– Но, мам… – запротестовала Сара. Ладонь Лу накрыла ее руку. Вдруг превратившись обратно в обычных людей, они стояли, окруженные ароматным облаком жимолости. Только цветы не могли защитить от тех, кто шел по следам беглянки.
– Если он придет за ней сюда… – начала было мать Лу.
– Тише, Руби. Пускай девочки спокойно уйдут, – остерегла ее Мелоди. – Идите, – вновь велела она Саре, не поворачивая головы. Лето – раздольная и беззаботная пора, но мамино слово закон, и даже летом Сара ему подчинялась.
Мелоди Росс была бдительной и заботливой мамой. Но в то же время никто так не напоминал Саре настоящую, взаправдашнюю фею, как она. В маме слились мудрость, стремление обо всех позаботиться и умение ухаживать за диколесьем. Так что, какой бы «он» ни пришел из-за деревьев, на пути у него встанут Мелоди Росс и ее сад, и лучше бы ему уйти подобру-поздорову. Сара выдохнула. Сердце еще не успокоилось, зато страх переродился в чувство, больше напоминающее ярость.
Лу послушно последовала за Сарой к хижине. Больше они ничего не услышали. Ни криков, не враждебных возгласов. Если мать и призвала себе на подмогу воинство из цветков жимолости, то оно встретило неприятеля беззвучно, пока девочки, потеряв свои волшебные крылья, прятались в комнате Сары.
Сквозь сырой утренний туман я шагнула на тротуар, повторяющий несколько извилистые очертания Главной улицы.
В Морган-Гэпе вообще ничего не было прямым и очевидным.
Лощина, где построили город, оказалась достаточно просторной для того, чтобы проложить улицы в разные стороны, но его здания то и дело прижимались к нагромождению скал. Неровный и часто труднопроходимый рельеф сделал планировку хаотичной. Прогулка по улицам напоминала хождение по лабиринту, где дома и сами горожане вдруг возникали перед тобой в тесных уголках, будто одуванчики, тянущиеся к солнцу.
Прошлой ночью шел дождь, и влажность росла по мере того, как солнце нагревало воздух. Бабуля придерживалась строгого распорядка дня. Ранним утром разносились заказы. До полудня – работа на кухне: перемалывание, смешивание, замачивание и запаривание. После полудня, когда солнце просушит деревья и кусты от сырости, – огород.
Запах разрыхленной почвы и молодой зелени, терпкость лимонной мелиссы, горьковатые нотки алоэ, щекочущий ноздри аромат листьев мяты – все это давало мне долгожданное облегчение после полной потерянности. Должно быть, за свою жизнь Бабуля много кого успела обучить. Учебный процесс был отточен до автоматизма. И я заняла вакантное место подмастерья с редкой для себя непринужденностью. Может, из-за нашей с Сарой тесной связи каждое задание, которое мне давали, казалось смутно знакомым, пусть я никогда и не выполняла его сама.
Вчера я аккуратно подписывала этикетки к баночкам с сушеными травами, провисевшими в Бабулиной кладовке с прошлой осени. Мой почерк на этикетке выглядел ровнее, чем в обычной жизни, но сама идея напоминала манифест. Я никогда не испытывала потребности оставить где-то свой след вроде «Здесь была Мэл».
Бабуля диктовала: «Помогает при артрите в коленях» или «Снимает головную боль». После я еще долго разглядывала готовые этикетки и спрашивала себя, почему угольки в животе так радостно теплятся от подобных простых вещей.
Каждый вечер, перед тем как лечь спать, я подолгу просиживала за семейным лечебником Сары, пытаясь разобраться в природе своих кошмаров и той загадочной связи, которая все еще соединяла меня с погибшей подругой.
Бабуля, похоже, придерживалась мнения, что авария не была случайностью. И Саре угрожала опасность с тех самых пор, как ее увезли из дому. За всю жизнь я никогда не чувствовала себя по-настоящему в безопасности, но идея, будто за Сарой годами охотился убийца, казалась безумием. Я привыкла иметь дело с более приземленными угрозами – например, с коллекторами или посетителями, которые вместо стакана латте требуют твой номер телефона.
Я не принадлежала к семье Росс и не была знахаркой. Странные каракули и зарисовки на страницах книги предназначались не для меня. Я просто доставляла Бабулины заготовки тем, кто желал их получить в первые утренние часы, пока город еще не проснулся: кому-то – лекарство от расстройства желудка, кому-то – крем от морщин. И позволяла этой нехитрой работе унять мои переживания. Ричмондская служба проката договорилась с местным гаражом, что я могу сдать им автомобиль. На прошлой неделе машину оттуда забрал прыщавый подросток, лишив меня самого простого пути к отступлению.
Поэтому, вместо того чтобы сбежать, я перемещалась пешком по всему городу.
Последней точкой моего сегодняшнего утреннего маршрута был магазин-мастерская, где продавали дульцимеры ручной работы. Он гордо обосновался на Главной улице между парикмахерской и антикварной галереей, занимающей помещение бывшей аптеки, – на одной из ее витрин даже нашлось место фонтанчику с содовой. Магазином владела Таллула Рей – известная певица и композитор, которая к тому же сама изготавливала инструменты, на которых играла. Ее уникальные горные дульцимеры, проникновенный голос и поэтический талант были гордостью всего Нэшвилла, столицы фолк-музыки. Таллула могла бы много лет назад переехать отсюда, но не стала.
Возможно, потому, что на горе, неподалеку от хижины Россов, располагался фамильный дом, окруженный рощей ореховых деревьев. Или из-за ее слепой бабушки, которая прекрасно изучила окрестности задолго до того, как ей отказали глаза. В любом другом месте она бы не смогла ориентироваться. А здесь, в Морган-Гэпе, возможность «видеть» у нее оставалась до сих пор.
Мастерица, делавшая дульцимеры, уже была мне знакома. Лу из снов. Лучшая подруга Сары во времена, когда та еще находилась здесь. Магазин открывался только с десяти часов, но Бабуля рассказала, что Лу живет на верхнем этаже, над помещением, в котором с помощью специального токарного станка, долота и своих одаренных рук изготавливает инструменты.
В витрине магазина рядом с рекламой сборника нот висело знакомое «Нет ходу трубопроводу».
– Бабуля чувствует, когда у Мэй заканчиваются запасы. Даже просить не приходится, – сказала мне молодая женщина, когда я открыла дверь магазина. Она оказалась не заперта. Похоже, лишь лианы-кампсисы с их трубчатыми цветами в ящиках на окнах второго этажа оберегали магазин от воров… или чего похуже.
– Она слышит шепот диколесья, – сдержанно ответила я, припоминая, что то же самое мать Сары говорила о Томе. Лу не знала, что я знакома с ней благодаря сновидениям. Промелькнувшее воспоминание о выбежавшей из леса сектантке обдало меня холодом, который не рассеялся даже от солнечного тепла. Дойдя до середины комнаты, я замерла на полированном вишневом полу и крепко сжала в руках корзинку. Возможно, это опыт прежней жизни накладывал на все, что я вижу, глубокую тень. Или это сказывалось влияние кошмаров. Как бы то ни было, мне внезапно захотелось предупредить молодую афроамериканку, которая приветливо со мной поздоровалась, что в городе, где, вероятно, до сих пор скрывается убийца, такая открытость и дружелюбие могут не довести до добра.
– Новая Бабулина постоялица уже у всех на устах. Она берет себе учеников время от времени, – сказала Мэй – слепая пожилая женщина, сидевшая в углу на кресле-качалке с мягкой плюшевой обивкой.
– Меня зовут Мэл, – представилась я. От неизменно меня сопровождавшей мрачности стало неловко. В последний десяток лет благодаря дружбе с Сарой эта мрачность более-менее рассеялась, но ее вернула гибель подруги и невероятно яркие сны. Перед моим появлением кампсисы должны были протрубить тревогу. Может, зловещие тени распространяла я сама.
– На моей памяти Бабуля взяла себе ученицу в первый раз, – улыбнувшись и закатив глаза, сказала полушепотом Лу. Мэй поцокала на нее языком:
– А тебе ведь целых двадцать три. Все-то ты уже повидала.
Зрение Мэй утратила, а вот слышала все превосходно. Ее волосы были заплетены в толстые косы, обвитые вокруг головы, и седые пряди делали эту прическу похожей на серебряную диадему, мерцающую на фоне ее темной кожи. Говоря со мной, она натягивала струны на гриф из палисандра: на ее коленях лежал незаконченный инструмент. Узловатые пальцы ловко и уверенно управлялись со стальными нитями.
Я стояла, смутившись и не двигаясь с места, потому как знала, что ничем не заслужила особого расположения Бабули, к которой обе эти женщины проявляли столько уважения. Но, кажется, ни Мэй, ни Лу не заметили шрамов у меня на костяшках или теней, населяющих мои глаза. Хозяйки спокойно продолжили свои утренние занятия, пригласив меня выпить чашечку свежеразведенного цикория – его горечь смягчила добротная порция жирных сливок.
Это, конечно, был не кофе, который Бабуля по неопределенным причинам запретила мне пить, но сходства оказалось достаточно, чтобы я закрыла глаза и с наслаждением смаковала богатый вкус густого от сливок напитка.
– Мать приучила меня вместо кофе пить цикорий. Она приехала из Нового Орлеана. Потом вышла замуж в Морган-Гэпе и задержалась тут ненадолго, – рассказала Мэй. – Мать Лу, упокой Господи ее душу, была моей невесткой. – Она отложила бывший у нее в работе инструмент, чтобы отпить напиток из чашки и покачаться в кресле. – И петь моя мать тоже любила. О, какой у нее был голос! Жаль, тебе не послушать, как она поет. Хорошая песня тебе не повредит, скажу так, – добавила Мэй. А потом начала напевать мотив, похожий на церковный гимн, время от времени отхлебывая цикорий.
Будто вступая в музыкальное состязание с Мэй, Лу отставила свою фарфоровую чашку, звякнув ею о стол, и взяла в руки дульцимер – наверняка свой собственный. Его корпус покрывал тонкий слой патины – признак того, что на нем играли помногу, – а его контуры идеально обтекали колени Лу. Она без труда подобрала аккомпанемент к мотиву, который напевала ее бабушка. Проворные пальцы, от игры отвердевшие на кончиках, щипками и ударами извлекали из струн звуки в стремительном танце, за которым не могли угнаться тени.
А потом она запела сама.
Ее музыка была подобна саду. Звук рождался в деревянном инструменте, но вместе с тем – в ее сердце и душе, крови и плоти. В ответ на музыку моя собственная кровь заструилась по жилам с удвоенной скоростью – и я не могла этого объяснить. Здесь я была чужой, но горячий цикорий и нежное контральто Лу заставили меня забыть об этом.
Я чувствовала себя на своем месте.
И так получилось благодаря Саре. Тоска по мертвой подруге соединила меня с другими людьми, которые, как и я, любили ее.
Закончив петь, Лу отставила инструмент и взяла свою чашку столь будничным жестом, будто не она только что отыграла номер, способный навсегда изменить что-то в душе у слушателя.
– Вот так, – сказала Мэй. – В моей Таллуле живет музыка ее прабабушки. И еще как.
Лу отнеслась ко мне дружелюбно, но ее музыка проделала нечто большее. Звук пронизал меня насквозь, создав между нами двумя вибрации, которые не рассеялись даже тогда, когда песня была допета.
– Передай Бабуле благодарность за крем, Мэл, – еще раз улыбнувшись, попросила Лу. Волосы у нее тоже были заплетены в косы, но в отличие от прически бабушки, они ниспадали на плечи, словно дикие своенравные лозы: их украшали разноцветные бусинки, а кончики в несколько сантиметров свободно завивались в разные стороны наподобие ресниц. Она была красива, однако приходилось признать, что часть ее красоты открывалась мне в призрачном образе девочки из моих снов, который просвечивал через реальный облик. Теперь Лу, может, и повзрослела, но что-то мне подсказывало, что она и сейчас запросто могла бы запеть в любых обстоятельствах: хоть перед концом света, хоть на уроке арифметики. Так мне рассказывала Сара. Я практически наяву услышала ее голос с легким акцентом жителей гор, как у Лу. – Приходи еще. В любое время. Бабуля говорит, мы подружимся. Не вижу причин ей не верить.
Собственная ответная улыбка удивила меня. Я не выдавила ее через силу. В ней была искренность, а не притворство ради вежливости. Я улыбнулась из-за Лу. Такое моментальное чувство родства посещало меня до этого лишь однажды. Ценность момента заставила затаить дыхание и сдержать слова, которые пока слишком рано было произносить.
– Лу вот-вот сочинит новую песню. Я всегда это чувствую. На нее находит какое-то томление. Она ждет. Вслушивается. Я сказала, что тебе не повредит хорошая песня. Ошиблась. Ты сама принесла нам эту песню, – сказала Мэй.
У меня была единственная миссия – защищать Сару. Я с ней не справилась. И не могла никого ни на что вдохновить. Но почему-то после знакомства с Лу и ее музыкой мне уже не казалось, что Бабулина вера в меня лишена оснований. Я обрела новые силы. Окрепла. Песня Лу развеяла мою нерешительность.
Голос Лу и звуки ее дульцимера несли в себе добро. Мне это было ясно, поскольку в жизни я успела перевидать немало зла. И мои защитные инстинкты тут же забили тревогу. А что, если Бабуля права? Что, если убийство Мелоди не было кульминацией? Будет ли достаточно научиться готовить все отвары, настойки, масла и кремы из лечебника Россов? Не нужно ли мне сделать что-то еще? Сейчас. Сию секунду. Чтобы помочь. Вылечить. Уберечь.
Бабуля, лечебник, кошмары, а теперь и музыка Лу… Я не воспринимала магию гор всерьез. Диколесье хранило молчание и не выдавало мне своих секретов. Разве нет? Или, может быть, я приняла собственное нежелание слушать за его молчание? Мне вспомнились ровные ряды бутылочек, к которым я приклеивала этикетки. Жизни такой порядок несвойственен. В ней куда больше путаницы и смятения. Сара не заслужила погибнуть так рано. Путь врачевательницы был уготован ей с рождения. Но, выходит, кто-то решил оборвать эту жизнь? Намеренно лишить мир ее дарования? Люди вроде Бабули или Лу с Мэй заслуживали спокойной жизни. Но о каком мире и покое в Морган-Гэпе могла идти речь, когда где-то тут до сих пор жил душегуб, которому сошло с рук убийство матери и ее ребенка?
Глава шестая
Лу проводила меня до двери – не только потому, что магазин был частью дома, но и потому, что про долгие прощания можно было сказать как про ее музыку: «Это так по-аппалачски». Я провела в городке уже пару недель. И за это время множество раз наблюдала, как люди начинают прощаться на кухне, встав из-за стола, продолжают, неспешно проходя по коридору и через гостиную, а затем наступает неизбежное: они оказываются в открытом дверном проеме, где болтают еще немножко, пока кто-то не находит наконец в себе сил сказать решительное «до свидания». Мои прощания обычно были торопливыми. Я привыкла носиться из пункта А в пункт Б, не встречаясь ни с кем глазами и не сбавляя темп. Но с Лу было не так. Я обернулась, чтобы поблагодарить ее, но выговорить нужных слов не сумела. С лица девушки исчезла улыбка. Там, где она только что сияла, обнаружились неодобрительно сжатые челюсти и глаза цвета грозовой тучи. Плечи у меня напряглись. Недовольство Лу было направлено не на меня, и, повинуясь желанию защитить ее, моя спина напружинилась, словно натянутая тетива. Я немедленно развернулась лицом к источнику беспокойства Лу.
– Каждую среду, как по часам, он прогоняет их по улице. Лучше отойти от дороги, – сказала Лу. Привычная для нее внутренняя музыка слов исчезла. Голос стал монотонно-угрюмым – я его едва узнала.
Прямо по проезжей части Главной улицы, игнорируя автомобили и тот факт, что безлюдный тротуар куда больше подошел бы для пешего шествия, двигалась вереница женщин. Участницы этой сбивчивой и суетливой процессии были одеты в длинные, по щиколотку, голубые домотканые платья и полностью скрывавшие их волосы серые платки. Такой же наряд я видела в кошмаре. Платки были туго обмотаны вокруг шей и голов, открывая лишь бледные невыразительные лица, и от того, что одежды ничем не отличались, сами женщины тоже выглядели пугающе одинаково. Как при мурмурации скворцов или иглохвостых стрижей, их вроде бы хаотические движения странным образом складывались в единое действо.
Но не женщины стали причиной хмурости Лу.
Она буравила глазами высокого, одетого во все черное мужчину, который целеустремленно шел позади серо-голубой стаи. На нем был старомодный костюм и шляпа с плоскими полями – от его облика веяло похоронной серьезностью. Когда странная группа приблизилась к нам, я смогла получше рассмотреть его лицо. Такое же суровое и невзрачное, как и его наряд.
Только вот его острый взгляд был не так прост, как все остальное в нем.
Он следил за движениями женщин. Наблюдал то за одной, то за другой. От него не ускользал ни один жест. Ни одно подергивание пальцев. Ни один вздох. Ни один сбивчивый шажок. Ни один робкий взгляд на яркие витрины магазинов. Его глаза были столь же беспокойны, как движения его подопечных.
– Это преподобный Мун. – Слова Лу прозвучали не как представление, а как предостережение.
К моему горлу подступил комок. Птичьи движения женщин казались необъяснимо противоестественными, пока я не заглянула в глаза преподобного Муна. Его обсидиановые зрачки немилосердно пронзали каждую участницу шествия.
Прохожие расступались перед мрачным пастырем и его пугливым стадом. Машины включали «аварийку» и прижимались к обочине. Все, кто мог, разворачивались и уходили в другом направлении. Засмотревшегося ребенка мать за руку оттащила в парикмахерскую. Один мужчина надвинул на глаза козырек бейсболки и опустил взгляд на землю.
Мун вел женщин дальше по улице и, судя по жестам, не собирался давать «стаду» свободу. Им явно следовало держаться подальше от витрин магазинов. От музыки Лу и Мэй. От моей корзинки с травяными отварами.
Как и у сектантки из моего сна, возраст этих женщин не поддавался определению, но что-то в их гладких, блестящих на солнце лицах вызвало у меня в желудке спазм, как будто утренний тост попросился наружу.
Если другие люди на улице и чувствовали неправильность происходящего, то никак не пытались это прекратить. Я двинулась вперед. На шаг, а затем – еще на два. У Лу вырвался гортанный звук, будто ее застигли врасплох. Мои пальцы стиснули корзинку так, что костяшки побелели. Красные полосы шрамов проступили с обеих сторон ладоней. Я продолжала идти вперед, пока не оказалась перед вереницей женщин. Вставать у них на пути я вовсе и не собиралась – до тех пор, пока этого не сделала.
Я знала лишь, что нужно предпринять хоть что-то.
Ни одна из женщин не проронила ни слова. Они просто остановились и стали кружиться водоворотом выцветших и пахнувших солнцем одежд – наверняка эти платья и платки пережили уже тысячу сушек под его лучами. Стоя на краю тротуара, Лу окликала меня по имени, будто дорожная полоса – лава из детской игры и заходить туда по правилам было нельзя.
Тусклый хоровод пересек преподобный Мун. Ему не пришлось даже подымать рук или отдавать команды: вспугнутые птицы в один миг рассыпались по сторонам, избегая, как им и подобало, контакта с человеком.
Они инстинктивно сторонились пастыря с пронзительными глазами.
Мне и самой хотелось упорхнуть.
– Здесь никто не купит твоих дьявольских товаров, девочка. Беги прочь и свои мерзкие зелья не забудь, – сказал преподобный Мун.
Но я-то была птицей из другой стаи, поэтому не сдвинулась с места – несмотря на то что не могла объяснить, зачем вышла на дорогу. На женщинах не было ничего, что ограничивало их свободу передвижения. Многие даже шепотом повторяли слова Муна, и эхо, которое создавало это бормотание, производило такое же жутковатое впечатление, как и их инстинктивные движения. Черные зрачки преподобного сверлили меня, а в моих глазах в ответ горела сухая ярость.
Я не позволяла себе моргать.
Он идет.
Под гул медленно бьющегося сердца мое сознание соединило этого неприятно зоркого человека и угрозу, которую почувствовала мать Сары в моем вчерашнем сне. Платья и платки. Вот и все. И средь бела дня, прямо посреди улицы, в окружении всего этого стоял он. Мне он ничем не угрожал. Пока что…
Девочки, быстро в дом. И не оглядывайтесь.
Позвоночник сковало льдом. Дыхание едва пробивалось сквозь одеревеневшее горло и холодные, жесткие губы. Корзинка задрожала у меня в руках.
Но я не отступила в сторону.
Мои ноги будто пустили корни, которые пронзили асфальт и укрепились в земле.
Преподобный Мун сощурил темные глаза и, переведя внимание со своих подопечных на мое лицо, принялся изучать его от бровей до подбородка.
– Вы что, такси ловите? С этим здесь туго. Говорят, такси в Морган-Гэпе не видели со времен сухого закона. Вроде бы тогда какой-то нью-йоркский гангстер приехал сюда искать самогонщиков. Ламстоны этим промышляли – и сколотили прибыльный подпольный бизнес, который продержался аж до шестидесятых.
Это был голос Джейкоба Уокера. Я не вздрогнула. Даже когда его мозолистая ладонь легла на мои пальцы, стиснувшие корзинку. Но это меня и не успокоило. Успокаиваться я не хотела и не могла. Он как бы невзначай помог мне ослабить хватку, заговорил безмятежно и непринужденно, словно перед ним не грозил вспыхнуть конфликт. Одной рукой он забрал корзину, а другой направил меня в сторону открытой дверцы джипа, стоявшего у тротуара на холостом ходу.
На память пришел аккуратный жест в кафе, когда Уокер отодвигал табуреты, освобождая дорогу Бабуле. И то, как он резко переменился, приготовившись защищать нас от опасности в саду диколесья. Неужели я была похожа на оборванный стебелек лаванды? Неужели он протягивал руку затем, чтобы Мун меня не растоптал?
Мун смотрел, как Уокер сопроводил меня на пассажирское сиденье, но ничего не сказал.
– Дьявольские товары можете бросить назад, – предложил Уокер.
Вместо этого я оставила корзинку на коленях, а пока он садился в водительское кресло, к машине с моей стороны подошла Лу. Я повернулась и встретила ее тяжелый взгляд. Биолог пытался сгладить ситуацию, сгладить которую было невозможно.
Иногда тени, преследовавшие меня повсюду, играли со мной, но иногда они буквально кричали.
– Те женщины беременны, Лу. Все. Все до одной.
Впрочем, я могла и не говорить об этом. Она и так это знала. Все знали. Не мог же весь город упустить из виду в разной степени округлившиеся животы под платьями женщин. Женщин? Да некоторых из них даже называть так было еще рано. Но углубляться в нюансы не следовало. Как я обнаружила, у некоторых горожан мой поступок вызвал уважение. А у некоторых – страх.
– Дьявол не в твоей корзине, – ответила Лу. – Он открыто ходит мимо моей мастерской, когда в город наведываются сектанты.
Я взглянула на несколько пучков из трав, остававшихся в корзине после утренних доставок. Аромат розмарина и мяты щекотал мне ноздри. Глаза все еще были широко раскрыты и не моргали. Может, после такого они потрескаются, как земля после засухи. А может, я вообще не смогу теперь моргать. Стайка беременных женщин уже возобновила движение. Преподобный Мун вернулся на свое место в хвосте процессии. Что исповедовали и кому поклонялись в этой секте? Внезапно стало тяжело отказаться от мысли, будто меня отбросило в далекое прошлое. Сара не зря предупреждала, что женская свобода в нашем обществе – иллюзорна. Неужели она росла, осознавая, что с женщинами – и даже с совсем юными девочками – обращаются подобным образом?
– Что ты хотела сделать? – спросила Лу.
Мун еще посматривал в нашу сторону, но ни у кого из нас не хватило духу снова встретиться с ним глазами. По крайней мере, это касалось меня. Я вспомнила, как мать Сары стояла на поляне лицом к деревьям. Она отправила Лу и Сару в дом, но сама не сдвинулась с места. Она вглядывалась в диколесье и ждала того, кто оттуда появится. Была ли та беглянка из паствы преподобного Мура? Пытался ли он преследовать ее в тот день?
– Просто стоять там, – ответила я. – Мне нужно было встать у него на пути.
Лу наклонилась к окну и ненадолго дотронулась своим лбом до моего: так, в прикосновении кожи к коже, нашла выражение связь, которую я почувствовала ранее, и в этом жесте не было ничего покровительственного – только желание утешить. Потом Уокер нажал на газ, и джип тронулся.
Через пять минут, когда Уокер доехал до дома Бабули, меня всю трясло. Он припарковался на подъездной дорожке, окруженной густыми кустами мальвы с тяжелыми красными бутонами, а мне пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы они не стучали друг о друга, однако шуршание травяных пучков в корзине все равно выдавало меня. В момент столкновения с преподобным Муном уровень адреналина зашкаливал. А теперь он упал – из-за этого я одновременно чувствовала озноб и жар.
Получается, я только что встретила человека, который может быть причастен к убийству Мелоди Росс?
– Черт, – произнес Уокер. Он ударил ладонями по рулю, и от хлопка я дернулась. – Черт, – повторил он, но прежде, чем я успела спросить, что его рассердило, распахнул водительскую дверь, вышел из машины и обогнул ее спереди. Затем рывком открыл мою дверь, протянул руку и вытащил меня из салона. – Разомните ноги – тогда отпустит.
Он не дал мне возможности отказаться. Сунув корзину на заднее сиденье, я еле поспевала за быстрыми шагами мужчины. Он был лишь немного выше меня, однако ему удалось обогнуть кусты мальвы и отбуксировать меня во двор с поразительной скоростью.
Мне действительно полегчало, но не от прогулки, как предполагал Уокер. Просто передо мной возник новый вызов: с кучерявыми каштановыми волосами и проницательным взглядом, и у него не было права замечать мою слабость или советовать, как с ней справляться.
– Стоп, – сказала я. Этого оказалось недостаточно, и я вдобавок попыталась отдернуть руку. К его чести, он немедленно ослабил хватку и отпустил меня. – Все нормально. Правда. Попадались мне вещи и пострашнее безумных главарей секты.
– Вряд ли можно найти кого-то хуже Муна, но ваше лицо в какой-то момент так побелело, что я подумал: тут и до обморока недалеко, – ответил Уокер. Он остановился и взглянул меня, положив ладони на свои худощавые бедра. Сегодня на нем была желтая рубашка в клетку с подвернутыми рукавами, открывавшими мускулистые загорелые предплечья. Ткань цвета золотарника перекликалась с бликами в его волосах… и глазах. В них, казалось, жило солнце – в то время как мои, должно быть, заполняли тени.
Сделав такое маленькое, но столь личное открытие, я почувствовала, что все меньше злюсь на его высокомерное поведение. Нас разделяло такое ничтожное пространство, и при этом не ощущалось напряжения. Это было похоже на своего рода… возможность. Густой кустарник укрывал нас от остального мира. Уокер привел меня сюда, чтобы позволить прийти в себя в спокойной обстановке, или хотел побыть со мной наедине?
– Я не собиралась падать в обморок. Это все от ярости. В этом человеке есть что-то такое… – начала объяснять я.
– Секта – религиозная группа, которая откололась от движения меннонитов [5] лет пятьдесят назад. Сейчас Мун – их духовный лидер. Их община находится за пределами города, – перебил меня Уокер.
– «На другой стороне леса», – шепотом повторила я мысли из своего сна, в котором Сара столкнулась со сбежавшей сектанткой.
Итак, он решил сменить тему и провести для меня исторический экскурс, вместо того чтобы дальше обсуждать мою бледность. Он заметил, как я была подавлена. И его это обеспокоило. Обеспокоило достаточно, чтобы попытаться на это повлиять. А теперь он пошел на попятный. Из встревоженного друга снова превратился в умницу-биолога. Ну и хорошо. Я никогда не знала, как правильно реагировать на чужое беспокойство обо мне, и очень редко заводила друзей. Может быть, кусты мальвы и заслоняли нас от остального мира, но мой внутренний барьер ограждал меня еще надежнее. Как правило.
– Дайте угадаю. Образцовый гражданин. Уважаемый духовный наставник, – продолжила я. От воспоминаний о пронзительном взгляде Муна желудок снова скрутило.
– Для кого-то – да, – отозвался Уокер.
– Но не для вас, – снова предположила я. Было заметно, что он презирает преподобного Муна. Гримаса неприязни заставила его стиснуть челюсти, а от губ осталась едва заметная полоска. Это успокаивало сильнее, чем стремительная прогулка. Меня обрадовало, что он разделяет мои впечатления по поводу странного проповедника. Тут собеседник отступил от меня, будто близкая дистанция показалась ему неуместной. Это я тоже одобрила. Когда мы вдруг в чем-то согласились друг с другом, я еще сильнее ощутила потребность держаться подальше от солнечных бликов в его глазах.
– Для паствы его воля – закон. У сектантов он считается мессией, и его слова почитают как святые истины.
– И вы считаете, что нужно держаться от него подальше, – заключила я.
– Расспросите Бабулю, что она про него думает, – посоветовал он.
– Значит, ее впечатлениям я доверять могу, а ее отварам – нет? – спросила я, просунув руки в карманы джинсов, чтобы деть их куда-то, раз уж Уокер меня отпустил. Ну ладно, еще мне хотелось спрятать шрамы. Почувствовал ли он жесткие борозды от них, когда держал мою руку? Нет, во мне говорила не заносчивость, а осознание своей слабости. И это меня бесило.
– Я просил вас уехать. Вместо этого вы пошли в подмастерья к ведьме. Вы сама по себе такая безрассудная или она вас заколдовала? – спросил он в ответ.
– Думаю, лучше употреблять слово «знахарка», и в колдовство я не верю, – ответила я, вздернув подбородок и процеживая слова сквозь зубы – когда Сара видела меня такой, то готовилась к неприятностям.
Либо Уокер не замечал мой крутой нрав, либо тот его не смущал. Он шел мне навстречу, и не сделать ответный шаг я могла только с помощью подобного, как его ни назови – хоть крутого нрава, хоть иначе. Может, он и был ученым, но искру гнева, сверкнувшую в его зеленых глазах, как будто породило столкновение кремня и стали.
Этот человек меня не пугал. Напротив, притягивал. И это как раз пугало.
– Существуют вполне понятные причины, по которым не рекомендуется заниматься самолечением при помощи натуральных ингредиентов неизвестного происхождения и свойств.
Я медленно вынула руки из карманов, пораженная его внезапной серьезностью.
– Бабуля живет на этой горе по меньшей мере шестьдесят лет. Она вовсе не какая-то малопонятная личность из интернет-магазина с «ведьминскими штучками». У нее есть традиции. Рецепты. Собственный огород. Нас с ней все устраивает, мистер Уокер. Так из-за чего же вы волнуетесь на самом деле?
Может быть, ему не давал покоя его драгоценный женьшень или что-то еще, что ускользало от моего понимания? То, как он был настойчив, не вполне соответствовало степени нашего знакомства. Я еще даже не решила, хочу ли распутывать этот клубок, а пара метров перепутанных ниток уже прибавилась.
– Помогайте Бабуле, раз уж вам так хочется. Она избавит вас от любой хвори. Но держитесь подальше от Муна и не бродите по лесу. Вы даже не подозреваете, сколько опасностей таит местная флора и фауна. Не говоря уже об оторванности от мира. Тех, кто там заблудился, часто находили в весьма неприглядном состоянии: отравления, падения со скалы, черные медведи, рыси. Вы прошли через что-то подобное. – Тут он кивнул на мои израненные руки: – Я заметил, что…
Мое терпение кончилось. Пусть держит при себе свои предостерегающие намеки и зоркие наблюдения.
– Нет, не прошла. Прохожу непрерывно, – возразила я. – Обычно из-за привычки вставать между человеком и тем, что ему угрожает. А теперь извините, у меня есть работа.
И ушла, оставив его посреди залитых утренним светом мальв. Песня Лу заставила меня принять решение более серьезно относиться к занятиям с Бабулей. Беспокойство Уокера на это не повлияло. На самом деле его предупреждения заронили желание лучше узнать диколесье, по отношению к которому он вел себя так, словно разбирался в нем лучше всех. Да, оно было огромно и полно опасностей. Легко поверить, что некоторые из них смертельны. Тем не менее лесной сад тоже был его частью, а сад был неразрывно связан с Сарой.
Вернувшись за корзинкой к машине, я направилась в дом. Это было стратегическое отступление, а не бегство. Однако порадовало, что единственным свидетелем того, как я прислонилась спиной к входной двери, закрыв ее за собой, оказался толстый полосатый кот.
Глава седьмая
Горный октябрь поспешил окутать Сару, едва она вышла за порог. Солнце еще не рассеяло сумерки, нельзя было разглядеть меняющие цвет листья, но в воздухе чувствовался сыроватый запах, который они источали, умирая. И утренний холод был иным, чем в августе. К полудню солнце прогоняло морозец, но он упрямо возвращался, от раза к разу становясь все сильнее и давая понять, что вскоре задержится надолго. Сегодня она вышла на улицу в бледно-голубой толстовке, но через пару недель будет уже не обойтись без лилового клетчатого полупальто, которое ждало на крючке у лестницы.
Пришло время яблочного повидла.
По всему Морган-Гэпу люди вставали пораньше и собирали утварь: любимые ножи для чистки фруктов, фартуки, ящики со стеклянными банками, которые отмыли от прошлогоднего угощения, и совершенно новые упаковки крышек.
Мама Сары уже загрузила все необходимое в кузов старенького пикапа «шевроле», который она называла «Сью». Они собирались поехать в город, чтобы встретиться со всеми остальными на маленькой консервной фабрике на реке Тинкер-Крик.
Прихожанки баптистской церкви уже доставили туда самую главную утварь – старинный железный котел, отделанный кованой медью, – такой большой, что в нем можно было бы приготовить жаркое из целого слона, но предназначался он только для переспелых яблок, которые на прошлой неделе свозились со всех окрестных хозяйств. Кроме этого ежегодного вклада, баптисты пекли пирожки с ветчиной и выкладывали их горками на двух столиках для пикника: Сара вспомнила прошлогоднее маслянистое угощение, и у нее аж слюнки потекли.
Тяжелую дубовую лопатку для непрестанного помешивания, которое должно было продолжаться не менее суток, предоставили пресвитерианцы – мешалка была их гордостью. Каждый год они по очереди следили, чтобы обильно сдобренная специями яблочная масса не прикипала к стенкам, до тех пор пока она не обретет густую, шелковистую текстуру, которой славилось повидло из Морган-Гэпа. К моменту готовности оно становилось темно-коричневым, почти черным – говорили, что такого же цвета глаза у женщин Росс. И все знали, что эти глаза темнее полуночи, когда они смеются… или насылают проклятие.
Сара забралась в пикап. Мелоди Росс, садясь на водительское кресло и поворачивая ключ в замке зажигания, всегда приговаривала: «Сью знавала деньки и получше». Будто бы эта фраза была молитвой или заклинанием, которое позволило бы пыхтящему полувековому двигателю не заглохнуть после начала поездки.
Поскольку такой гарантии не было, девочка еще радостнее вслушивалась в дребезжание своего поеденного молью сиденья и вдыхала пропитанный пылью аромат сухой сирени: мама закрепила несколько веточек на зеркале заднего вида. Том всегда носил цветы Сариной маме, и, пусть даже она и сама выращивала достаточно разного, это все равно было приятно. Маленькие букетики тут и там непременно вызывали улыбку на мамином лице.
В разговорах Мелоди никак не касалась женщин из секты, которые все чаще приходили к их хижине летом. Или того, от кого убегала через чащу та, первая. Вечерами мама становилась все молчаливее, и это не походило на сосредоточенное молчание за работой на кухне или в кладовой с травами. То деятельное безмолвие Сара легко могла прервать, задав вопрос или предложив свою помощь.
А это, новое, – нет. Прошлой ночью мама свернулась калачиком на пузатом диванчике в их маленькой гостиной, спрятав ноги под любимым лоскутным одеялом, и попросила Сару принести оберег, вязаную мышку. Потом поднесла его близко ко рту, почти прижав к губам, так что наговариваемых слов было не разобрать.
Но воздух трепетал так же, как когда Мелоди Росс произносила могущественные и таинственные заклинания.
После этого она долго пила маленькими глотками валериановый чай, но даже вторая чашка, которую принесла дочь, не смогла разгладить морщины на ее лбу. Хмурая, предвещающая недоброе складка между бровями матери заставила Сару всю ночь крепко сжимать в ладони обновленный оберег, а утром положить Шарми в карман толстовки – на всякий случай.
Конечно, сейчас мысли у всех были заняты яблочным повидлом, но на горе явно назревало нечто куда менее приятное. Сара не могла понять что. Она могла только ощущать признаки этого на себе – перед каждым вдохом ее легкие словно стискивало. Кровь рода Росс, унаследованная от матери, заставляла волноваться, если назревало нечто плохое. Даже если нельзя было точно сказать, что именно.
Небо уже порозовело, когда Мелоди припарковала машину, уверенным рывком передвинув рычаг старой коробки передач. Приезжать в город на яблочный фестиваль было здорово. В этот день можно было не опасаться косых взглядов или перешептываний за спиной. Ведь множество самых разных людей собрались, чтобы исполнить почетную праздничную обязанность – перечистить и пустить на повидло сотни бушелей [6] яблок. Баптисты, пресвитериане, методисты, приверженцы епископальной церкви, даже люди из секты – все были заняты делом.
И почти в каждой из этих групп присутствовали знахарки.
Сара с матерью не ходили в церковь.
Почти каждое воскресенье Мелоди Росс повторяла: «Потолок нашего храма – небо».
И все же на время яблочного фестиваля все прегрешения прощались, так что, кроме травниц, среди собравшихся горожан можно было отыскать и других «вероотступников». Например, местного пьяницу Джека Уитакера, еще не успевшего принять на грудь, но с воспаленными, как обычно, глазами. К баптистской вере он явно не принадлежал, зато его матушка уже доставала из пластикового контейнера пирожки. При мыслях о соленой деревенской ветчине, зажатой между слоями хрустящего теста, в животе у Сары заурчало. Или вот Тиффани Бэнкс – таких высоких каблуков и ярко-красных губ девочка больше ни у кого не видела. Определенно не пресвитерианка, хотя отец Тиффани помогал мешать повидло.
Мама Сары повязала фартук на своей стройной талии, и Сара улыбнулась – ведь у фартука семьи Росс было куда больше карманов, чем у других. Из одного как раз торчала большущая деревянная ложка, а в остальных лежали кульки, мешочки и свертки, которые Мелоди будет раздавать другим женщинам в течение всего дня: снадобья унимали головную боль и судороги, отгоняли хандру и усталость, убирали сыпь, очищали кожу, помогали справиться с горем и спать крепко по ночам.
Фартук Сары уже становился ей мал, да и кармана в нем было всего два, зато в одном лежал ее собственный небольшой фруктовый ножик – чтобы помогать с чисткой яблок. Ножик принадлежал еще прабабушке Росс, и его маленькая костяная рукоять идеально ложилась в ладонь девочке.
Мама притянула ее к себе и крепко обняла – в кольце ее рук было тепло. Сара почувствовала, как мамина ладонь похлопывает по карману голубой толстовки, где была спрятана вязаная мышь, – будто для того, чтобы передать ей дополнительную силу.
– Съешь пирожок, пока не принялась за работу, – сказала мама, уткнувшись носом ей в волосы.
Дважды уговаривать не пришлось. Тем более девочка заметила свою подругу-баптистку Лу: та помогала своей больной матери сесть на стул у столика с пирожками – на место, которое окажется в тени высокого клена, когда взойдет яркое дневное солнце.
Сара направилась к толпе, завтракавшей за столами для пикника, но лучшая подруга увидела – а скорее всего, услышала, – как Сара приехала, и уже бежала навстречу с угощением, обернутым бумажной салфеткой.
– Сегодня придется поухаживать за мамой, так что чистить я не буду, – сказала Лу.
– А моя мама захватила к чаю печенье с черной патокой. Я тебе принесу, – ответила Сара, впившись зубами в масляный пирожок.
Потом Лу побежала обратно к матери, а Сара, дожевывая по пути завтрак, отправилась к павильону для пикника, в котором должны были собраться чистильщики.
Она никогда не слышала, чтобы кто-то указывал людям, где работать и что делать, но итогом фестиваля неизменно становилось повидло: его хватало, чтобы и церкви могли продать достаточно для сбора средств, и все семьи, причастные к его приготовлению, могли забрать домой по паре баночек в благодарность за труды.
Под навесом на длинных столах были расстелены клетчатые пластиковые скатерти, а скамьи уже заполнялись людьми. Свой путь к повидлу яблоки начинали в больших плетеных кадках. Оттуда они попадали в металлические тазы с ключевой водой, где отмокали, пока их не брали чистильщики. Кадки и тазы таскали подростки посильнее и постарше. А дети и пожилые люди орудовали ножами с блестящими лезвиями, специально заточенными накануне.
Сара доела последний кусочек, вытерла салфеткой пальцы от масла и спрятала ее в карман с ножом. Рядом стояли большие металлические урны, но они предназначались исключительно для очисток. Позже их отдавали фермерам – на корм свиньям. Сытая, она шла вдоль ближайшей скамьи, пока не нашла достаточно просторный промежуток, чтобы сесть. Пара смешков ей вслед все же раздалась, но в целом подростки были слишком заняты, чтобы подшучивать. К тому же большинство детей из ее школы уже отчаялись добиться от нее хоть какой-то реакции на подколки.
