Федеративные преобразования 1990-х годов. Образование и становление Республики Хакасия. Документально-монографическое исследование
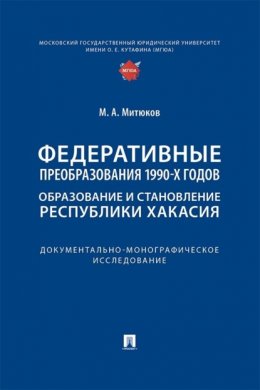
Автор:
Митюков М. А., заслуженный юрист РФ, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры конституционного и международного права Национального исследовательского Томского государственного университета.
Рецензенты:
Комарова В. В., доктор юридических наук, профессор;
Безруков А. В., доктор юридических наук, профессор;
Никитин А. Н., доктор исторических наук, доктор юридических наук, профессор.
© Митюков М. А., 2024
© ООО «Проспект», 2024
Условные сокращения
АВМ – Производственное объединение «Абаканвагонмаш»
АГПИ – Абаканский государственный педагогический институт
АО – акционерное общество
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АПР – Аграрная партия России
АСКО – Абаканское суконно-камвольное объединение
ВПК – Военно-промышленный комплекс
ВС – Верховный Совет
ВСНД и ВС РСФСР (РФ) – Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР (РФ)
ГАРХ – Государственный архив Республики Хакасия
ГКАП – Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур
ГКИ – Комитет Российской Федерации по управлению госимуществом
ГПУ – Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации
ГТРК – Государственная телерадиокомпания
ДВР – партия «Демократический выбор России»
ИЗиСП – Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
ИСПИ РАН – Институт социально-политических исследований Российской академии наук
ИЭ РАН – Институт экономики Российской академии наук
КГТУ – Красноярский государственный технический университет
«КК» – газета «Красноярский комсомолец»
«КР» – газета «Красноярский рабочий»
МАСС – Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»
МДГ – Межрегиональная депутатская группа
МП – Муниципальное предприятие
МСХ – Министерство сельского хозяйства
НАТО – Организация Североатлантического договора
НДР – Движение «Наш Дом – Россия»
НПГ – Независимый профсоюз горняков
НПСР – Народная партия Свободной России
ОБСЕ – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
ПВС – Президиум Верховного Совета
ПРЕС – Партия российского единства и согласия
РДДР – Российское движение демократических реформ
РФ – Российская Федерация
«РФ» – журнал «Российская Федерация»
РХ – Республика Хакасия
СИБНИИГИМ – Сибирский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации
СМ – Совет Министров
СМИ – средства массовой информации
СНГ – Содружество Независимых Государств
СПТУ – среднее профессионально-техническое училище
«СР» – «Советская Россия» (центральная республиканская газета)
«СХ» – «Советская Хакасия» (газета Хакасского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов)
ТПК – Территориально-производственный комплекс
«Тун» – Ассоциация хакасского народа «Возрождение»
«Ф» – газета «Федерация»
ФД – Федеративный договор
ХАКНИИЯЛИ – Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы, истории
ХАО – Хакасская автономная область
ХГУ – Хакасский государственный университет
ХРОД – Хакасское региональное отделение движения
ХССР – Хакасская Советская Социалистическая Республика
ХТИ – Хакасский технический институт
ЦИК – Центральная избирательная комиссия
«ЧР» – Городская массовая газета «Черногорский рабочий»
«ЮСВ» – «Южно-Сибирский вестник»
Предисловие
Отдельные изменения в федеративном устройстве России в начале 90-х гг. обычно связывают с проявлением сепаратистских тенденций в ее регионах[1]. Казалось, что этот фактор очевиден и лежит на поверхности социально-политических событий того времени[2]. Но он лишь следствие более глубоких титанических сдвигов и дезинтеграции общественно-политического и государственного устройства единого союзного многонационального государства – СССР, а как следствие, и его главного стержня – Российской Федерации, именуемой тогда РСФСР.
Вместе с тем нетрудно заметить, что такой конституционно-правовой инструментарий, как Федеративный договор, расширение субъектной основы Российской Федерации за счет административно-территориальных единиц и автономий, вывод автономных областей из краев и преобразование их в республики в составе Федерации, равенство всех ее субъектов перед федеральным центром, обеспечение соответствия регионального законодательства федеральному законодательству, позволил в последующие годы преодолеть процесс экономической, политической и социальной деградации государства и встать на путь его современного поступательного развития. Таким образом, вышеупомянутые новации в российском государственном устройстве в запомнившиеся многим «скандальным прошлым» 1990-е гг. сыграли и позитивную роль в укреплении государственности, потенциальный результат которой проявляется ныне.
Хронологически первыми моментами развития и совершенствования современного российского федерализма явились последовательно взаимосвязанные события начала 90-х гг.: вывод всех пяти автономных областей России[3] из состава краев и преобразование их (кроме Еврейской АО[4]) в республики[5]. В нашей литературе это названо «первым шагом» развития федеративных отношений в стране[6]. Автор предлагаемой вниманию читателей книги – из числа активных участников тех событий[7]. Поэтому может поведать не только о механизме «созревания» и реализации идеи повышения статуса автономных областей, но и о специфике и трудностях начального периода конституционного строительства в новых республиках, политической борьбе, связанной с принятием в них конституций. Естественно, что эти процессы освещаются главным образом на материале Хакасии, которую автор представлял в Верховном Совете России (1990–1993 гг.), а затем и в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва (1994–1995 гг.)[8]. В некоторых случаях в целях сравнительно-правового анализа и выявления региональной специфики использованы источники, касающиеся и иных республик, в том числе преобразованных из прежних автономных областей[9]. Тем более что повышение их статуса в Российской Федерации осуществлялось в сочетании комплексного (в отношении всех этих областей) и индивидуального (персонально в отношении каждой АО) правового регулирования.
Особенностью этой монографии является персонифицированный взгляд на историю конституционно-правового строительства в Хакасии. Иными словами, она рассматривается через дискуссии, проекты, мнения конкретных ученых, политиков, граждан, не обремененных должностями и особым положением, и события, участниками которых являлись эти персоналии, включая самого автора. Это, на наш взгляд, сближает работу в некоторых частях по жанру с исторической мемуаристикой, в то же время не лишая ее качеств научного труда с присущим ему определенным уровнем обобщения нормативного, документального и фактического материала.
Изображение исторической эпохи, событий словами, «глазами» реальных участников событий – задача данной работы. «Слово предоставляется» людям и позициям, о которых не так много известно (даже по меркам конкретного субъекта РФ, не говоря уже обо всей стране) или их взгляды уже искажены «мифами» последних десятилетий.
Детальный анализ и обобщение используемого материала в этой книге позволяют представить общую картину государственно-правовой истории Хакасии конца 80-х – первой половины 90-х гг. прошлого столетия, отразившую следующие важнейшие конституционные вопросы:
– влияние парадигмы прежнего, советского национально-государственного устройства на формирование идей повышения статуса автономий в составе Российской Федерации;
– роль демократического и национально-демократического движений, интеллигенции и местной бюрократии в выводе автономных областей из крупных административно-территориальных единиц – краев, а затем и преобразовании их в республики как субъекты Федерации;
– совершение этого преобразовательного процесса в рамках предпринятых попыток политической перестройки и демократизации общества;
– повышение статуса бывших автономных областей как сопутствующий элемент «реанимации», обновления федеративного устройства России;
– степень участия и влияния союзного (до 1991 г.), российского, краевого центров власти на преобразовательный процесс автономных областей и последующее становление новых республик;
– отношение населения Хакасии, отдельных ее политиков, а также простых жителей, к выходу автономной области из края и созданию республики и последствия этих шагов в первое десятилетие ее существования;
– многостадийность процесса преобразования автономных областей в республики – субъекты Российской Федерации, последовательно прошедшего этапы законодательного, договорного и конституционного закрепления на региональном и федеральном уровнях;
– особенности проявления в Хакасии процесса «суверенизации» начала 1990-х гг. в конституционно-правовом законодательстве и практике;
– характеристика проведенной в ней «вялотекущей» реформы органов государственной власти и местного самоуправления (1993–1997 гг.);
– анализ процесса подготовки и принятия проекта Конституции Республики Хакасия и ее последующей корректировки в первые годы действия;
– завершение создания основных институтов государственной власти и местного самоуправления в республике в соответствии с ее Конституцией;
– общий государственно-правовой облик Хакасии накануне XXI в.;
– выявление нормативных, исторических и юридических литературных, политологических и информационных источников исследуемого периода по проблематике образования и становления Республики Хакасия и формирование наиболее полной библиографии по этому вопросу.
Чтобы ответить на названные вопросы содержание монографии разделено на пять глав, посвященных, соответственно: 1) выходу Хакасской автономной области из Красноярского края; 2) преобразованию ее в республику в составе Российской Федерации; 3) политико-правовым дискуссиям вокруг подготовки, обсуждения и принятия Конституции РХ: 4) полемике в ходе корректировки и применения этой Конституции (вторая половина 1990-х гг.); 5) завершению десятилетнего цикла «обновления» политико-правового облика Хакасии.
В основу исследования, прежде всего, положены статьи и интервью, дневниковые, блокнотные и иные материалы автора, по времени относящиеся к описываемому периоду[10]. Иллюстративно они подкрепляются в определенной части документами, в том числе проектами политического и юридического свойства той эпохи, исходящие не только от органов государственной власти, но и общественных организаций и отдельных лиц – участников или наблюдателей конституционного процесса на федеральном либо региональном уровне. Часть этих материалов приведена в приложении к этой монографии.
Естественно, что многие события и их оценки в выступлениях, статьях, интервью и дневниковых записях, использованных в монографии, даны с позиции соответствующего времени. Они не всегда совпадают с их современной интерпретацией. Тем ценнее излагаемый здесь материал, так как он показывает и поиски, и заблуждения политиков первой половины 90-х гг.
Одним из важных источников, использованных при создании настоящей работы, явились научные труды не только в области государствоведения, но и истории, философии, политологии, социологии и других отраслей знания. Прежде всего, приняты во внимание исследования авторов советского периода (И. А. Азовкина, Д. Л. Златопольского, В. М. Иезуитова, И. Ильинского, А. И. Лепешкина, П. Г. Семенова)[11] по теоретическим проблемам федерализма и автономии вообще и автономных областей в частности. Затем обращено внимание на монографии и статьи современников описываемых нами событий и преобразований автономных областей в республики (Р. Г. Абдулатипова, С. А. Авакьяна, П. Н. Алексеева, Ю. М. Батурина, Д. Горенбурга, Л. М. Дробижевой, С. В. Кодана, О. Е. Кутафина, А. Н. Медушевского, И. А. Умновой, Б. А. Страшуна и др.). Особо следует упомянуть труды ученых Хакасии и других регионов, явившихся «первопроходцами» в объяснении и более глубоком исследовании этого конституционно-правового феномена начала 90-х гг., его исторических, политических, этнологических и юридических корней (Н. Я. Артамоновой, В. Я. Бутанаева, Д. Н. Гергилева, Г. В. Грошевой, В. И. Ивандаева, М. Т. Кабельковой, О. М. Карачаковой, А. Касимова, Ю. Б. Костюковой, Г. Г. Котожекова, Л. Р. Кызласова, И. Р. Кызласова, Е. П. Мамышевой, Н. Н. Медведевой, В. В. Наумкиной, Е. В. Реутова, А. В. Сабениной, М. Г. Степанова, В. М. Торосова, В. Н. Тугужековой, Е. В. Тышты, С. П. Ултургашева, А. П. Шекшеева и др.). Сюда по своему содержанию примыкают выступления и работы некоторых местных юристов-практиков (В. К. Гавриленко, А. И. Крутикова, В. И. Мартова, Н. И. Сайбаракова, А. С. Сунчугашева) и архивистов (Л. Кулугашевой, Т. Сушковой).
Большое значение для понимания специфики и особенностей государственного строительства в Хакасии и конституционного оформления ее статуса имеют использованные в монографии выступления, статьи, речи и интервью партийных и советских деятелей Красноярского края и Хакасии периода автономной области (В. А. Угужакова, О. С. Шенина, В. М. Соколова, В. Зубова, В. А. Новикова, Г. П. Казьмина, В. М. Торосова, Г. А. Трошкиной, А. Ф. Трошкина, М. И. Швалева, А. Ф. Шлапунова и др.[12]), руководителей Республики Хакасия 90-х гг. (В. Н. Штыгашева, Е. А. Смирнова, Алексея Лебедя, Ю. А. Шпигальских), народных депутатов СССР (Л. И. Батынской, В. И. Борковца, И. Н. Ботандаева, Р. И. Цыкало, Ю. С. Щапова и др.) и РСФСР (В. Н. Вознесенского, Н. Д. Огородникова, А. А. Симонова), представлявших тогда Хакасию. Не проигнорированы и аналогичные источники, исходящие от депутатов областного совета, а затем и Верховного Совета Хакасии всего политического спектра в этом представительном органе (В. А. Азовского, А. С. Асочакова, А. Н. Корчминского, А. Косовского, С. А. Кривошеева, С. А. Макова, С. И. Постригайло и многих других), республиканских министров (Р. Я. Гроша, Н. В. Николаева, В. И. Фролова), глав администрации и их заместителей, руководителей и депутатов советов городов и районов республики, особенно ее столицы – Абакана (Н. Г. Булакина, О. Е. Жуганова, В. В. Гордеева, Р. А. Кабанова, В. В. Кривошеева).
Исследования конституционно-правовых преобразований в далекой Хакасии в конце прошлого столетия были бы непонятны без привлечения и анализа материалов об общих социально-экономических и общественно-политических процессах в СССР и России в целом. В этом плане определенную роль сыграли некоторые идеи и положения политических деятелей того времени, упоминаемых в монографии в том или ином контексте (Б. Н. Ельцина, А. Д. Сахарова, Г. В. Старовойтовой, А. В. Власова, В. И. Воротникова, Г. Х. Попова, Р. И. Хасбулатова, В. В. Жириновского, С. М. Шахрая, О. Г. Румянцева и др.), депутатов Верховного Совета РСФСР (РФ), а затем – Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (Р. Г. Абдулатипова, С. Н. Бабурина, А. Д. Венгеровского, Б. А. Золотухина, В. Б. Исакова, О. И. Тиунова, В. Л. Шейниса, Ф. В. Шелова-Коведяева и др.).
Непосредственный интерес для познания политических и конституционно-правовых процессов в Хакасии представляют публикации и выступления лидеров и активистов региональных общественно-политических, особенно партийных организаций различного толка, существовавших тогда на ее территории (О. Е. Жуганова, А. Ф. Шлапунова, К. И. Егорова, А. Смертенюка, Б. А. Потылицина, А. Шпаковского, Ю. С. Щапова). А учитывая национальную специфику автономной области, а затем республики, в этом плане особенно важны идеи, взгляды, речи и проекты (в том числе о неосуществленных намерениях) руководителей национальных организаций и лиц, позиционирующих себя представителями национальной интеллигенции, предлагавших альтернативные подходы в вопросах конституционного и парламентского строительства, основанных на определенных преференциях национальному началу над демократическим строительством в субъекте Российской Федерации (В. И. Ивандаева, А. Костякова, Г. Г. Котожекова, А. Ф. Трошкина, Л. И. Аешиной и др.). Весьма выпуклы позиции по проблемам национальных отношений деятелей народного образования, науки и культуры (С. П. Ултургашева, М. Т. Кабельковой, Э. Ф. Коковой, Л. В. Анжигановой, В. Е. Майногашевой, А. П. Шекшеева, Е. Шоевой и др.).
Фиксации событий и отдельных фактов общественно-политического развития Хакасии, их первоначальной трактовке и интерпретации посвящены многочисленные газетные и журнальные статьи, отчеты, репортажи, очерки и зарисовки журналистов центральных, общесибирских, краевых (Красноярского края), хакасских республиканских и местных средств массовой информации. Хакасской государственно-правовой тематике в 90-е гг. отдавали свои страницы: «Известия» (А. Тарасов), «Независимая газета» (К. Катанян, Н. Пачегина), «Общая газета» (С. Митрохин), «Сегодня» (С. Федорченко), «Коммерсант-дейли» (М. Жуков), «Век» (А. Лебедь), «Федерация» (М. Чаптыков), «Подмосковные известия» (В. Раскин), «Красноярский рабочий (Ю. Н. Угольков), «Красноярский комсомолец» (Т. Кириченко, В. В. Гордеев, А. А. Костяков), «Свой голос» (Д. Юрьев), «Саянский меридиан» (А. Ш. Урман). Но более весомым источником для нашей работы явилась, конечно, республиканская и местная (городская и районная) печать Хакасии, которая повседневно относительно полно отражала внутренние события в регионе, помещала развернутые отчеты сессий Верховного Совета РХ, городских и районных советов, публиковала их материалы и нормативные акты, проекты наиболее важных республиканских законов. А главное, на страницах газет различной политической ориентации находили место материалы и документы народных обсуждений концепций реформ государственной власти и местного самоуправления, проектов будущей Конституции Хакасии, практически после каждого ее «чтения» в Верховном Совете.
Примечательно, что «провинциальные» журналисты всех мастей явились в республике, пожалуй, самым активным профессиональным отрядом, не только отражающим в СМИ ход государственно-политического строительства, но и активно участвующим в нем. Ряд из них одновременно стали депутатами Верховного Совета РХ (О. В. Ширковец, Л. В. Островская) либо городских и районных советов (А. К. Борисова); другие, возглавляя соответствующие СМИ, оказались на острие публичной политики (В. В. Березицкий, В. Г. Брюзгин, Г. А. Лебедев, В. М. Ольховик, В. И. Устяхин, С. А. Сипкин); третьи (А. Н. Анненко, С. Ежов, Т. Н. Кириченко, М. Логинова, Л. Полежаева, Б. В. Савченко и др.) неплохо освоили искусство политических или парламентских репортеров, выдавая не только психологически, но и юридически окрашенные сообщения с места обсуждения и принятия законопроектов, концепций, Конституции и т. п. Естественно, что этот «газетно-журнальный» материал не мог быть проигнорирован в нашем исследовании.
Документальность настоящей работы заключается не только в том, что исследование темы основано на дневниковых и публицистических материалах как автора, так и других участников исторических событий искомого хронологического периода, но и на представлении читателю ряда нормативных и проектных документов, в том числе и ранее не публикуемых, в приложении к этому изданию. Все сорок документов распределены по рубрикам:
а) об общественно-политическом и социально-экономическом положении Хакасии в 1990–1995 гг.;
б) о статусе Хакасии в составе РСФСР (РФ) и некоторых намерениях законодательного регулирования национальных организаций;
в) о реакции руководства Хакасии на проекты Конституции Российской Федерации и характере взаимодействия с федеральными властями;
г) о мерах реформирования представительных органов государственной власти и местного самоуправления в Хакасии;
д) о подготовке, обсуждении и принятии Конституции Республики Хакасия.
Совокупность вышеназванных источников и явилась основой концепции предлагаемой читателю книги. Вместе с тем ее нельзя считать трудом, завершающим исследование обозначенной проблемы, не только по содержанию и хронологическим рамкам, но и формально потому, что термин «становление» в заголовке работы означает нечто незавершенное, еще приходящее к «окончательной определенности»[13].
Глава I. О выходе Хакасской автономной области из Красноярского края
1. К предыстории вопроса
Как известно, во второй половине 20-х гг. прошлого столетия автономные республики и автономные области были включены в состав краевых и областных объединений РСФСР. Объяснялось это в основном необходимостью их экономической поддержки со стороны более мощных и крупных соседних административно-территориальных единиц. Но с принятием Конституции РСФСР 1937 г. автономные республики были включены непосредственно в Российскую Федерацию, минуя края, а автономные области, после некоторой дискуссии[14], оставлены в соответствующих краях, что «давало пищу» для неоднократного возвращения к этому вопросу, порой завершающемуся политическими репрессиями для его инициаторов[15].
В конце 50-х гг. ряд авторов высказался о выводе автономных областей из состава краев, ссылаясь на опыт тогдашней Тувинской автономной области, непосредственно состоящей в РСФСР с момента принятия Тувы в 1944 г. в состав СССР, а также на то, что задача экономической помощи краев автономным областям решена[16].
К этому моменту относятся и обращения представителей национальной интеллигенции по данному вопросу к партийному руководству. В частности, как свидетельствуют архивные документы, хакасский писатель Николай Доможаков в своем письме к Н. С. Хрущеву от 2 декабря 1958 г. заявлял: «…с автономными областями и национальными округами дело обстоит плохо. Краевая опека стала тормозить их развитие. Не пора ли автономные области и национальные округа включить непосредственно в состав республики, т. е. краевое подчинение заменить республиканским подчинением? Дать им равные права с другими административными областями. Вообще, в интересах равномерного развития всех районов страны края нужно бы упразднить, сделать областное административное деление. Руководство тогда будет более оперативным»[17]. Эти предложения в то время были признаны ошибочными[18]. Известный государствовед А. И. Лепешкин заявил, что «в целях комплексного развития хозяйства автономных областей, являющихся экономическими едиными с хозяйством всего края, необходимо сохранить впредь на продолжительное время нахождение автономных областей в составе краев»[19].
В начале 70-х гг. хакасский ученый-философ В. С. Анжиганов повторил поступок своего земляка и обратился с письмом к Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу и Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину, в котором обосновывал необходимость повышения государственно-правового статуса Хакасии, выведения ее из состава Красноярского края и преобразования в автономную советскую социалистическую республику. После рассмотрения в партийной инстанции обращения ученому также было указано на «несвоевременность этих реформ»[20].
Поэтому до принятия Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г. подобные идеи представляли научный интерес как один из возможных вариантов будущего совершенствования статуса автономных областей[21], который в этой связи и исследовался в ряде вузов, в том числе в Томском госуниверситете в отношении южносибирских автономных областей[22].
Но и после того, как названные конституции сохранили status-quo автономных областей[23], отдельные исследователи считали, что предложение о выводе автономных областей из краев «не следует выбрасывать из “банка правовых идей” как абсолютно бесперспективное. Его желательно сохранить “в резерве” для использования как одну из рабочих гипотез для дальнейшего совершенствования статуса автономных областей РСФСР»[24].
Принятие в 1981 г. в РСФСР законов об автономных областях[25] на какое-то время предопределило, что этот вопрос стал рассматриваться под углом совершенствования названных законов, а точнее, объема полномочий Советов народных депутатов АО, характера их взаимоотношений с органами власти РСФСР и соответствующих краев, пока не затрагивая, по существу, главного – состояния автономных областей в составе этих административно-территориальных единиц[26].
Характерно, что новый импульс оживлению проблемы повышения статуса автономных областей придала критика их взаимоотношений с краями именно с точки зрения несоблюдения и нарушения краями законов об автономных областях. В частности, в 1988 г. на январском пленуме Красноярского крайкома партии первый секретарь Хакасского партийного комитета Г. П. Казьмин высказался о неэффективности сложившейся системы управления в крае, дублировании и мелочной опеке в отношении автономной области и обмолвился о необходимости децентрализации управленческих функций и полной реализации Закона о Хакасской автономной области[27].
Все изложенное, несмотря на отдельные нюансы в соответствующих научных и практических предложениях, подтверждает мнение ряда ученых о том, что проблема повышения статуса автономных областей, в том числе и Хакасии, возникла задолго до 90-х гг. прошлого столетия, когда она была реализована[28]. И в этом плане инициаторами переосмысления правового положения автономных областей являлись ученые (юристы, философы и др.) и деятели литературы, а не региональные комитеты КПСС, как это обосновывает Е. В. Реутов[29]. И поэтому требуют корректировки выдвинутые им положения о стадиях движения за преобразование статуса Хакасии и этапах этого преобразования[30] как с точки зрения хронологических рамок, так и содержательного аспекта. В них, к сожалению, гиперболизирована роль областного комитета КПСС и его первого секретаря Г. П. Казьмина в названных преобразованиях, преувеличено значение в этом союзного центра, проигнорированы все нормативные усилия Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР на пути изменения статуса автономных областей. Наконец, не учтены результаты юридической науки на этом поприще, начиная хотя бы с 50-х гг., а также «подвижничество» ученых ряда автономных областей в своих попытках обосновать состоятельность этой идеи.
По этим же причинам нельзя согласиться и с новейшей «более детальной разбивкой» А. В. Сабениной и Д. Н. Гергилевым периодизации преобразования статуса ХАО на четыре хронологических этапа: конец 1987 г. – январь 1988 г., июнь-июль 1988 г., февраль-декабрь 1989 г., 1990 – январь 1992 г., связывая ее в основном с именами первых секретарей обкома КПСС Г. П. Казьмина и даже В. Ю. Абраменко, резолюцией XIX Всесоюзной партийной конференции, учреждением арбитража в Хакасии[31].
2. Превращение идеи выхода автономных областей из краев из предмета научных изысканий в объект политики
В годы перестройки эта идея в конституционно-правовом аспекте стала одной из ключевых не только в региональном, но и общегосударственном масштабе, однако не бесспорной. Вплоть до середины 90-х гг. (да и сейчас) в определенных кругах многими вывод автономных областей, в том числе и Хакасии, из состава краев и преобразование их в республики оценивается отрицательно[32]. Но в конце 80-х гг., еще до известных соседних «тувинских» событий[33], с требованием положительно решить эту проблему выступали не только национальные[34], но и демократические организации. Абаканский городской клуб избирателей «Гражданин» в Хакасии в обращении к гражданам «Какой нам нужен депутат» сформулировал, что в программе народного депутата должно быть закреплено, что он «за выход автономной области из состава края и преобразование в республику»[35]. Позднее и в моей предвыборной программе можно было прочитать: «Я за вывод Хакасской автономной области из Красноярского края в непосредственное подчинение высших органов государственной власти и управления РСФСР (в перспективе за преобразование ее в автономную республику, а вообще против градации национально-государственных образований на различные формы автономий и считаю, что все они должны быть республиками). Это создаст новые организационно-правовые условия для развития экономики и культуры Хакасии, самостоятельного решения проблем экологии, языка, народного образования и охраны исторического наследия»[36].
В 1988–1990 гг. эта тема набирает оборот и в политической жизни Хакасской автономной области[37], и в «маневрах» вокруг нее партийного (обкома КПСС) и советского руководства[38]. Работают над ней и местные юристы[39]. Здесь, как и в других автономных областях, «затяжка» с решением вопроса привела к смыканию с начавшимся в стране процессом суверенизации в союзных республиках и автономиях[40], и требование выхода из Красноярского края дополнилось лозунгом преобразования в республику.
В июле 1989 г. редактор газеты «Ленин чолы» Г. Г. Котожеков, выступая на круглом столе в Москве, в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, на секции «Совершенствование национально-государственного устройства: история и современность», среди ряда предложений высказал и такие, как: 1) вывести автономные области из краев в непосредственное подчинение РСФСР; 2) разработать критерии перехода из одной формы государственности в другую. Эти предложения были поддержаны и представителями Горно-Алтайской АО[41].
Семнадцатого августа 1989 г. в «Правде» публикуется проект платформы КПСС «Национальная политика партии в современных условиях». В нем было много интересных слов и положений о «расширении» и «повышении» статуса автономий. Но он страдал абстрактностью и неопределенностью. Естественно, это повлекло за собой оживленные дискуссии, в том числе и в автономиях. Уже 22 сентября 1989 г. решением XI сессии Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов двенадцатого созыва «О повышении правового статуса области» постановлено просить Верховный Совет РСФСР вывести Горно-Алтайскую автономную область из состава Алтайского края и перевести ее в непосредственное подчинение органам государственной власти и управления Российской Федерации[42].
Не осталась в стороне и Хакасия. Двадцать пятого августа в редакции национальной газеты «Ленин чолы» состоялся круглый стол с участием вузовской и научной интеллигенции, партийных и советских работников, где ряд ораторов на основе экономического и социально-культурного анализа существующей ситуации подвели слушателей к необходимости осмысления идеи самостоятельности автономной области и ее вывода из Красноярского края. Отмечалось, что «проект платформы указывает, что переход автономной области в непосредственное подчинение РСФСР должен решаться в соответствии с волей населения области при условии, что решение о переходе должно быть обоснованным. Такая оговорка таит многие минусы. Во-первых, она сводит к нулю право нации на самоопределение. Население выскажется за выход из края, но кому-то покажется, что это высказывание необоснованно. Во-вторых, кому дано определять эту обоснованность? Не исключено, что ее будет определять край. И в этом случае воля населения будет торпедирована. Исходя из этого, как писала местная газета, было предложено слова “должно быть обоснованно” из проекта платформы исключить. Дополнить этот абзац предложением: вопрос о выходе автономной области из края выносится Советом народных депутатов области на референдум населения области. По результатам референдума определяется вопрос о непосредственном подчинении автономной области органам государственной власти и управления Российской Федерации»[43]. Бывший председатель облисполкома В. А. Угужаков утверждал, что экономическое развитие позволяет Хакасии быть республикой. «Автономия нам не подходит, – сказал он, – открыто надо об этом заявить». Но М. И. Швалев (Абаканский ГК КПСС) поставил под сомнение эту идею, одновременно подчеркнув, что «автономная область должна иметь прав не меньше, чем административная область».
Заседание дискуссионного клуба в Доме политпроса (Абакан, 23 сентября 1989 г.) уже вполне естественно для того времени завершилось заявлениями о выходе автономной области из края, который не уделяет внимания языку и национальной культуре (В. П. Балахчин), и о том, что в самой области «у власти находятся неинтересные люди», которых один из лидеров демократов О. Е. Жуганов призвал переизбрать[44].
Для меня же было ясно одно, что изменение статуса Хакасии потребует целого комплекса конституционных мер (как на уровне СССР, так и РСФСР). Да и позиция края здесь не последняя. Необходима тактика постепенности. Программа-минимум: непосредственное вхождение автономной области в состав РСФСР… Замечу, объективно по этому сценарию и начал развиваться процесс преобразования автономных областей в республики. В 1989 г. мною был разработан «механизм изменения государственно-правового статуса Хакасии» в рамках осуществления названной программы. Первым шагом в его реализации предполагался вывод автономной области из края под непосредственную юрисдикцию РСФСР, предварительно выявив мнение населения по этому поводу. Естественно, что для этого планировался местный референдум. Задачей второго шага в этом механизме называлась разработка проекта нового Закона о Хакасской автономной области, закрепляющего ее статус самостоятельного субъекта Российской Федерации[45].
Партийные и советские органы придерживались выжидательной позиции. Г. П. Казьмин, первый секретарь Хакасского обкома КПСС, 6 октября выступил со статьей «Жить и работать в дружбе», написанной по следам завершившегося Пленума ЦК КПСС[46]. Сообщил, что ему «по понятным причинам» не удалось выступить при обсуждении платформы КПСС по национальным отношениям. Но из многословных суждений можно сделать вывод, что Казьмин считал, что еще не исчерпаны резервы для развития автономной области в рамках края. Он полагал, что сейчас главная задача – «наполнить реальным содержанием права национальных автономий», а «выход автономной области из состава края произойдет <…> на более высоком этапе нашего развития. Для этого нужна более мощная социально-экономическая база, и надо ее усиленно готовить».
Ответом на публикацию партийного лидера явилась статья и. о. завкафедрой философии АГПИ канд. философ. наук В. И. Ивандаева. Автор подметил «диалектические» зигзаги Г. П. Казьмина и М. И. Швалева, «которые вначале декларировали идеи подлинной автономии Хакасии, независимости ее как национально-государственного явления от Красноярского края – административно-территориальной единицы РСФСР, а теперь же в результате централистского краевого давления сверху и адаптированной к этому давлению экономической “экспертизы” посредством отбора, акцентирования, гиперболизации, символики и типизации разного рода статистических факторов смоделировали логическую конструкцию о нецелесообразности выхода Хакасии из-под диктата края!»[47].
Ценность этой статьи, несмотря на ее «мудреную» стилистику, на мой взгляд, в том, что философ тогда еще пытался раскрыть поставленную в заголовке тему с позиции общедемократического подхода, радикальных преобразований в стране и Хакасии, претворения реальной демократии – власти народа, равенства всех национальностей и сплоченности демократических сил. Завершая статью, В. И. Ивандаев писал: «…существуют принципиально разные системы отсчета в отношении путей и методов решения проблем Хакасии. Если обком партии за решение всей совокупности проблем Хакасии как национально-государственного образования в рамках прав административно-территориальной единицы РСФСР – Красноярского края, то ОДХ (Общественное движение Хакасии. – М. М.) за реализацию проблем Хакасии в масштабе ее национально-государственных конституционных прав. А это несопоставимо разные уровни решения социальных проблем на нашей земле». К сожалению, позднее идеи В. И. Ивандаева начинают приобретать несколько националистический характер. Он начинает упрекать «руководство, особенно русскоязычное», в том, что оно не прониклось идеей преобразования Хакасии в автономную республику, «недостаточно активно борется за нее»[48].
Очевидно, что уже в 1989 г. идея выхода автономной области из состава края из предмета научных изысканий превратилась в объект политики, ее стала осваивать и местная номенклатура. В. Н. Штыгашев на сессии Верховного Совета РСФСР говорил об этом как о более предпочтительном варианте даже по сравнению с преобразованием автономной области в автономную республику[49]. Другой представитель этой же когорты – И. И. Сукин – пишет о том, что возможность выхода Хакасии из состава края является «самым главным вопросом», и не согласен с обкомовским работником М. И. Швалевым, «что сама мысль о выходе области из края является реакционной»[50]. В это же время в печати стала высказываться идея о том, что в целях «действительного обеспечения прав коренного населения» необходимо в составе областного Совета создать палату, депутаты которой избирались бы только хакасским населением[51].
В конце октября 1989 г. появляется интервью заместителя председателя Верховного Совета РСФСР В. Н. Штыгашева с Н. Д. Огородниковым. Недавний зампред Красноярского крайисполкома, а до этого председатель Хакоблисполкома Владимир Николаевич Штыгашев уже позиционирует себя старшим научным сотрудником ХАКНИИЯЛИ. Он в перспективе не исключает возможности «подняться области на более высокую ступень <…> вплоть до образования автономной республики». Считает, что при этом увеличение аппарата не произойдет. Не возражал Огородникову о необходимости использовать референдум в качестве механизма выявления воли населения в решении этих проблем. Предложил заключить договор между Красноярским краем и Хакасией о сотрудничестве на пять-шесть лет[52].
В ходе обсуждения в 1989 г. проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) РСФСР» в автономных областях предлагалось увеличить их представительство в создаваемом Совете Национальностей Верховного Совета РСФСР по сравнению с представительством в этой палате автономных округов[53].
Девятнадцатого декабря Г. П. Казьмин, первый секретарь Хакасского обкома, констатировал на пленуме, что, по итогам общественного мнения, жители Хакасии однозначно высказались за повышение статуса автономной области по всем направлениям. Разногласия наметились в определении путей и сроков проведения в жизнь этих предложений. Часть жителей настаивает на выходе из края и преобразовании автономной области в автономную республику. Другие высказываются за выход из края и предоставление прав на уровне самостоятельной области, а с накоплением опыта самоуправления поставить вопрос о преобразовании в автономную республику[54]. Третьи – за расширение статуса области в составе края.
Что касается предлагаемых сроков и темпов проведения изменений в статусе области, то их, по мнению Казьмина, можно условно свести к двум вариантам. Первый: предлагается провести референдум и немедленно поставить вопрос о выводе Хакасии из состава края и преобразовании ее в автономную республику. Второй вариант предусматривает ряд последовательных мер. А именно: на основе новых Конституций СССР и РСФСР, которые сейчас готовятся, разработать проект Закона о Хакасской автономной области и изменить ее политико-правовой статус. Собкор «Красноярского рабочего» Ю. Угольков в заметках с этого пленума Хакасского обкома КПСС сообщил, что «бюро обкома партии разделяет второй вариант [изменений в статусе области] <…>, а именно на основе новых Конституций СССР и РСФСР, которые сейчас готовятся, разработать проект Закона о Хакасской автономной области и изменить ее политико-правовой статус»[55]. Этот план, на мой взгляд, «страдал» неопределенной пролонгацией существующего положения автономной области, а также неясностью перспективы.
Ректор АГПИ С. П. Ултургашев предложил не откладывать дело в долгий ящик, дать поручение депутатам областного Совета в порядке законодательной инициативы разработать проект Закона РСФСР о Хакасской автономной области, положение о референдуме населения о выходе Хакасии из состава Красноярского края. Он не согласился с предложением связать разработку этих документов с принятием новых Конституций СССР и РСФСР. Но председатель Боградского райсовета А. Х. Итекбаев, как бы подчеркивая иной подход к данному вопросу, считал, что решать национальные проблемы надо не только с ориентировкой на коренное население, а и с учетом интересов всех национальностей, народностей, этнических групп, проживающих в автономной области[56]. По мнению Е. В. Реутова, к середине 1989 г. существовало и движение против выхода автономных областей из краев. Правда, об этом он судил пока по отдельным письмам и публикациям в местной печати о том, что выход повлечет «рост министерств и ведомств» и «бюрократического аппарата»[57].
Партийное же и советское руководство автономной области в течение 1988–1989 гг. неоднократно «модернизировало» либо меняло свою позицию по вопросу повышения ее статуса. Разительным примером в этом плане являлся вариант развития области, одобренный 1 декабря 1989 г. на заседании исполкома Совета народных депутатов ХАО. Он высказался за предоставление области полной экономической самостоятельности, сохранив ее временно в составе Красноярского края[58].
3. Реакция Союзного центра на проблемы автономных областей
Как известно, в период существования СССР статус автономных областей, прежде всего, определялся союзной Конституцией (ст. 86), а затем уже детализировался в конституциях союзных республик, имевших в своем составе такие области (РСФСР, Азербайджан, Грузия, Таджикистан). И главное конституционно-правовое отличие российских автономных областей было в том, что они включались в состав краев, что предопределялось административно-территориальным устройством РСФСР, в том числе историческими и экономическими особенностями ее развития.
Естественно, что в конце 80-х гг., когда вопрос о правовом положении автономных областей РСФСР стал переходить в практическую плоскость, у руководства этих областей и некоторых общественных движений теплилась надежда на поддержку партийного и государственного руководства СССР и его новых органов государственной власти, избранных в соответствии с изменениями 1988 г. в союзной Конституции. Однако этого не произошло.
В это время в связи с началом функционирования Съезда народных депутатов СССР выдвигаются и предложения к проекту новой союзной Конституции, в том числе и в отношении статуса автономных областей. В прежней еще конституционной парадигме, понимая, что статус автономной области не в последнюю очередь зависит от того, как его основы определены в общесоюзной Конституции, предлагалось ее, как выражались в терминологии того времени, подчинить непосредственно органам РСФСР[59]. В таком ракурсе ставился вопрос в записках руководства Горно-Алтайской автономной области о выводе ее из состава Алтайского края, направленных в Совет Национальностей Верховного Совета СССР и его постоянную комиссию по национальной политике и межнациональным отношениям[60].
Народный депутат СССР И. Н. Ботандаев (Хакасия) тогда сообщал своим избирателям, что в Верховном Совете СССР «о развитии автономных образований споры идут жаркие, но пока, что называется, в кулуарах… Мне видится, – говорил он, – выход автономной области из состава края на первом этапе. Только потом, наверное, можно и надо думать о создании Хакасской автономной республики»[61]. Другой союзный депутат, Л. И. Батынская (гл. ред. «Красноярского комсомольца»), также информировала участников круглого стола в Абакане о болезненной реакции Президиума Верховного Совета СССР, Азербайджана и Грузии на позицию автономий. По ее мнению, по этому вопросу нужен референдум[62].
Не получило тогда реализации и предложение хакасского областного руководства о внесении поправки в ст. 86 Конституции СССР об исключении из Положения о том, что автономная область входит в состав союзной республики или края, последних двух слов. Это предложение было передано М. С. Горбачеву во время встречи с ним в Хакасском обкоме партии[63]. Аналогичная судьба постигла обращение от имени населения Хакасии ко II Съезду народных депутатов СССР по поводу негативного влияния существовавшего статуса автономной области на ее национальное развитие[64].
На самом же съезде народным депутатам СССР от автономных областей выступить не удалось. Но в его стенографических отчетах опубликованы тексты несостоявшихся речей первых секретарей Адыгейского и Хакасского обкомов партии А. А. Джиримова и Г. П. Казьмина по вопросу, связанному с обсуждением доклада председателя Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова «О мерах по оздоровлению советской экономики». Хотя и тексты областных партийных лидеров были подготовлены на тему этого доклада, в них содержались и отдельные «пассажи», касающиеся правового статуса автономных областей. Джаримов реагировал на ту часть доклада, где говорилось о выделении автономных образований, в том числе и автономных областей, как объектов самостоятельного планирования: их план социально-экономического развития и бюджет выделялись отдельной строкой. «Это мы рассматриваем, – писал он, – как первый шаг в повышении роли и правового статуса автономных областей»[65]. Казьмин в качестве последнего тезиса в своем тексте изложил: «Отдельно надо продумать и решить вопрос о выработке механизма повышения правового, политического и экономического статуса автономных областей. В частности, представляя интересы избирателей Хакасской автономной области, просил бы ускорить законотворческую работу по подготовке новых проектов законов об автономных областях и о пересмотре критериев и сроков повышения статуса автономных национально-государственных образований с тем, чтобы в новых правовых актах закрепить политическую линию, намеченную сентябрьским (1989 г.) Пленумом ЦК КПСС по национальному вопросу… Новый закон о национально-государственных образованиях, в том числе и об автономных областях, должен содержать в себе правовые нормы, дающие возможность повышать статус автоматически, по мере формирования достаточного уровня экономического развития»[66].
Таким образом, к концу 1989 г. руководители областных комитетов партии весьма осторожно и дипломатично излагают Союзному центру идею повышения статуса автономных областей, не упоминая о желании выйти из состава краев, отталкиваясь от необходимости совершенствования законов об автономиях. Но, видимо, под влиянием местной политической конъюнктуры, нарождающаяся идея преобразования автономных областей в республики все-таки подается, но в закамуфлированной форме пересмотра критериев повышения статуса автономных образований. Партийное же руководство краев в это время, не отрицая открыто правомерность постановки вопроса о выходе автономных областей, призывало к необходимости «осторожного подхода» к нему с точки зрения экономической[67].
Тематика автономных областей (их нередко обозначали термином «другие автономии» в противовес автономным республикам) если и обсуждалась на съездах народных депутатов СССР, то эпизодически и чаще всего попутно, мимоходом, с рассмотрением отдельных вопросов повестки дня. Например, при определении состава Комитета конституционного надзора СССР. Причем обычно с отрицательным результатом для этих автономий, с отсылками на то, что включение их представителей в соответствующий орган «сделает его неуправляемым», либо на то, что вопрос может быть решен на уровне союзной республики[68].
4. Влияние взглядов академика А. Д. Сахарова на идеи выхода автономных областей из краев и преобразования их в республики
На конференции демократических движений и организаций страны, проведенной 16–18 сентября 1989 г. в Ленинграде, народный депутат СССР Г. В. Старовойтова сообщила о проекте платформы по национальному вопросу, разработанном ею и академиком А. Д. Сахаровым с привлечением этнографа Н. В. Юхневой[69]. Этим проектом отдавался приоритет праву наций на самоопределение, и оно ставилось «даже выше идеи государственного суверенитета». Предлагалось отказаться от четырехступенчатой национальной иерархической структуры нашего государства и «оставить единственный тип национально-государственного образования в нашей стране – союзную республику, независимо от ее территории, независимо от численности ее населения, независимо от наличия внешней границы». Должен быть заключен новый Союзный договор и обеспечено равное представительство от всех республик в федеральных органах власти и т. д. Эту идею народный депутат СССР Г. В. Старовойтова повторила в следующем году на I Съезде народных депутатов России, дополнив ее положением «о необходимости разного типа субъектов в Российской Федерации… это должны быть все автономии разных рангов, а также крупные регионы, крупные области России»[70].
Информация о вышеназванной конференции уже в конце сентября – начале октября 1989 г. была известна и в автономных областях. Двадцать второго октября «Советская Хакасия» опубликовала диалог заместителя редактора Н. Д. Огородникова с членом Верховного Совета СССР Л. И. Батынской. Собеседники затронули и тему автономий. Людмила Ивановна сообщила, что народные депутаты СССР в своем обращении, переданном М. С. Горбачеву, высказались о спорности «тезиса о незыблемости существующей структуры национально-государственного устройства СССР», противоречащего равноправию советских народов. «Мы убеждены, – заявили они, – что дальнейшее политическое неравенство в виде существующей четырехступенчатой иерархии нашей федерации (союзные и автономные республики, автономные области и округа) будет служить постоянным источником конфликтов на национальной почве»[71]. Надо заметить, что предложения об уравнивании в правах союзных и автономных республик, а также автономных областей и автономных округов высказывались и в ходе всенародного обсуждения проекта Закона СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона СССР)» (1988–1989 гг.)[72].
Под влиянием этой концепции намечается широкий подход к понятию «субъект Федерации». Это, прежде всего, проявляется в проекте Закона СССР «Об обновлении Союзного договора и разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации», обсуждение которого в газетах происходило в первой половине апреля 1990 г.[73] А на последовавшем I Съезде народных депутатов РСФСР данный аспект вылился в требования отдельных депутатов от автономных республик (М. Г. Сабиров, А. Х. Галазов, М. Е. Николаев и др.) о повышении их статуса до союзной республики. А депутат от Хакасской автономной области Н. Д. Огородников 13 июня 1990 г. на первом заседании Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР повторил известное сахаровское: «Нынешнее четырехступенчатое деление Федерации – республика, автономная республика, автономная область или округ – порождает неравенство между народами»[74].
Вообще, и в автономных областях, и автономных округах многие доброжелательно поддерживали сахаровскую концепцию устранения многовидости автономии и установления лишь одной формы – автономная республика (либо просто республика). Хотя следует отметить, что у значительной части интеллектуальной элиты России в начале 90-х гг. существовала и иная точка зрения на национально-государственное устройство России, право наций на самоопределение в различных формах государственности рассматривалось как «препятствие» для трансформации российского общества[75].
5. Идея непосредственного вхождения автономных областей в Российскую Федерацию в избирательной кампании 1990 г.
В избирательной кампании 1988 г. по выборам народных депутатов СССР проблема повышения статуса автономных областей РСФСР не являлась актуальной. В программах кандидатов в народные депутаты СССР она не звучала, в том числе и в Хакасии. В какой-то мере она упоминалась лишь на некоторых партийных форумах.
В последующей избирательной кампании в союзных республиках отношение к этой проблеме изменилось. Это очевидно на примере ХАО. Кандидаты в народные депутаты РСФСР от избирательных округов на территории Хакасии в этой предвыборной кампании выступают, как правило, с обещаниями позаботиться о ее становлении как автономии «в подлинном смысле слова» (Н. Д. Огородников)[76], «о повышении статуса автономной области» (В. М. Торосов) и т. п.[77] «Хакасская автономная область выросла из своих одежд, – комментировал я свою предвыборную программу, – и дальнейшему эффективному экономическому и социально-культурному развитию ее в большей мере соответствовал бы статус автономной республики. Первым шагом к которой мог бы стать выход из края (хотя с точки зрения действующей конституции и практики можно было бы и избежать этого промежуточного варианта)»[78].
Как свидетельствуют результаты выборов народных депутатов РСФСР в автономных областях, победили те кандидаты, которые поддержали идею преобразования их статуса.
6. На I Съезде народных депутатов России относительно статуса автономных областей
Проблема автономных областей на этом съезде «всплывала» неоднократно. Уже на третий день его работы в докладе Председателя Совета Министров РСФСР А. В. Власова о социальном и экономическом положении России отмечалось, что на основе союзного законодательства «предстоит также резко расширить права автономных областей и округов, придать им статус субъектов РСФСР»[79]. Отвечая на вопросы депутатов, он специально подчеркнул необходимость «выравнивания положений автономных образований», выделяя в числе их Хакасию, а также пообещал поддержать и рассмотреть «предложения от ряда автономных областей о преобразовании их в автономные республики, а национальных округов – в автономные области»[80].
На другой день в прениях по названному докладу народные депутаты РСФСР, руководители Горно-Алтайской и Еврейской автономных областей В. И. Чаптынов и М. М. Кауфман обнародовали свое предложение, юридическая суть которого сводилась к тому, чтобы ст. 82 Конституции РСФСР изложить в новой редакции: «Автономная область входит в состав РСФСР на основе свободного самоопределения народа». Это обосновывалось тем, что вывод автономных областей из соответствующих краев обеспечит им «политическое, юридическое, экономическое, да и нравственное равноправие со всеми народами России»[81].
Выступая 25 мая в качестве кандидата на пост Председателя Верховного Совета РСФСР, Б. Н. Ельцин уделил первостепенное внимание конституционным реформам. Они, по его мнению, должны охватить принятие не только Декларации, но и Закона о суверенитете России в составе обновленного Союза, Закона о национально-государственном устройстве и подготовку Федеративного договора, регулирующего отношения внутри Федерации. Среди первоочередных законов он назвал, в частности, законы о суверенитете автономий[82]. Это, естественно, взбодрило представителей автономных областей, поскольку претендент на высший пост в России говорил обо всех автономных образованиях в целом, не выделяя их виды.
Другие кандидаты на пост Председателя Верховного Совета РСФСР относительно статуса автономных областей были весьма осторожны. Так, А. В. Власов на вопрос: «Не наступила ли пора преобразовать автономные области в автономные республики?» ответил уклончиво, мол, надо при Президиуме создать Совет Федерации автономных образований, чтобы решить эти вопросы. Считает, что отношения с автономными образованиями надо строить на основе договоров[83].
Зондирование насчет отношения к совершенствованию статуса автономных областей было продолжено и в ходе избрания заместителей Председателя Верховного Совета РСФСР. На мой письменный вопрос: «Как Вы видите пути совершенствования статуса автономных областей и республик?» один из кандидатов – С. М. Шахрай[84] – ответил, что ему кажется, «автономные области должны выйти на прямое подчинение республиканским структурам, не теряя сложившихся экономических контактов с краями, в которые они входят…»[85]
На съезде проявилось противоречие между автономиями и не автономиями. Особенно жаркие баталии разгорелись вокруг ст. 9 Декларации о суверенитете РСФСР, в проекте которой по требованию представителей автономных образований закладывалось демократическое решение вопроса о повышении статуса автономий. Однако это не было воспринято основной массой народных депутатов, которые весьма демократично мыслили о повышении суверенитета РСФСР, но не смогли таким же образом думать о расширении статуса автономий[86]. Комиссия по подготовке Декларации, как заявил ее председатель О. И. Тиунов, «конкретикой не занимается»[87].
По предложению Б. Н. Ельцина ст. 9 была проголосована в формулировке: «Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей, автономных краев, равно как и краев и областей РСФСР, что конкретно должно определяться законами РСФСР». Это предложение принято конституционным большинством (за – семьсот восемьдесят из девятисот присутствующих)[88]. Оно, как признают современные отдельные исследователи, несмотря на свою абстрактность, придало движению автономий за изменение статуса необратимый характер[89].
Шестнадцатого июня депутация Хакасской АО передала в секретариат Съезда подготовленные мною предложения по проекту Закона РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР». Эти предложения подписали все народные депутаты от Хакасии (В. Н. Вознесенский, М. А. Митюков, Н. Д. Огородников, А. А. Симонов, В. Н. Штыгашев). В них предлагались поправки, вытекающие из Декларации о государственном суверенитете РСФСР, Закона СССР от 26 апреля 1990 г. и другие, направленные на совершенствование статуса автономных образований[90].
Выступая на I Съезде народных депутатов РСФСР, я заявил о необходимости исключения из действовавшей тогда Конституции 1978 г. указания о вхождении автономных областей в состав краев[91]. К этой теме по мере продолжения Съезда постепенно изменялся подход и в политическом руководстве страны в целом, и в РСФСР. Так, на вопрос Председателю Совета Министров РСФСР о выходе автономных областей из краев в непосредственное подчинение РСФСР А. В. Власов на этот раз (а это было уже повторное обращение) ответил, что к этой идее он относится положительно[92].
Но на местах, особенно в краевых центрах, партийные и советские органы идею выхода автономных областей из краев встретили прохладно, а в некоторых случаях «в штыки»[93]. В частности, председатель Карачаево-Черкесского облисполкома В. И. Хубиев 12 июля 1990 г., на заседании рабочей группы Конституционной комиссии, «взволнованно рассказывал о препятствиях, которое чинит руководство Ставропольского края идее о прямом подчинении Карачаево-Черкесской АО центру, минуя край»[94].
По-иному понимали повышение статуса автономных областей и некоторые ученые-юристы университетов, базирующихся в краевых (областных) центрах. Ученые Красноярского госуниверситета В. Ардашкин и Т. Сахнова, например, считая необходимым повысить статус автономий, полагали предоставить автономным областям и округам лишь право законодательной инициативы и представительства не только в Верховных Советах СССР и РСФСР, но и в краевых (областных) советах[95].
Среди относительно позитивных мер взаимоотношения Красноярского края и Хакасской автономной области в тот период можно назвать лишь проект регионального хозрасчета «Основные принципы расширения экономической самостоятельности Красноярского края», в котором предусматривалось, что краевой Совет обязан обеспечивать автономные права Хакасской автономной области на свободное развитие национальной культуры и языка, традиционных видов трудовой деятельности. Инструментом осуществления национальной политики предполагались целевые фонды национального развития за счет средств союзного, республиканского, местного бюджетов, общественных организаций, пожертвований предприятий и отдельных граждан[96].
Реакцией центра на нарастающие устремления Хакасии выйти из Красноярского края было и постановление Совета Министров РСФСР «О первоочередных мерах по переводу Хакасской автономной области на новые условия хозяйствования на основе самоуправления и самофинансирования», объявленное в начале января 1990 г. в Абакане. Естественно и то, что «аллилуйю» пропели сему решению секретари обкома и заместители председателя облисполкома В. Ю. Абраменко, Н. И. Кобыляцкий, В. М. Торосов, Е. Ф. Филатова.
По исследуемому сюжету вспоминаю пример из личной политической практики: принимая правила «ограничительного» понимания повышения статуса автономной области, я в качестве народного депутата Красноярского краевого Совета на первой его организационной сессии в апреле 1990 г. от имени хакасской депутации предложил избрать одного из заместителей председателя этого Совета от автономной области и на паритетных началах сформировать постоянные комиссии, исполнительный комитет. Такое предложение было отвергнуто по инициативе тогдашнего председателя Красноярского Совета, первого секретаря крайкома КПСС О. С. Шенина, избранного через некоторое время членом Политбюро и секретарем ЦК КПСС[97].
А постановлением Президиума Красноярского краевого Совета уже от 31 сентября 1990 г. предусматривалось, что районы и города, которые не пожелают быть в Хакасской автономной области, решившей выйти из края, могут остаться в нем. Это было не что иное, как призыв к переделу территории автономной области[98]. Надо заметить, что и новый первый секретарь Красноярского крайкома КПСС Г. П. Казьмин (бывший руководитель хакасских коммунистов) стал придерживался мнения, что «…ни Хакасская автономная область, ни один из национальных округов не смогут, пользуясь лишь своими возможностями, не получая дотации из центра, динамично развиваться»[99].
7. Автономная область – субъект Российской Федерации?
До 1990 г. в советском государствоведении господствующим было положение, что субъектами Российской Федерации являются только автономные республики. В отношении же автономных областей и автономных округов такое утверждение признавалось дискуссионным[100]. Но следует напомнить, что еще нарком юстиции Д. И. Курский в дебатах, связанных с подготовкой проекта Конституции РСФСР 1925 г., разъяснял: «Если исходить из понятия Федерации как государства, объединяющего отдельные части и являющегося государственным образованием, то следует принять, что не только автономные республики, но и автономные области являются членами Федерации»[101]. В позднесоветское время предложение о воплощении в законодательстве государственно-правовой идеи о том, что автономные области, как и автономные республики, являются субъектами Российской Федерации, можно встретить в письме исполкома облсовета Хакасской АО от 19 апреля 1977 г. в отдел по вопросам работы Советов Президиума Верховного Совета РСФСР[102].
На I Съезде народных депутатов РСФСР уже многими воспринималось, что все автономии – субъекты Российской Федерации[103], и акцент дискуссии переносился на то, являются ли ими составляющие большую часть территории России административно-территориальные единицы – края и области[104]. Это смещение акцента также объективно способствовало последующему конституционному оформлению вывода автономных областей из краев с непосредственным включением в состав Российской Федерации.
Затем идея вывода автономных областей из краев звучит на разного рода ведомственных мероприятиях. Так, 11 июля на рабочем совещании по выработке концепции национально-государственного устройства РСФСР с участием членов Конституционной комиссии и комиссий Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР, ученых в области национальных отношений д-р филос. наук И. В. Кормушин высказывается о необходимости «сломать подчинение автономий краям». В этот же день на втором заседании рабочей группы и группы экспертов Конституционной комиссии проф. Б. А. Страшун отметил, что самый трудный вопрос для Конституции – о национально-государственном устройстве. В качестве выхода из этой «трудности» могут быть использованы: Федеративный договор, образование территориальных республик, отказ от подчинений автономий краям (областям) и перевод их непосредственно под Федерацию[105].
8. «Увязка» статуса автономных областей с идеями Федеративного договора и Союзного договора
С середины 1990 г. статус автономных областей затрагивается и в контексте начавшейся работы над проектом Федеративного договора, который, по мнению части народных депутатов, должен был учесть новую реальность в национально-государственном устройстве России. А она заключалась к тому времени в том, что ряд автономных республик объявили себя суверенными (а это требовало глубокого переосмысления их статуса не только в составе РСФСР, но и Союза ССР), значительное число автономных областей и округов декларировали о повышении статуса[106], а затем и преобразовании в автономные республики. Тогда я разделял мнение, что автономные области и округа, по существу, были обыкновенными административно-территориальными единицами, занимающими промежуточное положение между краем (областью) и районом[107], что в публицистике и политологии уничижительно называлось «провинцией провинции»[108]. Поэтому проблема совершенствования их статуса многие годы сводилась к совершенствованию взаимоотношений с краем и областью[109].
В связи с этим в «Тезисах по поводу Федеративного договора» (16 августа 1990 г.) я писал: «Опыт предыдущего национально-государственного строительства, как бы мы критически ни относились к нему, не может быть отброшен. Поэтому четко, недвусмысленно должно быть заявлено, что участниками Федеративного договора могут быть все нынешние автономные республики, автономные области и округа (причем в новом статусном положении с учетом происшедших преобразований). В Федеративном договоре сможет быть, в принципе, и решен вопрос, что национально-территориальные субъекты РСФСР могут иметь одну форму (республика, входящая в РСФСР) либо две (договорная республика и автономная республика). В обоих названных случаях предусмотреть преобразование автономных областей и округов в автономные республики (либо в договорную республику). Естественно, это должно произойти с их согласия. При нежелании такого преобразования можно предусмотреть сохранение их в прежнем правовом положении либо в том, которое планируется в рабочей основе проекта Конституции РСФСР (речь идет о земле, федеральной территории)»[110].
Поэтому уже в одном из первых проектов Федеративного договора, подготовленных мною, указывалось: «Автономная область – национально-государственное образование, входящее в состав РСФСР и являющееся субъектом РСФСР» (ст. 4)[111].
При обсуждении одного из вариантов проекта Федеративного договора было обращено внимание на то, что он мало похож на юридический документ и из него неясны участники договора. Тогда было замечено: «А вы знаете, что существуют декларации о государственном суверенитете республик? Советы автономных областей и автономных округов уже определились в этом вопросе. Поэтому Федеративный договор должен исходить из признания реальности в национально-государственном устройстве, из признания деклараций о государственном суверенитете республик, постановлений Советов народных депутатов автономных областей и округов. И те, кто подписывает Федеративный договор, должны быть четко обозначены, кем они являются»[112]. Дискуссия по поводу участников Федеративного договора, но уже с участием Председателя Совета Национальностей Р. Г. Абдулатипова, завершилась лишь на одном из следующих заседаний Совета Республики[113].
Начало работы над Федеративным договором исторически совпало с «Ново-Огаревским процессом» 1990–1991 гг.: подготовкой и разработкой Союзного договора, в которых участвовали представители союзных и автономных республик[114]. Республики, образованные из прежних автономных областей, непосредственно не участвовали в общесоюзных мероприятиях по подготовке и обсуждению многочисленных версий проекта Союзного договора. Народные депутаты РСФСР, избранные ранее на территориях этих областей, имели возможность высказаться по поводу Союзного договора лишь на сессии Верховного Совета РСФСР либо в печати[115]. А на встрече Президента СССР М. С. Горбачева с лидерами российских автономий 12 мая 1991 г. в рамках подготовки Союзного договора участвовали лишь представители шестнадцати существовавших тогда автономных республик РСФСР и Абхазии[116]. Представители же автономных областей и автономных округов, заявивших к тому времени о своих республиканских амбициях, не приглашались. Очевидно, что Союзный центр не учитывал их в качестве участников нового федеративного строительства.
Председатель же Совета народных депутатов Хакасии В. Н. Штыгашев, выступая 5 апреля 1991 г. на III (внеочередном) Съезде народных депутатов, заявил: «Что касается Союзного договора, то все бывшие автономные области, провозгласившие свой республиканский статус, готовы участвовать в его подписании в единой делегации РСФСР во главе с Председателем Верховного Совета»[117].
Возвращаясь к Федеративному договору, следует отметить, что после его подписания, в том числе и представителями Хакасии, ее упоминание в связи с этим актом стало любимым клише у отдельных политиков, журналистов и юристов, критикующих последний за установление якобы неравноправия между республиками и краями (областями)[118]. В сравнительном ключе они необоснованно и спекулятивно полагали, что Хакасия якобы имеет больше полномочий, чем Красноярский край. Так, на одном из круглых столов в 1993 г. С. Н. Бабурин не преминул заметить: «…я никому не смогу объяснить, почему Республика Хакасия, в которой собственно хакасов 11 %, должна сегодня иметь преимущества перед Красноярским краем… Считаю, что этот вопрос нужно решать не так, как это делается в ныне действующем Федеративном договоре»[119].
9. Самоопределение автономных областей: как это происходило в Хакасии
Важным событием 1990 г. был I Съезд хакасского народа (10–11 августа). Уже на стадии его подготовки началась организационная борьба национально-демократического крыла «Туна» и Хакасского обкома КПСС в лице национальной партийной номенклатуры за влияние на этот зарождающийся институт общественного самоуправления[120]. Председателем оргкомитета названного съезда стал А. Ф. Трошкин – бывший завотделом обкома КПСС, который предварительно опубликовал в областной печати свой доклад, насыщенный интересным статистическим и другим иллюстративным материалом. Но настораживало предложение об устройстве представительного органа в автономных областях на двухпалатной основе. Причем Совет Национальностей должен избираться по национальному признаку. В этой палате представителей народа, давших имя области, должно быть не менее 50 %. Такой механизм представительства, по мнению А. Ф. Трошкина, законодательно компенсировал бы интересы коренных жителей, связанные с демографическими процессами[121].
Но подобная постановка вопроса была весьма сомнительна, не увязывалась с общедемократическими принципами, могла породить и другие проблемы[122].
На съезде в выступлении В. М. Торосова «О социально-экономических проблемах Хакасии» от имени коренного народа было предложено записать в Резолюции требование о выводе Хакасии из состава Красноярского края и переводе ее в статус автономной республики. «Это инициатива нашего этноса, – подчеркивал оратор, – но она продиктована и преследует интересы всего населения Хакасии»[123]. Был заслушан и мой доклад о государственно-правовом положении Хакасии[124]. «Повышение государственно-правового статуса, – говорилось в нем, – реально возможно, если эта идея станет составной частью демократических преобразований и будет отражать чаяния всего населения области, всех наций и народностей; это возможно в случае, если требования Резолюции будут соответствовать демократическим принципам равенства всех граждан независимо от национальности, расы, международной Декларации прав человека»[125].
Съезд хакасского народа принял ряд решений, в том числе резолюции «О современных проблемах хакасского народа и путях их решения» и «О государственно-правовом статусе Хакасской автономной области (о выходе ее из Красноярского края и преобразовании в Хакасскую автономную Советскую Социалистическую Республику»)[126].
Областной Совет народных депутатов согласился с итогами работы этого съезда[127] и принял постановление о преобразовании Хакасской автономной области в существующих границах в автономную Советскую Социалистическую Республику и просил народных депутатов СССР и РСФСР от Хакасской автономной области поддержать в Верховном Совете РСФСР и Конституционной комиссии решение сессии Совета народных депутатов Хакасской автономной области[128]. Это дало впоследствии основание некоторым ученым для мифологической интерпретации решения Первого съезда хакасского народа как решения всего населения автономии[129], хотя для такого вывода недостаточно как юридических, так и социологических оснований.
Решения съезда и III сессии областного Совета народных депутатов Хакасской автономной области[130] вызвали диаметрально противоположные отклики. Заведующая кафедрой АГПИ М. Т. Кабелькова, делясь впечатлениями о недавно прошедшем съезде хакасского народа, заявила, что съезд принял «решения очень уникальные, конструктивные о самостоятельности, выходе из края и повышении государственно-правового статуса Хакасии». Эти проблемы Мария Терентьевна назвала «не национальными, а общенародными». По ее мнению, «если решения по ним осуществятся, то улучшатся условия жизни и для моего народа, и для всех других народов, проживающих здесь»[131]. Первый заместитель председателя исполкома Хакасии М. И. Швалев, наоборот, призывал в экономических преобразованиях «действовать не спеша, обдуманно». Он называет некоторые отрицательные моменты, связанные с отделением Хакасии от края: разрыв материальных ресурсов, оставшихся в крае, и др.[132] Несколько по-иному к этому вопросу подошел депутат облсовета А. Косовский, заявивший «оставить областное подчинение в составе РСФСР, что излишняя государственность разрушает единую Россию»[133], т. е. выступил против преобразования Хакасии в республику.
На очередном заседании президиума областного Совета народных депутатов были рассмотрены вопросы об основах взаимоотношений Верховного Совета РСФСР и Совета народных депутатов Хакасской автономной области; об основах взаимоотношений Красноярского краевого Совета народных депутатов и Совета народных депутатов Хакасской автономной области. Члены президиума обменялись мнениями по поводу проекта соглашения о принципах экономических отношений автономных республик, краев и областей РСФСР на период перехода к рыночной экономике. Президиум принял постановление о составе делегации по подписанию договора Хакасской автономной области с РСФСР о преобразовании Хакасии в автономную республику[134]. Но такой индивидуальный договор не подписывался Федерацией ни с Хакасией, ни с другими автономными областями, преобразованными в республики. Хотя, как известно, осенью 1990 г. по просьбе руководства Верховного Совета РСФСР в автономных областях подготавливались предложения по основным принципам федеративного устройства РСФСР и вопросам статуса автономий. В частности, в Горно-Алтайской автономной области были опубликованы проекты Декларации о государственном суверенитете автономной области и Договора с РСФСР о ее государственно-правовом устройстве[135].
10. Решение Второго съезда народных депутатов России о выводе автономных областей из краев и непосредственном включении их в состав РСФСР
В тексте проекта закона «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР», официально представленного от имени Конституционной комиссии Второму съезду народных депутатов, не было ни слова о выводе автономных областей из состава краев, поскольку, как докладывал С. М. Шахрай на заседании Конституционной комиссии 30 ноября 1990 г., «рабочая группа большинством голосов посчитала, что не следует пересматривать принципы национально-государственного устройства».
Отвечая на вопрос одного из депутатов, Шахрай отметил, что «поддерживает вывод автономных областей, округов из состава краев <…> заместитель председателя Комитета по законодательству Михаил Алексеевич Митюков <…> очень последовательно и аргументированно эту позицию отстаивает <…> Вопрос этот <…> будет решаться в рамках Федеративного договора». Далее он высказал мнение, что вопрос непосредственного вхождения автономных областей и автономных округов в Российскую Федерацию затрагивает проблему понимания, что такое “субъекты Федерации”. <…> Субъекты Федерации родятся в процессе подготовки и заключения Федеративного договора», – уточнил свою позицию Шахрай[136].
Пятого декабря, на следующем заседании Конституционной комиссии, продолжилась дискуссия по этому вопросу. Мною предложено из абз. 4 ч. 2 ст. 71 Конституции РСФСР исключить слова «находящиеся в составе краев» и тем самым установить непосредственное вхождение автономных областей в состав РСФСР. Аналогичный прием осуществить и в отношении автономных округов.
Развернулась горячая дискуссия. С. М. Шахрай, С. Н. Бабурин, не отрицая необходимости повышения статуса автономий, предлагали отложить этот вопрос для Федеративного договора. Споры перешли к проблеме, кто является субъектами Федерации. Н. И. Кондратенко, М. А. Степанов полагали, что к ним надо отнести и области, и края.
Большинством голосов было принято решение воздержаться от рассмотрения поправок в ст. 71 Конституции[137].
В распространенной 8 декабря Конституционной комиссией пояснительной записке к проекту Закона «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР» сообщалось, что Конституционная комиссия предложила не проводить радикальные изменения главы о национально-государственном устройстве до заключения Федеративного договора. Но народные депутаты РСФСР, избранные на территории Хакасии, поддержали подготовленные ко II съезду народных депутатов России поправки и дополнения своих коллег от других автономных областей и округов к проекту закона «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР»[138], касающиеся возможности их вывода из состава краев (областей) непосредственно в Российскую Федерацию.
В тексте, подготовленном к выступлению на этом съезде, я тогда записал: «Хотел бы высказаться по тому минимальному объему, который предполагается предпринять в проекте в отношении автономных областей и округов: здесь взяты и учтены те предложения, которые созрели еще в 60–70-х годах, и они явятся неплохой юридической базой для участия автономных образований в заключении Федеративного договора»[139].
Съезд, вопреки решению Конституционной комиссии, поддержал предложения автономных областей и автономных округов, исключил из соответствующих статей Конституции РСФСР положения о нахождении автономных областей в составе краев, а автономных округов – в составе краев и областей. Правда, в отношении автономного округа специально оговорил, что он «может входить в край или область»[140].
Подводя итоги решениям II Съезда народных депутатов, в одной из статей было замечено: «Концепция Закона “Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР” не предусматривала кардинальных изменений в разделе о национально-государственном устройстве и административно-территориальном делении. Эти изменения будут предметом будущего Федеративного договора и новой Конституции РСФСР. Сейчас в названный раздел включены лишь минимальные изменения, позволяющие автономным областям и автономным округам непосредственно входить в Российскую Федерацию»[141]. Позднее В. Н. Штыгашев интерпретировал это конституционное изменение таким образом: «Что касается ст. 82 действующей Конституции РСФСР, то в части автономных областей сделана конституционная поправка. Механизм этой поправки будет заключаться в следующем: будет дано поручение министерствам и ведомствам провести разделение собственности и компетенции»[142].
Однако правомерность конституционной поправки от 15 декабря 1990 г. в отношении автономных областей была подвергнута сомнению в отдельных краевых Советах народных депутатов. Так, 10 января 1991 г. сессия Красноярского краевого Совета по запросу депутата В. И. Егорова приняла решение обратиться в Верховный Совет РСФСР с просьбой «предусмотреть изучение общественного мнения Хакасской автономной области при утверждении (?) закона РСФСР от 15 декабря 1990 г.»[143]. Естественно, что Верховный Съезд РСФСР не вправе был дезавуировать поправки в Конституцию, принятые Съездом народных депутатов.
Этот шаг ставит под сомнение бытующее в новейшей литературе утверждение, что реакция Красноярского края на выход из его состава ХАО носила «сдержанный характер». Оно является поверхностным, основанным лишь на анализе одного источника – некоторых статей «Красноярского рабочего»[144].
11. В ожидании признания
Как известно, автономные области в большинстве своем декларировали преобразование в республики до того, как об этом были приняты соответствующие акты законодательными органами России. Для той политической обстановки было естественным, что Съезд народных депутатов, Верховный Совет, его Председатель, а затем, с середины 1991 г., и избранный Президент РСФСР определенное время никоим образом официально не реагировали на эти факты самоопределения. Должностные лица вновь созданных республик не раз «напоминали» о себе. Интересен в этом плане обмен репликами между Б. Н. Ельциным и В. Н. Штыгашевым 21 января 1991 г. на совещании с председателями Советов и исполкомов в Верховном Совете РСФСР. Привожу его дословно по блокнотным записям.
«Штыгашев В. Н. (Хакасия): критикует механическое перенесение на местные органы принципа разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Необходима по этому вопросу позиция Верховного Совета и Правительства РСФСР. Вопросы деятельности местных органов власти должны быть разрешены в первую очередь. Обратил внимание на то, что не ясно, признает ли Верховный Совет РСФСР изменения в статусе в автономных образованиях. “Сегодня непонятно, являемся ли мы субъектами РСФСР или СССР”.
Ельцин Б. Н.: Признаем, когда признает нас Союз!»
На заседании Совета Федерации[145] 20 марта 1991 г. при обсуждении информации о Союзном и Федеративных договорах В. Н. Штыгашев вновь обратил внимание, что Верховный Совет РСФСР не признал преобразования автономных областей в автономные республики.
Реагируя в какой-то степени на подобные заявления, 25 марта того же года Президиум Верховного Совета РСФСР по моему докладу принимает постановление № 954-1 «Об организационных мероприятиях, связанных с исполнением Закона РСФСР от 15 декабря 1990 г. “Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона РСФСР)”», направленное на реализацию норм ст. 71, 82 и 83 Конституции о расширении прав автономных областей и автономных округов. В нем предусматривается конкретный срок для разграничения функций управления, непосредственное подчинение органам государственного управления РСФСР, создание арбитража и отдела юстиции в автономных областях и т. д.[146]
На вопрос редакции газеты «Советская Хакасия» вечером этого же дня я ответил, что очередным шагом упрочения автономии области могло бы быть внесение ее Советом в Верховный Совет проекта закона, в котором будет отсутствовать указание о вхождении Хакасии в состав Красноярского края[147].
На III Съезде народных депутатов РСФСР 5 апреля 1991 г. В. Н. Штыгашев вновь акцентировал внимание Федерального центра на то, что процесс преобразования автономных областей в республики «не находит должной реакции со стороны Верховного Совета РСФСР… неизвестно ни одного факта его реакции на их провозглашение…»[148]
Решением VI сессии Совета народных депутатов ХАО от 18 апреля 1991 г. «О выходе Хакасской автономной области из состава Красноярского края» было объявлено: «…считать факт выхода автономной области из состава Красноярского края свершившимся»[149]. Исполкому облсовета, его отделам, управлениям, объединениям и подведомственным предприятиям в срок до 15 мая 1991 г. предложено обеспечить юридическое оформление выхода из состава соответствующих краевых организаций. Поручено председателям облсовета и облисполкома подписать соглашение об основных принципах социально-экономического и культурного сотрудничества Красноярского края и Хакасской автономной области.
В реальности же, несмотря на изменения в Конституции РСФСР от 15 декабря 1990 г., Хакасия с точки зрения бюджетного и планового регулирования еще более двух лет находилась в системе Красноярского края, который считал ее своей составной частью[150]. Договор об основах сотрудничества между Красноярским краем и Республикой Хакасия был подписан только 15 апреля 1993 г. В нем затрагивались вопросы разделения собственности, совместного кредитования сельхозпродукции, завершения строительства и эксплуатации защитных сооружений Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, поставки в Красноярский край угля в ближайшие годы и др.[151]
Только после принятия Закона РСФСР от 3 июля 1991 г. край «распрощался» с автономной областью, заявив в редакционной статье краевого официоза «Красноярский рабочий»: «Нас стало меньше» (11 июля 1991 г.).
Позднее, осенью 1991 г., Умар Темиров, народный депутат от Карачаево-Черкесии, вновь заявляет, что «автономные области, провозгласившие республику, находятся до сих пор в подвешенном состоянии. Поскольку <…> края заинтересованы в том, чтобы автономии сохранить у себя. Многие из них были и остаются сырьевыми придатками края. Настоящая политическая спекуляция началась вокруг Карачаево-Черкесии. Первые лица Ставропольского края пишут в Верховный Совет РСФСР письмо, фактически предлагая провести мероприятия, которые приведут ко второму Карабаху»[152].
12. «Розыгрыш карты автономных областей» в кампании по выборам первого Президента России
В этой избирательной кампании была разыграна и национальная карта. Некоторые утверждали, дескать, если изберут Ельцина, то он «прихлопнет» автономии. Подобные мнения, судя по публикациям в газетах, звучали и на объединенном пленуме Хакасского областного и Абаканского городского комитетов Компартии РСФСР. Поэтому в интервью одной из краевых газет я заявил: «Сразу должен сказать, что противники преобразования нынешних автономных областей в республики не в стане демократов. Возражают против этого Ставропольский крайисполком и крайком партии, которые прислали в Верховный Совет соответствующее письмо, и Хасбулатов поручил мне дать на него ответ. Судя по всему, против этого и Красноярский крайком КП РСФСР. О выходе партийной организации из состава краевой не заявил официально и Хакасский обком КП РСФСР»[153].
13. Проблемы автономных образований в деятельности рабочей и экспертной групп Конституционной комиссии
В проектах новой Конституции Российской Федерации, подготавливаемых рабочей группой Конституционной комиссии, в части федеративного устройства осуществлялись весьма «рискованные эксперименты»: идеи отказа от персонификации республик и автономий[154] и замена их «землями», «федеральными территориями» и т. п. Не решались проблемы правового статуса автономных областей и автономных округов. В этой связи еще в замечаниях на последние разделы проекта Конституции, подготовленного рабочей группой и группой экспертов Конституционной комиссии (версия с параллельными местами и вариантами, датированная 11-10-90, 12:57), я писал, что «введение статуса республик (земель) и федеральных территорий, если учитывать требования ст. 4.1.6, будет исключать преобразование автономных областей и округов в республики. В то же время они не сохраняют статус автономий и станут федеральными землями»[155]. А при обсуждении очередной версии проекта Конституции отмечал: «…наконец, нужно решить проблему автономных областей и автономных округов. У нас четко в течение двух лет проводилась идея приравнивания их в экономических и политических правах к краям и областям. Мы не можем от этой политики отказаться, мы ее должны четко, на мой взгляд, закрепить в Конституции»[156].
Глава II. О преобразовании автономных областей в республики в составе Российской Федерации
1. III Съезд народных депутатов России: позиции по поводу преобразования автономных областей в республики
В прениях по вопросам о национально-государственном устройстве РСФСР (о Федеративном договоре), договоре о Союзе Суверенных Республик Председатель Совета Национальностей Верховного Совета Р. Г. Абдулатипов призвал «дать возможность преобразования в республики четырем автономным областям: Хакасской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Адыгейской. Обратиться с соответствующим ходатайством в Верховный Совет СССР»[157]. Об этом же говорил В. Н. Штыгашев, который в очередной раз просил признать преобразование Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской автономных областей в республики и поручить Верховному Совету определить механизм создания в них новых органов власти и управления[158].
В принятом за основу представленном Редакционной комиссией III (внеочередного) Съезда народных депутатов РСФСР проекте постановления «Об основных началах национально-государственного устройства РСФСР (о Федеративном договоре)» Верховному Совету РСФСР поручалось «определить порядок преобразования Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных областей в национально-государственные образования в соответствии с принятыми ими постановлениями и декларациями о суверенитете» и согласно ст. 72 Конституции РСФСР внести вопрос об образовании новых республик на утверждение Верховного Совета СССР (п. 5). Следующим пунктом признавалось право автономных областей и автономных округов на выход из состава краев и областей[159].
Во исполнение принятого за основу названного постановления съезда 16 мая 1991 г. Верховный Совет РСФСР принимает одноименное постановление, которым также признает право автономных областей на выход из состава краев (п. 6)[160], хотя это уже было осуществлено II Съездом народных депутатов России в конституционном порядке.
2. Предопределение будущего конституционного статуса новых республик
IV Съезд народных депутатов России повысил конституционно-правовой статус автономных республик, исключив из их названия слово «автономная». За ними было закреплено новое наименование: «республики в составе РСФСР»[161]. Это на первый взгляд формальное терминологическое изменение имело серьезную конституционно-правовую «нагрузку», отражало волеизъявление автономий, выраженное в их постановлениях и декларациях[162]. И главное, опосредованно касалось и будущих новых республик[163]. Поскольку такая конституционная поправка фактически вносила существенные изменения в смысл и содержание постановлений и деклараций автономных областей, которыми были сделаны заявки на «советские социалистические республики»[164]. Хотя по инерции некоторые народные депутаты и руководители республик еще какое-то время по-прежнему свои вновь провозглашенные республики именовали «советскими социалистическими»[165]. В течение полугода сохраняла эти определения и Республика Хакасия.
3. Полемика вокруг повышения статуса Хакасской автономной области
Еще 5 января 1991 г. на заседании Совета по проблемам межнациональных отношений областного совета состоялся обмен мнениями по межнациональным отношениям в Хакасии и будущему устройству парламента республики. Я высказался в том плане, что проповедование некоторыми теорий «хозяев и гостей», «народа и населения» не способствует нормальному развитию ситуации в Хакасии. Не получит поддержки и идея двухпалатного Законодательного собрания республики с преимуществом в одной из них (51 %) хакасов. Это путь к распаду Хакасии, особенно на фоне событий в соседней Туве. Нашими приоритетами должны стать права человека и гражданина, надо закрепить возможность свободного развития хакасского языка, культуры, традиций, национальных форм хозяйствования. Обратил внимание на торпедирование в республике законов РСФСР, особенно земельных[166].
Политическим событиям Хакасии «доавгустовского» периода 1991 г. характерно начало полемики по поводу ее будущего статуса. Она открылась выступлением журналиста В. Гордеева в «Красноярском комсомольце»[167]. Утверждая, что депутатов областного Совета не особенно спрашивали о будущем государственно-правовом статусе Хакасии, он забыл о принятом почти единодушно депутатами этого Совета 15 августа 1990 г. решения о государственно-правовом статусе Хакасской автономной области, о чем я напомнил ему в ответной статье[168].
Читая сейчас это решение, принятое депутатами (которые, кстати, в большинстве своем прошли в народные избранники под лозунгом выхода автономной области из края), нетрудно заметить, что в нем не был поставлен вопрос о референдуме[169]. Видимо, это объяснялось тем, что сам факт избрания депутатов, поддержавших эту идею, уже говорил о мнении значительной части населения в то время.
Процесс преобразования автономных областей продолжался. «И главная задача, – подчеркивалось мной в названной статье, – чтобы он проходил с учетом общедемократических требований, равенства всех народов, проживающих на территориях автономий.
Но это не всех устраивает. Против выхода автономных областей из краев и повышения их статуса выступают фактически краевые и областные комитеты КПСС. В некоторых автономных областях с ними даже сомкнулись те демократы, которые достигли победы под лозунгом выхода этих областей из краев и преобразования в республики. Это произошло, в частности, и в Хакасии под влиянием событий конца 1989 – начала 1990 г. в Туве…
К сожалению, демократическая печать, издаваемая в Красноярске, объективно “подпевает” позиции крайкома КПСС в «хакасском» вопросе. В газете “Свой голос” появляется официальная публикация с заседания президиума краевого Совета, фактически призывающая к территориальному разделу автономной области, пересмотру ее границ».
В июле 1991 г. состоялся обмен «уколами» народного депутата РСФСР Н. Огородникова и старшего научного сотрудника ХАКНИИЯЛИ, канд. философ. наук В. Майногашевой. В «СХ» было опубликовано открытое письмо Майногашевой Огородникову, где продолжена полемика по поводу повышения статуса Хакасии. Защищая руководителей республики, автор переводила стрелки на «имперский оскал красноярских лидеров». Обосновывала, «почему хакасский народ нуждается в республике» и вопрошала у Николая Дмитриевича, «не будет ли превращена Хакасская ССР в республику для всех, но не только для хакасов»[170].
Создавалось впечатление, что какой-то опытный «кукловод» всю энергию людей уводит от острейших социально-экономических проблем, реформ в область весьма эмоционально и политически конфликтную. И марионетками в той сфере становятся политики, ученые, журналисты и т. д.
