Слово, равное судьбе. Избранные произведения в 3 томах. Том 1. Поэтическое лукошко
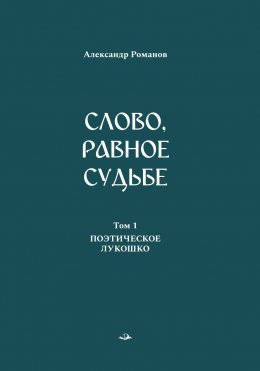
Издание осуществлено благодаря государственному гранту Вологодской области в сфере культуры
Издание подготовлено к 95-летнему юбилею писателя Александра Александровича Романова (18.06.1930 – 05.05.1999).
В первом томе представлены избранные стихотворные произведения из более чем полувекового творческого наследия автора.
Вступительная статья принадлежит Золотцеву Ст. А., требовательному, строгому к слову и памяти, автору более 25 поэтических книг, единомышленнику Романова А. А. в творчестве.
Завершают том размышления автора о сущности поэзии.
© Романов А. А., 2024
© Издательство «Родники», 2024
© Оформление. Издательство «Родники», 2024
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
18.06.1930 – 05.05.1999
Русский язык
- Русский язык! Звонких житниц запас
- Собран Владимиром Далем для нас.
- Только к его Словарю прикоснусь,
- В душу повеет могучая Русь.
- Буквы заглавные – что терема.
- Говор живой – что держава сама.
- Словно в зарницы, в страницы вглядись —
- Даль развернётся, откроется высь.
- В гнёздах, что пчёлы, взроятся слова.
- Соты медовы. В них мудрость жива.
- В пашнях страниц всколыхнётся страда.
- Каждому слову – своя борозда.
- Слово за словом – и слышится речь:
- Родину надо крепить и беречь!
- Голос за голосом – слышен народ:
- Русь не согнётся, вовек не умрёт!..
- В смутах ли страшных, в нужде ли какой
- Эту великую книгу открой…
1994
Посвящение
- …Я – искатель своих родословий,
- И туда сквозь века проберусь,
- Где на пашне Микула весёлый
- Обнимал краснощёкую Русь.
- Я в пути с тех времён и доселе.
- Тыщи лет моя память жива.
- И в лукошке моём для посева
- Золотого отбора слова.
Книга посвящается нашим родителям – Александру и Анастасии Романовым
Анастасия Александровна с сыновьями Сергеем и Александром у портрета А. А. Романова
Образ «лукошка» не раскрывает всю полноту творчества А. А. Романова, однако сам писатель, «крестьянский росток», точно, скромно и мудро обозначил свой вклад в развитие великого русского языка. Так мы и назвали первый, стихотворный том юбилейного издания.
Анастасия Александровна, учитель русского языка и литературы, тонкий ценитель поэзии, музыки, требовательная к искренности таланта и в жизни, и в искусстве, сама сочинявшая стихи, познакомившись с Сашей и его творчеством, оставила свои «пробы пера» и посвятила себя школе, семье, творчеству мужа.
Лучшие стихи, поэмы, очерки писателя обязаны появлением и посвящены ей – Северяновне-невесте и музе-жене. Благодаря ей возник один из самых нежных образов автора – «Вологда моя светловолосая, / С искоркой-снежинкой на щеке»…
После тяжёлой потери мама не опустила руки, с помощью сыновей привела в порядок архив мужа, подготовила и выпустила в свет восемь прекрасных книг его произведений. В 2000 г. предложила организовать Романовские чтения, ставшие ежегодными, и творчески участвовала во всех памятных мероприятиях, посвящённых самому дорогому человеку.
«Своей души не обмануть вовеки…»
Книга А. Романова «Русь уходит в нас»[1]встала на полку «Библиотеки поэзии России», пополнив её ещё одним заслуженным в словесной традиции нашего Отечества именем. Кажется, что этот строгий, изящный синевато-голубой томик существует в читательском сознании давно – во всяком случае, с именем А. Романова связаны вполне конкретные этапы развития русской послевоенной поэзии: весомое вхождение в неё поколения детей военных лет со своей историко-культурной темой, своей художественной задачей, возникновение и громкая известность вологодской литературной школы, поразившая современников как своей творческой «монолитностью», так и свежестью красочного слова русского Севера. Поэзию Романова, как известно, из песни не выкинешь.
С вполне понятным интересом и волнующим чувством ответственности вчитывался я в этот томик избранного. Впервые поэт предстаёт в такой цельной поэтической самостоятельности, является читателю всей своей жизнью в литературе. И видишь – да, он именно такой, каким его узнавали и запоминали по ранним книгам, по наиболее значительным его произведениям (к сожалению, в состав избранного почему-то не вошла лучшая поэма А. Романова «Чёрный хлеб»): возросшим от тысячелетних российских корней, мужской закваски, с душой, открытой добру и красоте, в некрикливом мужестве, крепкой исторической памяти, с остро-болевой, наступательной жизненной позицией, со стремлением оставить на земле своё «отчество» («Имена становятся отчеством – / Это наши уже имена!»).
Преклонение перед словом «отчество» само говорит о нерушимом в душе поэта чувстве наследственного своего существования на земле, «чувстве корня», живом присутствии в его творческом мире неушедшего прошлого. Тема «отчества» предстаёт у А. Романова, можно сказать, в ликах – в обликах предков такой нетленной отчётливости, что кажется: они не воображением поэта созданы, а въявь существуют в нашем сегодня.
- И есть чему дивиться —
- Как из былых веков
- Возникли смутно лица
- Солдат и мужиков.
- Суровы, бородаты,
- Ни знаков, ни наград,
- Ни имени, ни даты —
- Как вечные глядят.
Мужицкая святость могуча, размашиста делами, велика упорством. Прадеды – это те, кто при Петре прокладывал рукотворные речные русла: «…шли, как на Руси обычно, / За мастерами мастера. / Их безымянное величье / Великим делало Петра». Предков-устюжан въявь видит поэт на Енисее: «В глазах сверкало изумленье, / Кипели ветры в бородах, / И стрелы в диком оперенье / Свистели около рубах».
- И высоким делало пространство
- Личное достоинство моё.
Живые предки поэта – это творимые им остановленные мгновенья, напряжение души, крутое и необходимое дело искусства. Именно так настроен глаз поэта-художника, именно такова его осознанная творческая программа. Что проявляется даже в таком штрихе: «берёзы… / Белеют всюду, словно письмена / Далёких предков, / Свёрнутые в трубки».
Запечатление ликов у А. Романова – это труд по сохранению несомой ими духовности, национальных нравственных устоев, русской души, которая для поэта вовсе не потёмки – а свет. Влечёт поэта сказочный образ Ивана-дурака своей неизмеримостью, неразложимой логикой доброты, необъяснимостью возникновения и множественности его. Запечатлённое мгновенье – стихи о былых деревенских дураках:
- То топорик, то пастуший кнут,
- То сума, а то, бывало, дудка,
- Одежонка рваная, обутка —
- А они пророками идут.
В чём их пророчество? В силу безоглядной душевной открытости: «Сдуру лезут на рожон без страху, / Отдадут последнюю рубаху…». Да, перевелись такие… – вдруг вздыхает поэт.
Тут не могу с ним согласиться. Сказка русской души живуча, продолжена в бесконечность грядущего. Если поэт о ней помнит, если делится ею с читателем, то, значит, есть основа для такого нравственного общения и в современной жизни. Здесь вдруг понимаешь реальную для поэта опасность ограничения самого себя, своих горизонтов. Некое превращение остановленного мгновения не в вечность искусства, а в частный случай. На этой грани колеблются многие образы поэта. Так, в стихотворении «Трое» в удивительной духовной отчётливости явлен образ павшего фронтовика Великой Отечественной – он и снимок на стене в доме его жены, вышедшей за другого, и вполне реальный «третий» в супружеской жизни: «Так живёт незримо с вами третий, / Ваша память, верность, чистота». Бережно, чистыми руками прикасается поэт к бытийной теме любви, смерти, дома, верности, памяти. Но, к сожалению, не выводит её на орбиту вечного в искусстве. Опять даёт себя знать «частный случай»:
- Он хороший, но его невольно
- Сравниваешь с первым, с тем, порой,
- И тебе всегда бывает больно,
- Если в чём-то не похож второй.
Снижение, как видим, слишком резкое, упрощённость подхода срабатывает отрицательно. Таково и «насильственное омоложение» поэтом ровесниц: «Чуть что – и огорчённо / Вспыхнут, вскипят. / Глядишь – опять девчонки, / Девчонки опять!» Тут же поэт прилагает рецепты омоложения в виде назидательной морали: «Чтоб молодым остаться, / Надо любить», «Будьте вы, девчонки, / Девчонками всегда!» Намерения у поэта хорошие, а вот поэзии маловато.
И начинаешь бояться за поэта, а вдруг он, незаметно для себя, своё художественное призвание превращает в приём, всего-навсего в надёжный и испытанный способ самовыражения… Во всяком случае, такая опасность существует. И хочется предостеречь от неё поэта, потому что в нём заложена подлинная способность к поэтическому воскрешению памяти, способность радостно-самобытная, дающая ему право на собственный неповторимый творческий почерк. Такой, как в стихотворении «Память». Здесь подлинный Александр Романов.
- Я знаю, что это не ново.
- Но сердце болит оттого,
- Что липы густеют медово,
- А в доме и нет никого.
- Не пчёлы, как прежде, а овод
- Гудит у плеча моего.
- Хозяйка не выйдет навстречу.
- Хозяин, как свой человек,
- Не хлопнет меня по заплечью.
- Мол, вспомнил, прибрёл на ночлег.
- Их чистой окатистой речью
- Душе не омыться вовек…
- Что минет – воротится в душу…
- Как мелко я жил и дружил,
- Как мало я слушался, слушал,
- Как редко гостинцы возил…
- Сжигает полынною сушью
- Меня у родимых могил.
Здесь пригождаются все свойства Романова-поэта: бытовая основательность, внимание к близким подробностям окружающего, приглядчивость его разговора, внимательность к слову собеседника. Частное становится ёмким художественным образом, как «окатистая речь» хозяев дома… Здесь понимаешь, что А. Романов несёт именно свою ношу в литературе, что он – прирождённый «собиратель» родного в стихи, что не «архивны», не «архаичны» у него приметы исконного российского быта…
В яркий, красочный хоровод выстраивается у поэта народная жизнь.
- Вспомнилось детство перед войной:
- В каждой избе у нас многолюдство.
- Сядем за стол перед чашкой одной —
- Ложки, что птицы, дружно несутся.
- Мать поутру испечёт каравай,
- Кликнет, и сыплемся мы спросонья,
- Только ломти успевай подавай
- С луком зелёным да крупной солью.
В этот хоровод вплетаются щемяще родные реалии: «Крыши в тёплой позолоте, / Дух коровий по дворам, / Словно лебеди на взлёте, / В избах крестовины рам», печь, самовар, дорожка от крылечка до колодца, звенящие в утреннем воздухе вёдра, кольцо на двери, колодезный журавель, «гармонь златополенная / Начнёт в печи играть», в поле «соломы копны тёплые на нём / Неровными рядами замирают, / Как на огромном на поду печном / Забытые хозяйкой караваи».
Всюду, куда ни глянь, на том же сеновале – «заметы тайные… о краснозорных, огневых и сарафанных сенокосах»… В хороводный круг, расширяя, расцвечивая его, насыщая реальностью человеческих жизней, судеб, входят девичьи, женские образы. Девичья тема в художественном мире А. Романова – это пейзажи природы, движущегося времени. Своеобразные «времена года» изображает поэт, рисуя девичьи портреты. Вот – «Зимнее утро»:
- Поленьями ольховыми
- Похрустывает печь.
- Как благодатно с холода
- Кофтёнку сбросить с плеч!
- И вот в сиянье жарком
- Она полунага.
- Шипя, летят огарки
- Стрекозами к ногам.
- Их веником сметает,
- Чтоб ноги не обжечь,
- И шаньги на сметане
- Начинает печь.
- На окнах иней розовый:
- Видать, заря встаёт.
- Пропели рядом розвальни
- И встали у ворот.
Так и веет на тебя острой, пахучей прелестью русской зимы, студёно-жаркого деревенского житья, веселящих душу хлопот в доме, всей этой атмосферы гаданья о счастье. Девушка-зима – так можно назвать образ-стихотворение А. Романова.
А вот – девушка-лето:
- И я не могу надивиться,
- Что даже в такой солнцепёк
- От свежих купальниц струится
- Атласный сырой холодок.
- И пахнет в безоблачный полдень
- Дождём грозовым и ещё…
- Ну чем же, ну чем?
- Ах, припомнил —
- Прохладою девичьих щёк!
Есть и весна, и осень: «Она стоит, облокотившись / На вересовый черенок. / И каждый звук и запах слышен, / И сладкий тянется дымок». Есть и замыкающий этот девичий венок образ бессмертной юности: «Девки, пойте, девки, пойте, / Я – старуха, да пою-у!..»
- И колеблется в затоне,
- И светлит в камнях струю
- Это дерзкое, родное
- И бессмертное – «пою-у!»
Из этого многолюдного, хороводного человеческого пейзажа вырастает, поднимаясь, если можно так высказаться, караваем души, удивительно вызревший у поэта образ матери. Он вбирает в себя и житейские приметы, но перерастает их, предстаёт в чистой духовности русской красоты, как в стихотворении «По рыжики не выбраться ли нам?..»:
- Мать подожду. Она бредёт ко мне.
- И след её опять раздумьем выстлан.
- Ну, а в корзинке на глубоком дне
- Одни лишь листья, золотые листья.
Детство поэта пришлось на военное время, молодость – на оскудение русской деревни, память его – ближняя память – просквожена болью, утратами. Из спекшейся боли, грусти, тревоги выплавлял поэт своё чистое, светлое слово, в этом и сказался великий оптимизм его народного корня. Свет сквозь боль – образ озера на Карельском перешейке, на берегу которого пал его отец. Оно «темнело чашей вдовьих слёз / В своём взрывном покое».
Александра Романова – певца крестьянской, народной доли – можно угадать именно по таким концентрированным образным штрихам. Такова вспышка-штрих современности: «И машина шла напролом, / Светом фар в полях мельтеша, / Словно там металась огнём / Человеческая душа». Заметим, тут поэт не обобщает время, «не идёт на символы», а получается ёмко, потому что здесь концентрация духовного зрения поэта.
В этой связи хочется поделиться раздумьями и наблюдениями над работой современных поэтов из поколения Романова. Его сверстники во многом прошли – с боями – значительный литературный путь, заметим, надолго «удерживаясь» в звании молодых послевоенных поэтов. Сейчас, перевалив порог пятидесятилетия, имея имена хотя и в различной степени, но достаточно громкие, они неожиданно «разделились» на два разряда: уже сказавших всё своё и идущих в творчестве вслед самим себе и – резко пошедших на взлёт. Не надо много примеров. Достаточно вспомнить именно сегодня идущую к читателю поэму Валентина Сорокина «Бессмертный маршал». К какому же разряду принадлежит А. Романов? Мне кажется, что он ещё не сказал «всё своё», тому основанием заложенное в его поэзии хоровое, «хороводное» эпическое начало, живущая в его стихах собранная «окатистая речь» народная. Романов – один из далеко не многих, кто сумел остаться в своём слове современно русским, «беспримесным» по чистоте языка поэтом. Дело не только в естественном отборе слов, в противостоянии всяческой ломке речевого строя, завещанного ещё от «Слова о полку Игореве», а и в способности его стиха звучать всем звуковым богатством народной поэзии, её густой аллитерированности:
- Красноярск завьюжил красной каруселью
- И пропал в дымах, как в лебеде.
- Свежаком в лицо захолодило
- От разбега волн и облаков.
- И несётся теплоход, как льдина,
- Меж палимых зноем берегов.
Густая, сочная речь! Почва её – песенная, «помнящая» былинные распевы, живая говором сегодняшнего дня.
Притом и укладывается она в стихи не «мерными рядами» строк, а как бы протекая прихотливо по естественному, бытийному руслу, с переменчивым размером строк, но с постоянством единого чувства-настроя.
- Как услышу я знакомый говорок:
- «Наша Вологда – хороший городок!» —
- Словно ветерком обдует сердце,
- Тёплым, чистым, хвойным ветерком,
- И от грусти никуда не деться:
- Жалко расставаться с земляком.
Но это вовсе не значит, что А. Романов как-то разделяет письменную и устную культуру стиха, напротив, он, как все лучшие русские поэты его поколения, сращивает их, «пересаживает» классический стих на народную основу. В его стихотворениях встречаются формы, интонации, свидетельствующие о пройденной поэтом школе русской поэзии девятнадцатого, начала двадцатого, а то и восемнадцатого веков. Чем не «фетовские», не «тютчевские», скажем, эти строки:
- Эти прялки огнелики,
- Эти дуги, шаркуны —
- Только звоны, только блики
- Той – под нами – глубины.
- Эти льны, как утро, явны,
- Кружева, как вздох, чисты —
- Только тихое сиянье
- Той – меж нами – красоты.
- Эти древние строенья
- На холмах земли родной —
- Только выдох изумленья
- Той – над нами – глубиной.
Так поэт приобщается сам и приобщает современную поэзию к извечному несказанному духу народному. И это именно – не побоимся обвинения в «вульгарной социологии» – крестьянское отношение к быту как к красоте, духовности жизни, это крестьянский взгляд, крестьянское слово, прошедшее выучку письменной культуры и оставшееся самим собой, «огнеликой прялкой». Множеством строк, подобных этим, А. Романов заявляет о себе как о представителе подлинно новой, целостной культуры слова, развившейся и окрепшей в русской послевоенной поэзии. Стать им невозможно без сыновней верности, веры в свой род, в необходимое людям величие его призвания. Всё это у А. Романова есть.
И, однако, почему же остаётся впечатление определённой самозамкнутости поэзии А. Романова, почему мы сегодня застаём его в некоторой самоуспокоенности творческой? Ведь не исчерпал же он себя «хороводными» циклами, произведениями – данью памяти предков, словом об отце и матери, «собирательским» энтузиазмом хранителя родного? Сама ягодная россыпь его художнических находок говорит о неиспользованном богатстве его поэзии: «И две косы наперехват, / И в каждой вковано по песне…», «Столкнутся один на один / Грозы тёмно-синие тучи / И красные тучи рябин», «Что цветёшь, калина, поздно? / И о чём душе поёт / Этот взвитый многозвёздно / Над просёлками полёт?», «Предстанут белым клевером / Российские снега» – да, что ни штрих, то ягодка, что ни образ – загадка, частушка, аллегория, современный миф…
- Самолёт охапку грома
- Сбросил в тихой синеве —
- И поленница у дома
- Раскатилась по траве… —
да «мифологический» штрих. А вот мысль у поэта он рождает бедноватую: «как непрочен наш покой». Чтобы это понять, не надо быть поэтом. У поэтов другая задача: упрочить жизнь. А. Романов участвует в решении этой задачи. Но, увы, не до конца. И вдруг понимаешь, почему: накопление им мастерства, художественных задач идёт у него именно «по ягодке». Есть в строках-образах выход в пространство мирообраза – хорошо, нет – и так сойдёт… Отсюда и встречающаяся чересполосицей однозначность, упрощённость поэтической мысли, замыкание на частных случаях. Поэтому поэмы фрагментарны, взгляд неохватист… Порой начнёт поэт широко: «Что красноводье поздняя брусника…», – в строке сразу и простор, и вид окрестный, и пора природы, и даже вкус позднего лета. Но широты хватило лишь на строку. Дальше – резкое сужение кругозора:
- Я в ней корзину грузную топлю,
- Грущу от улетающего клика
- И сам брожу подобно журавлю…
- Мне хочется к тебе – в твои печали…
Вот уже и нескладность («топлю корзину» – в чём? В бруснике – неточно, в красноводье – тогда в «нём»), и безвкусица («хочется в твои печали…»). Стихотворение, не успев начаться, сломалось. Даже жаль, что оно попало в избранное, хотя первая строка отменно хороша.
В этом же стихотворении есть строка: «И каждая-то ягодка прошепчет», – нет, не каждая становится достоянием поэзии. Конечно, у каждого поэта есть стихи сильнее, есть – слабее. И вовсе не хочется «уличать» А. Романова в том, что он где-то недоработал, недотянул. Моя забота – вместе с поэтом, в расчёте и на читательскую помощь – понять, что мешает талантливому русскому поэту. И открываешь: его строке, его замыслу, его речи не хватает не каких-то формальных искушённостей, а – простора, воздуха, владения великим законом искусства – перспективой. Той, что раздвигает дали, не даёт ослабеть чувству цели. Ни в коей мере не «сталкивая» двух дарований, поясню свою мысль примером из Н. Рубцова, ровесника младшего, земляка А. Романова. Вот рубцовский штрих:
- Да как же спать, когда из мрака
- Мне будто слышен глас веков
- И свет соседнего барака
- Ещё горит во мгле снегов.
Это органическое чувство простора есть у А. Романова, и оно движет его стихом, как, например, в строках о Енисее:
- И надо было в радужные краски
- Раскрасить дебри, сёла, города,
- И ослепить пришельца этой сказкой,
- И заманить его навек сюда.
- А самому лететь, гудеть прибоем
- И океан по-дружески толкнуть.
- Немало надо, чтобы стать собою —
- Сквозь всю Россию пропахать свой путь!
Но не всегда верен поэт этому «завету Енисея». Собою он, безусловно, является, но не всегда – всем собою. Это не упрёк, а призыв.
…Много горестного, тяжёлого, чёрного в судьбах людей и земли встречаем мы на страницах книг А. Романова, и все же нередко при их чтении возникает чувство, чеканно выраженное в есенинской строке: «Как прекрасна земля и на ней человек!» Мало у кого из современных поэтов есть такая естественная слиянность души и плоти людской с духом природы: это единение, наверно, и зовётся – земная натура. Как-то не поднимется рука приписать поэту «философию пантеизма», хотя такой термин по отношению к нему не был бы отступлением от истины: перед нами, скорее всего, веками бытия на родной земле выработанный, национальный, крестьянско-русский взгляд человека на то, что сегодня именуется «окружающей средой», но для героев поэта среда эта – часть их, они сами, их дом, срубленный из деревьев, которые могут и петь, и плакать смоляными слезами. Сокровеннейшая часть их жизни, исполненная добра, солнца, искромётного веселья, – всего, без чего не прожить человеку в суровом краю и суровом веке.
- Птицы возятся попарно,
- Зелень видится насквозь.
- Клёны бродят, словно парни,
- Меж застенчивых берёз.
- Ну, а верба пахнет ульем,
- И с налёту – ох, смела! —
- Обжигает поцелуем
- Захмелевшая пчела.
Вера в большом начинается у художника с веры в малом: образ должен убедить своей органичностью. А в этих строках настолько остро ощущаешь «поцелуй» пчелы, что столь непривычная метафора становится символом действительно обжигающей чистоты природы. Вот одно из самых покоряющих свойств мастерства А. Романова: умение открыть особый и целостный мир в частности, в штрихе бытия, облечённом в точный и имеющий символическое значение образ. Чаще всего – образ судьбы человеческой. И при всём этом поэт даёт нам понять, что эта судьба – натура – до конца не познаваема, как бы проста она ни была на первый взгляд.
- Я вся измолотилась
- В поле, на дворе ли.
- В жёны не сгодилась,
- Так сгодилась в деле.
– говорит о себе героиня поэмы «Художники» Любка, «ни жена, ни девка», деревенская труженица с незадавшейся личной судьбой. Но именно к ней обращаются взоры приехавших в северную деревню художников, и на их холстах появляются дивные черты «какого-то мира, пока не известного им».
Истинная красота всегда потаённа, и художник порой всю свою жизнь бьётся над разгадкой её, вникает в тайну, пометившую лики самых близких ему людей. Этому проникновению посвящены страницы двух произведений, венчающих книгу, – поэм «Мать» и «Отец». Они связаны меж собою не только сюжетно (героиня первой – вдова солдата, ставшего героем второй поэмы), их единит, прежде всего, позиция автора, выступающего здесь и как действующее лицо. Он ищет истоки той силы, что десятилетиями жила в сердце его матери, потерявшей самого дорогого человека, истоки её веры в жизнь – истоки красоты. Но поэма не представляет собой диалог автора с матерью, она – разговор двух матерей: вдовы солдатки с матерью-землёй. И земля, утешающая старую женщину, возвышает её, обращается к ней как к высшей и разумнейшей части своей – вот где, пожалуй, сильнее всего выражается натурфилософия поэта:
- А в памяти моей – послушай! —
- Слоями от времён иных
- Лежат подзолы равнодушья
- И тугодумья валуны.
- Ко мне с добром идти – не с речью.
- На том стою, тому верна.
- И потому я славлю вечно
- Союз ладони и зерна.
И не надо здесь забывать, что с труженицей-россиянкой говорит земля, принявшая в себя её мужа-воина, пусть и вдали от родного села похоронен он. Поэт слышит голос своего отца в шуме листопада над дальним озером на Карельском перешейке, где тот принял последний бой… Думается, сегодня, когда мы все заново переосмысливаем трагедии, пережитые нашим народом в этом веке, горькую сущность наших побед, непомерной ценой добытых в минувшей войне, особой остротой наполняются строки из поэмы «Отец» – «за взводом взвод бросали мы / На крепость из железа». На фронте – неоправданная гибель мужчин-солдат, в тылу – страдания женщин, вдов, дочерей, детей и стариков, страдания, не закончившиеся с войной… Какой другой народ обладает такой живучестью и такой тягой к красоте земной?..
А. Романов не диктует нам этот вывод, особенность его творчества в том отчасти и состоит, что оно оставляет простор для размышлений. Вместе с автором мы становимся и художниками, и историками: дуализм, без которого, кажется, в наши дни уже невозможно представить себе подлинное искусство.
Александр Романов с самого начала своего пути заявил о себе как поэт, видящий мир и создающий мир «на особицу», стремящийся самыми точными словами, взятыми из речи своих земляков и сограждан, выразить многомерность и неповторимость народной натуры, трагедийную высоту её бытия, заповедную красоту её духа. Такой дух не терпит ни спешки, ни суеты, он требует от художника максимальной духовной сосредоточенности – и мудрено ли, что немногие из пишущих ступают на эту стезю, далёкую от псевдопублицистической «злобы дня», не сулящую громкого успеха. Масштаб творчества таких художников и определяется, и постигается не сразу…
Думая о творчестве А. Романова, я нередко вспоминаю одно высказывание В. Астафьева. Автор «Последнего поклона» как-то сказал, что в литературе, как и в жизни, есть люди, которые подставляют плечо «под комель», стремятся принять на себя нелёгкую ношу, другие же уходят от такой участи. А. Романов – из первых, в поэзии он берётся за крупную, ломовую работу, «кавалерийский наскок» не по нему.
Без таких беззаветных тружеников пера – к сожалению, исключительно немногих – сегодняшняя поэзия страны была бы анемичной и обескровленной. И стоит ли дивиться тому, что не всё ладно и совершенно даже в этой итоговой и веховой книге его стихотворений: у того, кто за тяжкий груз берётся, нередко трещат и кости, и рубаха. Но из сшибки драматических противоречий жизни, над которыми напряжённо и мучительно размышляет поэт, из сшибки счастья и невзгод, веры и безверья – и рождается тот «сторожевой луч», который, на мой взгляд, символизирует сердцевинную сущность творчества одного из самых значительных поэтов сегодняшней России:
- Он жгуч. Он будто откровенье,
- Он просекает толщи лет,
- И чем обиднее забвенье,
- Тем сокрушительнее свет,
- Из рваной памяти, из боли,
- Из мглы ошибочных дорог,
- Из дел, которых не исполнил,
- Из слов, каких сказать не смог.
- Из полуправды, ставшей в горесть,
- Из встреч, растрёпанных уже,
- Всеочищающая совесть,
- Как жизни весть, горит в душе.
Ст. А. Золотцев,1988
Земля отцов и дедов
Родная местность
- Земли-то, собственно, – кружок,
- Обвитый синим лесом.
- Река блестит наискосок
- Под ивовым навесом.
- Деревни тянутся к реке
- От ягодной опушки,
- И белый камень вдалеке
- Разрушенной церквушки…
- Всю местность, всех дорог витьё
- Пройти и дня хватало,
- Но наглядеться на неё
- И целой жизни мало.
1981
Родина
- Слов певучих тихая отрада,
- Ширь без края, белый всплеск берёз…
- Всё, что в жизни человеку надо,
- Воедино только здесь слилось.
- Родина – одно на свете чудо.
- Было так всегда и будет впредь.
- Лишь она и светит, и врачует,
- Чтоб до смерти сердцем не скудеть.
1977
«Земля отцов и дедов, та земля…»
- Земля отцов и дедов, та земля,
- Где кустики ольховые в межполье,
- Дала мне всё, ничем не обделя:
- Ни радостью, ни гордостью, ни болью.
- А под ногами глина да песок
- Да вперемежку скудные подзолы.
- Но первый для меня ржаной кусок
- Взращён на этих пашнях невесёлых.
- А под окошком серый журавель —
- Из всех домашних птицы нет домашней —
- Мне доставал, чтоб рос и здоровел,
- Воды, бегущей из-под этих пашен.
- А надо мной в морщинках потолок,
- Как будто материнские ладони,
- Чтоб просыпаться я без страха мог
- И чтоб навек запомнил всё родное…
- Без этих ольх, что скромно так цвели,
- Без этих глин, что в детстве мы месили,
- И без любви к углу такой земли
- Откуда взяться и любви к России?
- Вот почему берёзы для меня,
- Да и для всех отзывчивых и чутких,
- Белеют всюду, словно письмена
- Далёких предков, свёрнутые в трубки.
1969
Народная речь
- Дивлюсь народной речи!..
- В родимой стороне
- Друзей, бывает, встречу —
- И будет праздник мне.
- Усядусь с ними просто —
- Как свой среди своих,
- Где сроду не был гостем,
- Ел тот же хлеб и жмых.
- И разговор вседневный,
- Нередко и смешной.
- Опять плетёт деревня
- Легко передо мной.
- И вдруг такое слово
- Обронит невзначай,
- Что в лучший стих готово —
- Лишь зорко примечай.
- Привскочишь: да откуда,
- Да из каких глубин
- Достали это чудо
- За вздох, за миг один?
- Ведь в этом слове редком
- И жарком – только тронь
- Мерцает дальних предков
- Языческий огонь.
- Удивишься немало:
- Что слово, как запал,
- В тебе самом дремало,
- А ты его не знал…
- А речи всё плетутся,
- Как наши кружева:
- И так и сяк берутся
- И ставятся слова.
- Обычные бы вроде,
- Да в необычный ряд.
- И вдруг, что самородки,
- Стыкуясь, загорят…
- Родной язык – держава.
- И даже мудрый Даль
- Не всю в словах обшарил
- И глубину, и даль.
- И мне бывает больно,
- Когда берут в тиски
- Слова программой школьной
- Богатству вопреки.
- И горько мне бывает,
- Когда в домах у нас
- Старушек поправляют
- Внучата всякий раз.
- Мол, их слова плохие.
- И с детства говорят
- Хоть грамотно, да хило.
- А рядом этот клад!
- А он, не видный глазу,
- Лежит в толкучке дней.
- Дороже всех алмазов
- И золота ценней.
- Что золото и камни!
- В нём то, чем жизнь жива, —
- Гранённые веками,
- Алмазные слова!
1973
«Меня дивили мощью города…»
- Меня дивили мощью города
- И синевой окатывали дали,
- И древности, забывшие года,
- Высоким светом сердце зажигали.
- А вот щемит печалью звон шмеля,
- А за шмелём – пастушечья избушка,
- А за избушкой – тихие поля,
- А за полями – громкая кукушка.
1978
«Как услышу я знакомый говорок…»
- Как услышу я знакомый говорок:
- «Наша Вологда – хороший городок!»
- Словно ветерком обдует сердце,
- Тёплым, чистым, хвойным ветерком,
- И от грусти никуда не деться:
- Жалко расставаться с земляком.
- Как да что там? – на ходу вопросы,
- А перед глазами – всё одно:
- Улочка, снега, рассвет морозный
- И твоё кудрявое окно.
- Будто бы деревья, над домами
- Стынет дым, белёс и недвижим.
- А деревья вдоль посадов сами
- И твоё кудрявое окно.
- Ты проходишь в этот час под ними,
- Задеваешь ветки невзначай,
- И пушится, как бывало, иней
- Горностаем на плечах…
- Почему-то вижу только это,
- Слушая рассказы земляка
- О кварталах, выросших за лето,
- О домах, глядящих свысока.
- Видно, так порой бывает с нами:
- Спрашиваем мы про города,
- Слушаем дивясь, а вспоминаем
- В них кого-то близкого всегда.
- Так и я – вот задаю вопросы,
- Ну, а сам – в далёком далеке…
- Вологда моя светловолосая
- С искоркой-снежинкой на щеке!
1960
Сердцу милое навек
- Сердцу милое навек —
- Чёрный ельник, белый снег.
- Из-за ельника красна,
- Будто старая сосна
- Срезом вниз обращена,
- Крупно катится луна.
- И навстречу – ни души,
- Только тропка шуршит.
- Возникает тихо грусть:
- Ну, а если заблужусь?
- Полосует сразу страх:
- Это что же там в кустах?
- Что же, что?..
- Ах, невдомёк —
- Это ж тянется дымок!
- Грусть пропала.
- Страх отлёг.
- Мир понятен.
- Шаг лего́к:
- Вырастает издалёка
- Синей веточкой дымок.
1966
«Ветры с севера подули…»
- Ветры с севера подули,
- Эх, с родимой стороны!
- Мои думы, словно угли,
- Пламенно раскалены.
- Зашумели, закачались,
- Залохматились леса.
- Моря Белого курчавость
- Заплеснула небеса.
- Ветры с севера всё дале
- Завихряли пыль холмов
- И с налёту охлаждали
- Праздный жар пустых голов.
- Легкодумные затеи,
- Своеволие страстей,
- Беззаботный и шутейный
- Крен к делам и жизни всей.
- Ветры с севера всё шире,
- Всё мощней неслись, как весть,
- Что в тревожном нашем мире
- Трезвость есть, суровость есть.
1983
«Кругом вода сильна, нетороплива…»
- Кругом вода сильна, нетороплива,
- Заката краски сдержанно-пестры.
- То тут, то там раскидистые ивы
- Горят в лучах, как жёлтые костры.
- За ними, как туманные полоски,
- Стоят в воде ольховые кусты,
- И моются застенчиво берёзки,
- Хотя безукоризненно чисты.
- И каждый ствол, и каждый голый кустик
- В себе уверен, ждёт поры такой,
- Когда и он торжественно распустит,
- Раскинет зонт зелёный над собой.
- …И мы с тобой, товарищ, верим тоже,
- Когда вокруг восторженно глядим,
- Что лучший день у нас ещё не прожит,
- Что всё-таки он где-то впереди.
1954
Старик
- – Как жизнь? – А лучше и не будет.
- – Неужто? – Думаю, что так.
- – Но люди… – Что ж, на то и люди,
- Чтоб ожидать каких-то благ.
- – А ты-то что? – А я счастливо
- Пожил… – Достиг чего? – Достиг.
- – Чего? – Трудись не суетливо, —
- И улыбнулся мне старик.
1980
Русский Север
- Только травы на покосах лягут,
- Припасай лопату – столько ягод.
- А прокатит гром парной грозы —
- Той лопатой и грибы грузи.
- Это Север. Это русский Север.
- Здесь, содвинув домны и поля,
- Зреет сталь и зреет рожь и клевер.
- Здесь тугая от корней земля.
- Ельниками выпилено небо,
- И в прохладе белых городов,
- Словно весть веков, узорнолепно
- Лёгкое паренье куполов.
- Здесь дома, что кружева, воздушны.
- Люди – голубой да карий взор —
- Простодушны, нет, великодушны,
- Как велик за Вологдой простор.
- И частушки вяжут поясами,
- И по миру катится молва,
- Что за вологодскими лесами
- Вырастают спелые слова.
- В спелом слове – огневая сила.
- Взял его – будь к подвигу готов,
- Чтобы правда в книге проступила,
- Будто соль на спинах земляков,
- Будто эти в синих тучах дали,
- Где терпеньем, мужеством, трудом
- Поколенья землю обживали
- И где мы распахнуто живём.
1980
«Майский лес галдит, кукует…»
- Майский лес галдит, кукует,
- Крячет, цвинькает, свистит,
- Заливается, воркует,
- И трепещет, и звенит.
- Птицы возятся попарно,
- Зелень видится насквозь.
- Клёны бродят, словно парни,
- Меж застенчивых берёз.
- Ну, а верба пахнет ульем,
- И с налёту – ох, смела! —
- Обжигает поцелуем
- Захмелевшая пчела.
1982
Черёмушка
- Стоит, теплом обласкана,
- Лесной, душистой сказкою
- У самого солнышка
- Роскошная черёмушка.
- Берёзкам ли дивиться бы:
- Ведь сами белолицые,
- Форсистые да чистые —
- И то косятся издали.
- А ольхи неопрятные
- Стыдливо ноги спрятали,
- Застыли, словно золушки,
- Вокруг черёмушки
- И тоже удивляются:
- «Какая красавица!
- Откуда же, откуда же
- На ней такое кружево?
- И как на этой сырости
- Могла такая вырасти?!»
1964
«Ужо!»
- Берёзы замерли в тревоге,
- Метнулась молния ужом,
- Но гром заснул на полдороге,
- Лишь погрозил: ужо, ужо!
- И кто-то в небо поднял палец,
- Мол, не идут и там дела.
- И над природой посмеялись:
- Эк, до чего изнемогла.
- А солнце патокой тягучей
- Лилось. Комар пищал вися…
- Вдруг дунул ветер.
- Чёрной тучей
- Заполуно́чило леса.
- И туча ширилась от гнева,
- Всё ближе, ближе страшный миг.
- Огонь штыками брызнул с неба,
- И гром упал на плач и крик.
- Плеснулись искры из розеток,
- Взметнулся град, что белый вал,
- Срубал колосья, листья с веток,
- Со звоном стекла вышибал.
- И всё живое ужималось,
- Страх ослеплял, корёжил, жёг…
- Над всей землей металась ярость —
- Так вот что значило «УЖО».
1981
«Умываюсь туманами севера…»
- Умываюсь туманами севера,
- Поднимаюсь легко на бугры,
- И мне под ноги катятся клевера
- Фиолетовые шары.
- А заря, словно красная мельница,
- Мне опахивает лицо.
- Горизонт уплывает и светится,
- Как берёзовое кольцо.
- В спелой ржи, будто вытканы, вышиты, —
- То возникнут, то пропадут —
- Голубеют старинными крышами
- Деревеньки и там и тут.
- Здесь моя деревянная отчина.
- Пусть я житель и городской,
- А душе, кроме всякого прочего,
- Позарез нужен край такой.
- Не из тех я прохожих нечаянных,
- Что заглянут на ночь одну
- И у вдов, умудрённых печалями,
- Ищут старую старину.
- И хозяйки в домах удивляются:
- Было время – просили кусок,
- А теперь – то икону, то пряслицу,
- То ручного тканья́ поясок.
- И в цене не стоят – лишь скажите им,
- Но теряются бабы тут:
- Нет цены оценить пережитое,
- И задаром всё отдают.
- Мне ж чего покупать, если родиной,
- Стариной её, новизной
- Существо моё переполнено,
- Будто небо голубизной.
- Всё волнует: и травы шумные,
- Свет реки и тень камыша.
- Здесь опять невольно подумаю:
- Что ж такое это – душа?
- Не приёмник с чувствительной силою,
- Чтоб включить и настроить мог,
- Не берёзовый лист, не осиновый,
- Не старинный какой кузовок.
- А поёт, и грустит, и дрожит она,
- И я думаю неспроста,
- Что душа – глубина пережи́того,
- Непрожи́того высота.
1970
Закат
- В болото солнышко упало
- На мхи, на ягоды… О, вид!
- Во всей округе в окнах ало
- По крупной клюквине горит!
1977
Горностай
- Из порыжелого куста,
- Передо мной весь на виду,
- Метнулся белый горностай
- И ослепил на тёмном льду.
- А лёд был тонок. На прыжок
- Он отозвался, что хрусталь,
- И, словно брошенный снежок,
- Застыл в испуге горностай.
- И замер я. Тревога нас
- Связала вмиг наедине.
- И две дробинки чёрных глаз
- С реки запали в сердце мне.
- Вот он отчаянно привстал
- И прямо к берегу, ко мне.
- Сверкнул в полёте горностай
- И вдруг растаял в желтизне…
- А в небе звенья птичьих стай,
- А вечер холоден и тих.
- А в сердце снежный горностай
- Летучих радостей моих.
1976
Жеребёнок
- Где ивняк и свеж, и звонок
- Вдоль озёрной синевы,
- Там родился жеребёнок
- В рыжем росплеске травы.
- Необсохший, встал и замер.
- Встал, дрожа, всего на миг
- И огромными глазами
- Удивился: как возник?
- Головой повёл, но тяжесть
- Озарённой головы
- Покачнула, и, пугаясь,
- Он упал в озноб травы.
- Мать – натруженная лошадь —
- К жеребёнку подошла.
- Гривку ласково ероша,
- Стала облаком тепла.
- Он затих. Лежал послушно
- И вдыхал дурман земли.
- В дрёме остренькие ушки
- Трепетали и росли.
- А потом, как и вначале,
- Вздрогнул с гривки до хвоста,
- И с передних ног, качаясь,
- Он на все четыре встал.
- Тонконогий, светло-рыжий,
- С белым пятнышком во лбу,
- Он стоял в траве недвижно:
- Не пытал ещё судьбу.
- Лишь смотрел, смотрел на землю
- С изумлённой немотой,
- И вскипали синь и зелень
- В теле радостью тугой.
- Слушал птиц и трактор в поле,
- Потрясённо замирал,
- И поскольку он не помнил —
- Ничего совсем не знал.
- Ни узды, кнута, ненастья,
- Никаких иных времён…
- Время всех других прекрасней
- То, в котором ты рождён!
1973
Ольха
- Куда такой до белотелых,
- Уже зазнавшихся берёз.
- Она и спорить не хотела,
- А место ей и так нашлось.
- Пошла к реке, всё низом, низом.
- Да посмелей, да потесней.
- И средь зимы туманцем сизым
- Стоит на стылой белизне.
- Пурга навалится нередко.
- И хоть удары и легки,
- Трясутся с шишечками ветки,
- Как сухонькие кулачки.
- А солнце вытает и вспыхнет,
- Она, как зайца, пряча снег,
- Вдруг развернёт листочки тихо
- И улыбнётся раньше всех.
- Её теснят всё дальше в сырость…
- Ну что ольха? Бедна, мала.
- Но на земле, где жил и вырос,
- Мне и ольха навек мила.
1980–1990
Ромашка
- В октябре, на глине тяжкой,
- В час, когда я изнемог,
- Круглолицая ромашка
- Осветила бугорок.
- Словно мне кивнула: «Здрасьте!»,
- Белозубо рассмеясь.
- Не заляпало ненастье,
- Не пристала к девке грязь.
- Вея молодостью нашей,
- Перед вьюгой не дрожа,
- Знай красуется бесстрашно
- Ослепительно свежа.
1994
Синицы
- Открыл глаза. Иль снится?
- Нет, слышу перестук.
- Гуляют две синицы
- Почти у самых рук.
- У них желтеют грудки,
- Чернеют колпачки.
- Ах, до чего же чутки,
- Стремительны, легки!
- Взлетают – светом брызжут
- В распахнутом окне,
- С окна на стол. Всё ближе
- И всё звончей – ко мне.
- Мол, пишешь всё про землю,
- К ней припадаешь ниц,
- Но в мире новоселью
- Не быть без нас, синиц.
- Мол, журавли далёко,
- Их мало, журавлей.
- А мы – у самых окон,
- Взгляни и пожалей.
- И, поклевав листочек,
- Где не закончен стих,
- Плеснули пару точек,
- А может, запятых.
- Боюсь пошевелиться,
- Восторженно смотрю,
- Но, скок-поскок синицы
- И фуркнули в зарю.
1983
Рябины
- За окошком рябины,
- А в просветах рябин
- Рожь крылом голубиным
- Машет с ближних равнин.
- На листах, что в ладонях,
- Тяжелеет роса,
- Словно ягод зелёных
- Молодая краса.
- Только ягодам – рано,
- Подожди, подожди:
- Скоро прошвой багряной
- Небо вышьют дожди.
- С облаков серебристых
- Лёгкой палкой опять
- Будет женщина кисти
- Огневые срывать.
- Будто сгрудит в охапку
- Догоревший закат,
- Кисти пламенем зябким
- Возле щёк заблестят.
- Самых крупных и самых
- Спелых ягод возьмёт
- И за зимние рамы
- Их насыплет вразлёт…
- Засвирепствуют вьюги,
- Но рябина опять,
- Словно жаркие угли,
- Будет в окнах мерцать.
- Снега белые горы
- Наметёт там и тут,
- Окна в красных узорах
- Над снегами всплывут.
- И среди этих окон
- Будет вновь без конца
- Возникать одиноко
- Очертанье лица.
1970
«Тревожно, и сладко, и грустно…»
- Тревожно, и сладко, и грустно
- Звенят надо мною опять
- Берёзы – зелёные гусли,
- И сердце ничем не унять.
- Дивлюсь сам собою: откуда
- Во мне эта древняя грусть?
- И солнцу, как рыжему чуду,
- Задумчиво поклонюсь.
- Мне хочется землю ворочать,
- Парную и тяжкую, всласть
- И в борозду позднею ночью
- От устали навзничь упасть.
- И тянет у заводей диких
- Костры распалить веселей,
- На палках, как будто на пиках,
- Поджаривать сизых язей.
- Сидеть по-язычески строго
- И, к сердцу приставив ладонь,
- Глядеть на косматого бога —
- На этот всесильный огонь.
- И сам понимаю, что странно,
- И я не такой уж чудак,
- Но хлынут весною туманы,
- И хочется именно так.
1964
В грозу
- Полыхнуло яростным и белым,
- Прочь откинув темень. И тогда
- Обожгла глаза оцепенело
- На низинах за пять вёрст вода.
- Снова мрак. Но в эту же минуту
- Обвалилась будто бы гора.
- Кто-то поле с крышей перепутал,
- Прокатил по крыше трактора.
- Припадай к земле, душа живая!
- Затрещало небо, не щадя,
- Потолок и стены прошибая
- Огненными клиньями дождя.
- Что тут делать? Верь в Илью-пророка
- Или в электрический разряд,
- Но душа от огненного ока
- Мечется, как тыщу лет назад.
- И со страхом женщина прижалась
- К мужу, уж не видя ничего,
- В беззащитной слабости призналась
- Перед вечным мужеством его.
1975
Тетерев
- Он только это запомнил:
- Споткнулся о что-то с разбега,
- Не зная, что это ладони,
- Ладони доброго человека.
- И только тогда поверил,
- Что с ним случилось неладно,
- Когда озябшие перья
- Кто-то тепло разгладил.
- Он так и замер от страха
- И сунулся в ки́пень снега,
- Не зная, что это рубаха,
- Рубаха доброго человека.
- Звенели по насту лыжи,
- Визжали на поворотах,
- И он над собою слышал:
- Ругал человек кого-то.
- И вот, озарённый светом,
- Он ринулся в тень неловко,
- Не зная, что печка это,
- А не старая ёлка.
- Ему человек в охапке
- Наваливал веток к ночи,
- Где много влажных и сладких,
- Пахнущих лесом почек.
- А вскоре ранью белесой,
- Когда на озёра окон
- Заря потекла из леса
- Подснежным клюквенным соком,
- Он крылья раскинул натужно,
- Почуяв снова здоровье,
- И красными полукружьями
- Затрепетали надбровья.
- И шея зобом набухла,
- И рябь прокатилась шеей,
- И что-то забулькало глухо,
- Потом всё гуще, слышнее —
- И вот поплыла из окошка,
- Пугая старух суеверных,
- Тоскливая песня терёшки
- Над всею сонной деревней.
- Он вспомнил рассвет, и ельник,
- И отклик ему понятный,
- И то, как черкал соперник
- Крыльями снег примятый.
- И всё, что было когда-то,
- Вновь волновало душу…
- А человек на кровати
- Сидел одиноко и слушал.
1961
«Ещё на небе было чисто…»
- Ещё на небе было чисто
- И зеленел ещё лужок,
- Но уж чутьём корней и листьев
- Берёзы поняли свой срок.
- Оцепенели поначалу,
- Дивя прохожих красотой,
- Потом со сдержанной печалью
- Опали вьюгой золотой.
- И тут погасли, как лучины,
- Потом их снегом замело.
- Вблизи, а вот неразличимы:
- Кругом бело, кругом бело…
1973
Волнушки
- Зарастают к деревне дороги
- На иных перегонах лесных.
- Отзвенели напевные дроги,
- Ондрецы отстучали на них.
- И где раньше хрипела гнедая
- И державно насвистывал кнут,
- Словно белые блюдца, рядами
- В колее лишь волнушки растут.
- Были дни – я от них не отрёкся, —
- Когда здесь средь лесов и болот
- Под бедой и нуждою колёса
- Зарывались до синих пород.
- А просёлки тянулись всё дале,
- Всё упрямей, всё боле числом
- И в ту горькую пору вязали
- Фронт и тыл неразрывным узлом…
- Я не этим сегодня растроган,
- Что иным молодым невдомёк,
- Как пришли мы к весёлым дорогам
- От таких невесёлых дорог.
- Упрекать за неведенье странно.
- Я от малой грущу ерунды:
- Не одни колеи зарастают —
- Зарастают и наши следы.
- …Я стою, а с корзинками рядом
- Ребятня пробегает вперёд
- И дивится: стоит что-то дядя
- И волнушек, чудак, не берёт.
1972
«День или вечер – не понять…»
- День или вечер – не понять.
- О, дождь нас доконает.
- Рванулся «газик», но опять
- Рванулся до канавы.
- В крыльце стою, тоска берёт.
- Что ж, закаляй характер.
- Из птиц лишь слышен самолёт,
- А из зверей – лишь трактор…
- Наутро встал, гляжу в окно —
- Лес облетевший красен,
- Красна стерня, село красно,
- Красны жердины пря́сел.
- И возле красной колеи
- Жар-птицею ворона
- И снегирями воробьи
- Разыскивают зёрна.
- Ах, боже мой, какой денёк
- Сменил-таки потёмки!
- И вздох глубок, и шаг лего́к,
- И все дороги звонки.
1976
«Лес впитывал сумерки, прятал…»
- Лес впитывал сумерки, прятал
- И так чернотою набряк,
- Что вместо берёзок опрятных,
- Как нечисть, таращился мрак.
- Повеяло близостью зверя,
- И люди почуяли страх.
- Родимому лесу не веря,
- Шагали домой впопыхах.
- И всё потонуло во мраке…
- Но, светлый готовя излом,
- Ручьями звенели овраги,
- Речушки дышали теплом.
- И первая смелая птица
- Запела, и сразу за ней,
- Чтоб утром себя не стыдиться,
- Защёлкал во тьме соловей.
- И в небе сверкнули полоски,
- И росы сверкнули в ответ,
- И, мрак отряхая, берёзки
- Поплыли на розовый свет.
1981
«Стоит березняк с замираньем…»
- Стоит березняк с замираньем,
- А в нём налита дополна
- Креплённая инеем ранним
- Янтарная свежесть вина.
- Поодаль рябинник пылает
- В косых и прохладных лучах,
- И брызги багряные ягод
- Рябиновкой так и горчат.
- А рядом с дорогою торной
- В отаве, что пена, густой
- Шиповника рыжие зёрна
- Томятся, как бражный настой.
- Но голову хмелем не кружит,
- Хоть кружится всюду листва.
- Душа от предчувствия стужи,
- Как сжатое поле, трезва.
1975
«Как свернул за поля, так и замер…»
- Как свернул за поля, так и замер:
- Предо мной, будто ждал с давних пор,
- Поднимался из детства тот самый,
- Да, тот самый, забытый угор.
- Ах, каким он бывал крутосклонным!
- Заползём и не верим глазам —
- В солнце весь! И над полем зелёным
- Он желтел, будто солнышко, сам.
- А теперь затенили осины
- И осыпался прежний откос.
- И его я за выдох осилил,
- Встал – и сердце внезапно зашлось.
- А вдали за осинами синий
- Вдруг открылся всей жизни простор,
- Будто высился горной вершиной
- Подо мною заросший угор.
1975
Предок
- Кто он был? В каком таком обличье?
- Он стоял на фоне синевы,
- И сквозило что-то необычное
- В повороте смелой головы.
- Что-то в нём былинное сквозило:
- Вот поднял он руку, за́стя свет —
- А в руке буграми ходит сила,
- Всё он может, стоит лишь посметь.
- Вот рукою, чтобы не торчали,
- Он поправил волосы слегка,
- И уже задетые нечаянно
- В небе закачались облака.
- Он – один. И никого здесь кроме.
- Сам себе пока – слуга и князь.
- А вокруг леса. Синеют кроны,
- Как курганы, в небе громоздясь.
- Он развалит синие курганы
- И достанет клады, а потом
- Эти клады чисто остругает
- И отешет ярым топором.
- И тогда он явит миру золото,
- Хохоча от щедрости хмельной,
- Рубленое, пиленое, колотое,
- Пахнущее соком и смолой…
- И пошёл он, жилистый и крепкий,
- Ельниками тёмными не зря —
- Брызгали испуганные щепки,
- Шлёпались в озёра и моря.
- И где стыли сумерки сырые,
- Как подвалы вековые, там
- Синь и солнце хлынули впервые
- По его размашистым следам.
1962
«Чудно, разгульно, праведно…»
- Чудно, разгульно, праведно
- Живали наши прадеды.
- Работой душу тешили
- Узорной, озорной,
- А тело небезгрешное —
- Медвяной ендовой.
- Любили речь красивую,
- Густую, будто квас,
- Чтоб соками и силою
- Потом бродила в нас;
- Умели и не то ещё
- Насмешники, врали́,
- Не только имя-прозвище
- Каждому дарить.
- А прозвища такие —
- Хоть падай, хоть стой:
- Одно словцо подкинут —
- И человек нагой.
- Вот жил (как звать, не знаем)
- Занятный мужичок.
- Молчит, бывало, днями
- Да жарит табачок.
- Но лишь хлебнёт из кружки —
- Откуда что бралось:
- Частушки-нескладушки
- Воротит вкривь и вкось.
- Ну, а жена – вот баба!
- Такой всё нипочём:
- Его за ворот сграбав,
- Завалит на плечо
- И тащит в клеть, в чуланчик,
- А мужичок поёт.
- – Смотри-ко! Рябчик, рябчик! —
- Хохочут у ворот…
- Пообмывали зубы,
- Повострили слов:
- Катаник. Бубен.
- Коч. Перевесло.
- Фунтик. Спица.
- Зайчик. Долото…
- Метёт на них пшеница
- Пылью золотой.
- А бойкое слово
- Легко на помине —
- Трепещет в основе
- Наших фамилий…
- На брусничном взгорье
- Я снова стою.
- Рождён и вскормлен
- В этом краю.
- И здесь особо грустно мне
- От мысли, что сейчас
- Густое слово русское
- Поотощало в нас.
- Послушали бы прадеды
- И кой-кому в лицо
- По всем по прежним правилам
- Махнули бы словцом
- Ядрёным и отточенным,
- Чтоб стало всем смешно,
- Родительской пощёчиной
- Взбодрило бы оно.
1964
Петряево
- В стороне самой дальней, раздольной,
- Петухами ещё не воспет,
- Воссиял из мужицких ладоней
- Над Двиницей оконный рассвет.
- Обживались смолистые избы,
- Отжимались от пашен леса,
- Ужимались от скупости… лишь бы
- Деревенская слава росла.
- Хоть и верили пра́отцы в леших,
- Только их испугаешь не вдруг…
- В пору зимнюю плотников здешних
- Зазывали аж в Санкт-Петербург.
- Вот и дед мой в родную сторонку,
- Потрудясь, из столицы привёз
- Ветровую, что дождь, медогонку
- Да серебряный ковш и поднос.
- Шли к нему мужики, вызнавая,
- Про Столыпина… Вот новизна!..
- Запчелилась деревня лесная,
- Задышала медово она…
- Да недолго дышала медово:
- Жизнь качнулась враскос и вразброс.
- Покатилось ознобное слово
- Из деревни в деревню – «колхоз».
- Комиссары со злой перебранкой
- Утверждали колхозную жизнь
- И назвали Петряево – «Спайкой»,
- А потом и «Путём в Коммунизм»…
- Усмехнуться б теперь, только горько,
- И уже не до прежних обид…
- Высоко над петряевским взгорком
- Величавая пихта шумит.
- Три ствола её, свитые вместе,
- За три века как будто срослись
- И взметнулись святым троеперстьем
- Над Петряевом в синюю высь.
- Вот шумит и красуется пихта,
- И отрадней становится мне.
- И тяжёлая дума утихла
- В поднебесной её глубине.
1999
Хозяин
- Завидую хозяину:
- Грибов поел – и сыт,
- Прилёг – уже храпит,
- А встал – и свежий заново.
- Возьмёт топор отточенный
- И вновь пойдёт пешком
- Рубить кому-то дом
- И всё такое прочее.
- В одном себе уверенный,
- Уже давно старик
- От слов пустых отвык
- И от пустых намерений.
- А я лежу, ворочаюсь
- И слышу ровный храп.
- Ну, молви он хотя б —
- И ночь была короче бы.
- Но утомлённый бременем
- Работы, а не слов,
- Не слышит он часов —
- Он не страшится времени.
1969
Красные тучи
- Люблю, как надвинутся с кручи,
- Столкнутся один на один
- Грозы тёмно-синие тучи
- И красные тучи рябин.
- В кипенье раскатном и грозном
- Швыряет разгневанный лес
- Охапками крупные гроздья
- В разломы и окна небес.
- Рассеются тёмные тучи,
- А красные, радуя взгляд,
- Ещё ослепительней, жгуче
- От молний упавших горят.
- Горят над полями, домами,
- Над Русью, опять голубой,
- Над нашим крыльцом и над нами,
- Все годы над нами с тобой.
- Над ранней и поздней любовью,
- Над песнями прожитых лет,
- Над жизнью, над смертью, над болью,
- Над теми, кого уже нет.
1977
«Поверишь ли, здесь не природа – чудо!..»
- Поверишь ли, здесь не природа – чудо!
- Иди любой дорогой и тропой —
- Березняки и ельники повсюду
- Шумят гостеприимно над тобой.
- В прохладном мху, в суровом белоусе,
- Под хрупкими валежинами ты
- На спрятавшийся рыжик полюбуйся,
- На нём роса, опавшие листы…
- Усыпан лес грибами и брусникой…
- Ну, а пойдёшь по просеке назад —
- Седые нитки паутины липкой
- На пиджаке и в чубе заблестят.
- Вот и река. Подъязки плещут сонно.
- Вода, как полночь, у кустов черна.
