Очерки об истории и философии йоги
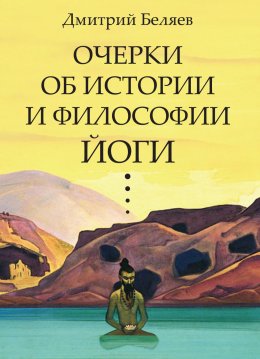
© Беляев Д.Я., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025
Предисловие
Что думает мрамор, из которого скульптор высекает шедевр?
Ж. Кокто. Орфей
А что если и самого мрамора ещё нет, впрочем, как не родился ещё и скульптор, как быть тогда?
Сколько нужно прочесть книг, повестей и текстов, предложений и заметок, комментариев и цитат, чтобы стать (наконец) мудрым? А сколько из всего этого объёма текстов по-настоящему необходимы человечеству для этой мудрости? В чём вообще заключается основной смысл или фундаментальная задача любого текста?
Перед глазами читателя сегодня оказался любопытный текст. Мне удалось его прочесть дважды, в чём-то не согласиться с автором, чем-то восхититься, но в конечном итоге заключить: текст стоит прочтения.
Как я это понял?
Артур Шопенгауэр рассуждал о том, что существует два рода писателей: одни пишут ради предмета, другие ради самого процесса письма, в конечном итоге, ради заполнения бумаги. Дмитрий пишет, конечно, ради самого предмета, который ему в первую очередь дорог и уже во вторую – достаточно известен.
У меня вызывал опасения сам замысел Дмитрия писать о философии йоги, пусть даже очерки, причём о её истории. Как отмечает сам писатель, «индийская традиция абсолютно не приемлет какую-либо историчность». Принцип древности – вот основной инструмент для понимания этой традиции. Однако писатель поставил для себя высокую цель – постараться стать нашим проводником на пути дружбы, или больше, как бы сказал Конфуций, – взаимности с индийской традицией. В этом смысле текст вышел по своей направленности сугубо философским.
Йога, дзен, дхарма и карма, упанишады и веды – это понятия, с которыми сегодня знакомы очень многие, но знакомы не близко. Одной из основ герменевтики Х. Г. Гадамера был тезис о принципиальной возможности объяснения при наличии знания и понимания. Соответственно, если человек не способен объяснить то, что якобы понимает, следовательно, по мысли Гадамера, человек не знает предмет своего рассказа. Шибболет часто выдает тех, кто говорит об индийской традиции: повторяются одни и те же термины, события, обороты речи, своеобразная аура загадочности и тайны, которая так и не раскрывается перед читателем.
Писатель в этом тексте избрал иной подход, чего только стоит изложение похождений Вишну в пятом очерке. Что касается других очерков, то в первом нас ждёт знакомство с некоторыми важнейшими понятиями традиции, среди которых и Дхарма, с философской рефлексией и попыткой найти пересечения с другими традициями. Второй очерк посвящён шести ортодоксальным школам Индии. Третий знакомит нас с Буддой и Нагарджуной – тем, кто видит, по мнению К. Ясперса, вещи в их пустотности. Четвёртый очерк вновь поставит перед нами вопрос о необходимости изучения биографии автора текста или корпуса текстов, в случае, когда говорить об этой биографии трудно, как при наличии двух Патанджалей. Если читатель вспомнит о софизме «Рогатый» и главном приёме, на котором он строится, то четвёртый очерк подарит новое осмысление идеи об обладании и необладании тем, что нам не принадлежит и никогда не принадлежало в контексте идеи астейи. Пятый очерк поведает не только о похождениях Вишну, но расскажет о «Бхагаватгите». Шестой очерк расскажет о многом, в частности о мраморе, что упомянут в эпиграфе к этому предисловию. Под конец текста писатель делится своими соображениями и идеями о джедаизме. Этим заканчивается текст, но «Принцип древности» открывает нам мудрость, что конец был началом, а начало и было конечной точкой: Веды и Упанишады содержат в себе абсолютную истину, таково представление об этих текстах тех, кто её разделяет.
Так какой же в конечном итоге смысл текста, если истина есть (её не может не быть), она известна и абсолютна? Если мы говорим вслед за Шопенгауэром о тех, кто пишет ради самого предмета, то правдоподобным кажется ответ – понимание. Конфуций будет и здесь к месту: взаимное понимание между писателем этого текста и читателями.
Писатель в грядущем тексте проявляет заботу о читателе: рассказывает о культах, о которых не принято рассказывать при первом знакомстве. Также старается нас наставить на путь истинный в понимании тантры, которая в представлении рядового обывателя потеряла свой изначальный посыл. Что увидит в этой заботе читатель – вопрос риторический. Однако раз писатель решил говорить о предмете, стало быть, тексты, которые он встречал до этого момента, были иными, раз потребность в этом он замечает.
Чем точно не является этот текст? Попыткой апологии, что существует индийская философия, у неё есть история и прочие атрибуты. Это авторская попытка рассказать, быть проводником в запутанной вследствие особых исторических особенностей традиции. Как начальным этапом в знании четырёх истин Будды является видение, так важна базовая подготовка в деле понимания и в попытке быть самому себе светильником.
Если у вас есть желание понять эту традицию, разобраться в ней, эти очерки могут сыграть здесь свою положительную роль. А также если вам интересно, почему столько людей посвятили свою жизнь этой традиции, как она на них повлияла. О чём молчат эти люди, или, вернее, почему их ответы кажутся такими путанными при прямоте вопросов – этот текст может способствовать и этому пониманию.
Зачем такие глыбы философии, как А. Шопенгауэр, который обращался к идеям буддизма, Ф. Ницше, который называл буддизм гигиеной, К. Ясперс, который поставил Будду и Нагарджуну в ряды «великих философов», это делали? В чём было их откровение и почему они занимались исследованием этой традиции? Об этом тоже может поведать этот текст, пусть и опосредованно.
Мартин Бубер, представитель «философии диалога» и мыслитель XX века в своей работе «Я и ты» писал: «Мы не знаем, приводит ли Будда к цели – к избавлению от неизбежности всё новых перерождений. Несомненно, он приводит к промежуточной цели, которая стоит перед нами, – к установлению единства души». Таким образом, не просто научным интересом, а предпосылкой некоторых философских текстов становилась индийская традиция.
Возможно, чтение этого текста станет для вас формой медитации. Расскажу вам историю, которой поделился со мной преподаватель во времена моей учёбы в аспирантуре. Знаете ли вы, кого в древности называли пупкосозерцателем? По-латински пупком назывался округлый конец стержня, к которому крепился крайний лист свитка папируса или два крайних листа. Пупкосозерцателем был не йогин, что выбрал для дхараны пупочный центр, а тот, кто прочёл книгу до конца. Эту информацию нельзя проверить путём простого поиска в интернете или энциклопедиях. Теперь это ваша история. Или всё-таки по-прежнему моя? Была ли она моей когда-то? И была ли она именно такой, какой я её рассказал? Или история всё ещё принадлежит моему учителю и его учителю, что рассказал ему эту историю?
Ясперс укажет на то, что «…получение совершенного познания в состоянии, которое само есть отсутствие мышления, поскольку посредством мышления являет себя как нечто “большее – чем – мышление”» – это позитивная сторона цели некой видимости в мире, что, по его разумению, является чем-то действительным и реальным. Есть и негативная – «…отвержение всей метафизики как знания об ином, противостоящем мне бытии…».
Делать ли что-то во благо всех живых существ или не делать – решать вам, но, если соберётесь делать, важно быть правильно подготовленным. Для этого стоит узнать о традиции больше. Позвольте представить вам подходящий для этого текст.
Кандидат философских наук
Г. С. Андреев
Йог – индийский мудрец, который в глубокой сосредоточенности размышляет о том, как ему развязаться.
Анонимный польский школьник
От автора
«Я не волшебник, я только учусь…» – с лёгкой улыбкой произносит герой известной советской киносказки «Золушка», снятой по сценарию Евгения Шварца. Так вот и я, уважаемый мой читатель, не профессиональный писатель, ибо добываю хлеб насущный совершенно другим трудом. Но писать я люблю, что, если учесть особенности моей биографии, выглядит для меня довольно-таки странно, ибо со времён ещё школьной скамьи с учителями русского языка и литературы мне хронически не везло. Не везло настолько, что я вчистую забыл их фамилии. Особенно отличилась последняя учительница, умудрившаяся надолго отбить у меня всю страсть к сочинительству. И коли я волею случая сумел-таки стать писателем и даже членом союза таковых, то не благодаря ей, а исключительно вопреки её титаническим усилиям похоронить каждое моё школьное сочинение за плинтусом[1]ввиду неисправимой склонности строптивого ученика к нетривиальным суждениям. Ныне есть все основания полагать, что она уже давно, пройдя через все этапы бардо[2], переродилась в форме отломка бивня Ганеши[3], коим прославленный слоноголовый бог мудрости записывал за Вьясой[4]священные Веды[5].
Значительно позже, совершенно случайно, по милости фортуны, благодаря накопленной карме[6]или какой иной прихоти Всевышнего несколько лет назад я взял на себя труд написать небольшой очерк, который представлял из себя квинтэссенцию моего авторского цикла лекций по истории и философии йоги. Как я написал в предисловии к упомянутому очерку, «изучать философию йоги по этим заметкам полноценно не получится, а вот освежить полученные знания перед экзаменом или через некоторое время после – будет в самый раз».
Позднее я не раз задумывался о том, чтобы выпустить полноценный сборник своих лекций, но так и не дал себе труда взяться за перо, пока меня об этом целенаправленно не попросили. Я согласился немедленно и не задумываясь, ибо сразу стало понятно, что эта книга нужна уже не только мне, а ничто так не мотивирует, как осознание востребованности твоих мыслей. Посему выражаю самую искреннюю благодарность Президенту Федерации йоги России Сергею Репину за его веру в мои силы и знания.
Вступление
Рассказывают, что один из биографов испанского писателя Мигеля де Сервантеса характеризовал его как человека ветреного и мечтательного, которому недоставало житейского умения, и в итоге не сумевшего извлечь ровным счётом никакой пользы ни из своих военных кампаний, ни из своих произведений. Однако это никак не умаляет ни его великодушия, ни благородства, ни прозорливости, ни мудрости, а скорее, напротив, характеризует как личность высоких душевных качеств, коей, как метко выразился Аристотель, не пристало «искать повсюду лишь одной пользы»[7]. Также великому романисту и автору знаменитого «Дон Кихота» приписывают слова о том, что «история – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего»[8].
Такое же, если не сказать большее, значение истории придавал и выдающийся советский палеонтолог, социальный мыслитель и писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов – автор некогда нашумевшего романа-антиутопии «Час Быка». В этой не самой простой для чтения книге Ефремов высказывает идеи об истории как о важнейшей науке, благодаря урокам которой человечество всё же сохраняет некий шанс на своё существование, ибо, по словам Индиры Ганди, «история – самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики»[9]. Однако нами Ефремов особенно любим и даже почитаем за другое его, не побоимся высоких слов, бессмертное произведение – «экспериментальный» роман-приключение «Лезвие бритвы». Возьмёмся утверждать, что ни один представитель старшего поколения, увлёкшийся когда-то по тем или иным причинам йогой, не прошёл мимо этого романа, а в том, что он не оставил их равнодушными, у нас нет и не может быть никаких сомнений.
А посему, приступая к изложению основ философии йоги, мы не сможем и даже не будем пытаться уйти в сторону от её истории в самом широком смысле этого слова, но будем излагать их как нечто неделимое, существующие как «орёл и решка» по разные стороны одной и той же монеты. И первым шагом на этом пути будет объяснение самого слова «йога».
Первое, на что необходимо обратить внимание, дабы пресечь всевозможные несерьёзные спекуляции, если не сказать демагогию, это указание на принадлежность йоги как феномена сугубо индийской культуре.
Именно в рамках индийского наследия мы и будем рассматривать йогу и всё, что с нею связано. Само слово «йога» в переводе с санскрита означает «связь», «соединение», «сопряжение» и, как полагают лингвисты, родственно русскому слову «иго». Иногда под йогой понимают связь человеческого духа с высшим идеальным началом, Абсолютом и даже Богом, что совершенно не согласуется с основными положениями школы классической йоги Патанджали, где такое единение даже не предполагается. Исходя из философии «Йога сутры» – коренного текста школы Патанджали, – под йогой всё же следует понимать сопряжение и связывание воедино мыслей, чувств и иных аспектов психики в процессе сосредоточения на единственном объекте созерцания.
Согласно видному отечественному религиоведу, буддологу, историку философии Евгению Алексеевичу Торчинову, «в индийских текстах термин «йога» употребляется в двух основных значениях и одном второстепенном, хотя, быть может, и первичном. Во-первых, йога означает психотехнику вообще, то есть тщательно разработанный и выверенный традицией набор средств и приёмов для достижения строго определённых трансперсональных состояний сознания, оценивающихся традицией как состояния реализации религиозной прагматики учения – «освобождение» (мокша, мукти, кайвалья, нирвана и т. п.). В этом смысле йога характерна для всех религий традиционной Индии, почему и можно говорить об индуистской йоге, буддийской йоге, джайнской йоге и т. п. Во втором, узком смысле это слово употребляется для обозначения одной из даршан (религиозно-философских систем) ортодоксальной индуистской (брахманской) философии (астика). Эта система, согласно преданию, была создана мудрецом Патанджали и зафиксирована им в «Йога сутрах» («Афоризмах йоги»)»[10].
Нельзя не отметить, что в культуре Индии йога пользовалась и пользуется чрезвычайно высоким авторитетом, а обнаруженный ею путь к высшей цели человеческого существования – освобождению от бесконечного цикла перерождений в колесе бытия – вкупе с накопленным опытом изменённых и расширенных состояний сознания позволяет ссылаться на него в философском диспуте.
Однако стоит заметить, что не йогой единой была сильна индийская философская мысль, но и текстами откровения, что снизошли на святых мудрецов (риши) и были переданы через них людям. Таковыми абсолютно авторитетными текстами считались Веды, а в традиции веданты – ещё и Упанишады. Эти тексты должны были правильно сориентировать подвижника на истинный смысл его духовных поисков, а не на что-либо ещё, как то: обретение различных магических способностей, кои хоть и считались своеобразным маркером успешной садханы (духовной практики), но рассматривались всё же и как неизбежные препятствия на пути духовного мужания, а посему истинный йогин обязан был их всецело преодолеть. Именно к Ведам старалась апеллировать всякая традиционная (ортодоксальная) школа, а признание их непогрешимого авторитета было едва ли не важнейшей чертой индуизма.
Необходимо уточнить, что термин «индуизм», происходящий от названия реки Инд, как поименование национальной религии Индии и одного из крупнейших в мире религиозных направлений по числу последователей, является понятием собирательным, появившимся в трудах западных учёных приблизительно на рубеже XVIII–XIX веков. Сами же индусы[11]для определения своей веры пользуются совершенно другим термином – «саната дхарма», что переводится как «вечное учение». Фактически индуизм представляет собой явление довольно-таки мозаичное и несистематизированное, о котором лидер национально-освободительного движения Индии и один из самых видных политических деятелей мира Джавахарлал Неру в своей книге «Открытие Индии» писал: «Индуизм как вера расплывчат, аморфен, многосторонен; каждый понимает его по-своему. Трудно дать ему определение или хотя бы определённо сказать, можно ли назвать его религией в обычном смысле этого слова. В своей нынешней форме и даже в прошлом он охватывает много верований и религиозных обрядов, от самых высших до самых низших, часто противостоявших или противоречащих друг другу»[12].
Но невзирая на весь этот калейдоскоп культов, всё же представляется возможным выделить некие характерные черты этого религиозного учения: 1) безусловный и непогрешимый авторитет Вед; 2) многогранность истины, а не её единичность; 3) понятие «сансары» как бесконечного цикла «смерти-возрождения» индивидуальной души; 4) закон воздаяния «карма», определяющий последующую реинкарнацию (переселение души, или метемпсихоз); 5) возможность прийти к освобождению от уз сансары (мокша) разными путями; 6) свобода почитания богов и как следствие веротерпимость; 7) плюрализм мнений и недетерминированность определённым набором философских постулатов.
Согласно постановлению Верховного Суда Индии от 2 июля 1995 года, «Тот, кто с поклонением принимает Веды, принимает то, что Освобождения можно достичь различными способами, признаёт ту истину, что можно поклоняться различным Богам, что является отличительными особенностями Индуистской Религии, может быть назван индусом»[13].
Подводя предварительную черту под дефиницией «индуизма», стоит обратить внимание на существующее и поныне в академической среде расхождение в понимании этого термина. Как отмечает в своих работах Торчинов, «часть авторитетных индологов считают, что индуизмом правомерно называть только сформировавшуюся в средние века и существующую до настоящего времени национальную религию Индии, тогда как для более ранних периодов правильнее было бы говорить о ведической (ведийской) религии для архаического периода и о брахманизме – для древности»[14]. Сам же известный философ принципиально не согласен с подобной трактовкой, «поскольку религия Вед, упанишад, эпических текстов и пуранический индуизм представляют собой не разные религии и конфессии, а разные исторические этапы развития одной и той же религиозной традиции, сохранявшей на протяжении всей своей истории доктринальную и скриптуральную преемственность и культовое единство…»[15], поскольку можно «проследить, как из ведической религии вызревает брахманизм упанишад и шести систем, а из него – пуранический индуизм…»[16].
Таким образом, «религия Вед – брахманизм – пуранический индуизм не три религии, а три этапа формирования одной религии»[17], для обозначения которой автор предлагает пользоваться единым термином «индуизм».
На этом мы считаем возможным завершить своё краткое вступительное слово и перейти к непосредственному рассмотрению тем, где будут раскрываться ключевые и основополагающие понятия индийской религиозно-философской мысли.
Очерк I
Об арийском завоевании Индии, дхарме, священных текстах индуизма, сословном делении общества, целях и этапах жизни благородного мужа, самосожжении вдов, законе воздаяния
Отправной точкой нашего повествования будет эпоха ведийской цивилизации, существовавшей, как полагают большинство историков, приблизительно три-четыре тысячелетия назад, когда произошло переселение в Индию кочевых арийских племён, ранее обитавших на просторах Центральной Азии. По своему вероисповеданию они были огнепоклонниками и обожествляли огонь как источник света, тепла и жизни в самых разных его проявлениях, начиная с огня земного (Агни[18]) и завершая огнём небесным (Индра[19]). Более того, божественный статус имели прочие явления и силы природы (Вайю[20], Варуна[21], Сурья[22], Сома[23]и др.), животные, растения, горы и реки. Разгромив египтян, под «лязг боевых колесниц»
