Советские маньяки
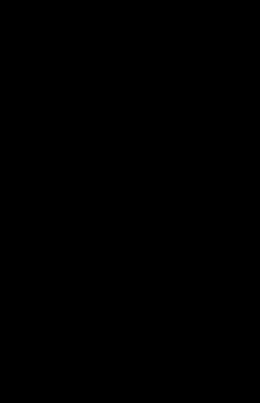
© К.Н. Бальский, 2025
© ООО Издательство АСТ, 2025
Введение
В уголовном кодексе Советского Союза термина «серийный убийца» не было. Нет его до сих пор и в УК Российской Федерации, а за рубежом он стал использоваться примерно с 1970-х годов (считается, что его ввел в обиход профайлер Роберт Ресслер). Ранее эти преступления называли по-разному: убийствами по схеме, убийствами ради развлечения, множественными, на сексуальной почве, беспричинными… И в Советском Союзе, и в Российской Федерации под серийными убийствами понимались и понимаются убийства, состав преступления по которым указан в ч. 2 ст. 105 УК РФ (пункт «а» – убийство двух и более лиц), хотя данный квалифицирующий признак явно не охватывает всей совокупности особенностей серийного убийства.
Усилиями голливудской пропаганды в сознании многих людей укрепилась мысль, что серийный убийца – это некий аристократ среди убийц, убийца-интеллектуал. Мысль эта заведомо ложная. Специалисты по «серийникам» – криминологи, профайлеры, психиатры, следователи – отмечают, что в реальности внутренний мир таких преступников чрезвычайно убог. Это больные, несчастные люди с несложившимися судьбами, которые не умеют и зачастую не хотят контролировать свои патологические склонности. Их чудовищные поступки не только уносят жизни людей, причиняют страдания их близким, но и калечат судьбы родственников самого маньяка.
Подавляющее большинство «серийников» не может похвалиться, как принято сейчас выражаться, «успешностью». В их жизни нет места «личному счастью». Даже мимикрируя, маскируясь под нормальность, они остаются изгоями общества – например, убийцы Ершов и Кашинцев были бомжами; Головкин никогда не имел нормальных отношений ни с одной женщиной; Чикатило страдал импотенцией.
Их убежища, «стационары», где они пытают и насилуют несчастных жертв, у нормального человека могут вызвать лишь ужас и омерзение: это грязные, залитые запекшейся кровью подвалы, пропахшие мертвечиной. А откровения маньяков о своих «удовольствиях» вызывают тошноту даже у видавших виды следователей.
Так почему же родилась легенда о некой особой интеллектуальности маньяков?
Криминологи делят серийных убийц на организованных и дезорганизованных – их большинство.
У дезорганизованных убийц низкий интеллект, а маска нормальности отсутствует. Они плохо ладят с соседями и с противоположным полом, неопрятны, грубы. Часто у них диагностируют психические заболевания. До начала серии убийств они обычно уже попадают в места лишения свободы за другие преступления, среди них много «опущенных», то есть тех, кого в тюрьме изнасиловали.
Убивают они спонтанно. Жертв не пытают, но наносят им множество ран, грызут, кусают, пожирают их плоть.
Но есть очень незначительная часть убийц, которые внешне выглядят как совершенно обычные, нормальные люди. Свои преступления они тщательно планируют, а улики подчищают, поэтому их называют «организованными маньяками». Часто такие убийцы стараются много путешествовать, чтобы не убивать поблизости от своего дома и тем самым снизить риск поимки. При этом организованные маньяки могут быть крайне жестокими: они не просто убивают, а пытают своих жертв, не испытывая при этом ни капли жалости.
Даже после задержания организованные серийники стойко ведут себя на допросах, не поддаются на провокации, ответы их продуманы, а потому доказать их вину бывает крайне сложно. В тюрьме они выглядят примерными заключенными и убедительно изображают исправление и раскаяние, но верить им не стоит.
Так зачем же эти умные люди, способные к творческому самовыражению, убивают?
Давайте рассмотрим, чем отличается маньяк от убийцы-рецидивиста.
Нормальный человек с некоторым трудом, но все же может понять, что можно убить из мести – лютого врага, причинившего тебе много бед. Но зачем убивать совсем незнакомого человека, тем более ребенка?
Можно понять, что некоторые убивают ради грабежа. Да, безусловно, осудить этот поступок – но понять: жертва не хотела отдавать кошелек, вот ее и «грохнули». Но зачем убивать, если пресловутый «кошелек» никакого интереса не представляет? Получается, что убийство становится самоцелью – и это уже в голове не укладывается.
Действительно, для маньяка убийство – это то же самое, что наркотик для наркомана. Если маньяк лишается возможности убивать, он испытывает мучения, напоминающие ломку у наркомана. Поэтому многие психиатры рассматривают состояние этих субъектов (язык не поворачивается назвать их людьми) именно как болезнь, ненормальность, неполноценность. Пусть даже они изворотливы и хитры.
Наука против убийц
Ловить убийц – и серийных, и рецидивистов, да и грабителей тоже – помогает наука. В первую очередь это такие прикладные дисциплины, как криминалистика, криминология и судебная психиатрия.
В учебниках по криминалистике объясняется, какие следственные действия нужно провести на месте преступления, что делать с уликами, как опрашивать свидетелей. Потребовались столетия, чтобы выработать все эти методики.
Эту очень важную науку не нужно путать с криминологией, изучающей сами преступления. Криминология очень близка к девиантной социологии и включает некоторые черты психологии. Она занимается преступностью вообще, а изучение маньяков – один из ее разделов.
Есть еще и судебная психиатрия: специалисты-профайлеры, образно говоря, пытаются забраться к злодею в голову и понять, почему совершено преступление.
Ответить на этот вопрос зачастую очень сложно. Криминологи и психиатры различают понятия «мотив» и «мотивировка». Мотивировка – это то, чем сам преступник объясняет свои поступки. Например, бросила невеста – стал мстить всем женщинам, убивая их. А вот мотив – это то, что на самом деле движет преступником, это тайна, скрытая в глубинах его уродливой души. Вычислить истинный мотив бывает очень сложно, но нужно – чтобы впоследствии понимать образ действий других серийников и ловить их как можно быстрее. Не бывает преступлений без мотива, но бывают преступления немотивированные, то есть без мотивировки, необъяснимые для нормального, доброго человека.
Традиционной считается классификация, согласно которой серийников делят на властолюбцев, которые стремятся самоутвердиться путем убийств; гедонистов, убивающих ради сексуального удовлетворения; психотиков – то есть откровенно больных людей, страдающих различными формами психических расстройств; визионеров, играющих с трупами несчастных жертв словно с куклами; миссионеров, считающими себя вправе решать, кому жить, а кому умереть; и меркантильных – то есть убивающих ради мизерной наживы. Есть еще и каннибалы, совершающие преступления с целью употребить тело жертвы в пищу.
Увы, классификация эта несовершенна: убийцей могут двигать сразу несколько мотивов либо один глубинный мотив, который проявляет себя по-разному. Поэтому предлагаются и другие способы классифицировать серийников. Так, ведущий российский криминолог Юрий Миранович Антонян делит убийц на тех, что действуют по сексуальным мотивам, – их большинство; и тех, кто асексуален. Другие российские криминологи выделяют три основные группы мотивов: самоутверждение, замещение, самооправдание.
Самым распространенным считается самоутверждение, то есть стремление человека к достижению определенного социального статуса. Будучи неспособным завоевать уважение окружающих или хотя бы самоуважение законным путем, убийца встает на путь преступления. Изнасиловав и убив жертву, он сам себе кажется значимой личностью, наделенной огромной силой. Об этом на допросах твердили многие убийцы – и Головкин, и Чикатило…
Что касается мотива замещения, то он проявляется в тех случаях, когда основная цель для преступника недостижима по каким-либо причинам и убийца заменяет ее другими, суррогатными, целями – более доступными. Ненавидя кого-то, например, свою уже покойную мать, убийца карает других женщин, чем-то на нее похожих. Так поступал Филиппенко, возненавидевший бросившую его супругу. Анатолий Нагиев мечтал убить Аллу Пугачеву, но так как до нее самой добраться не мог, то насиловал и убивал внешне похожих на нее женщин.
Мотивы самооправдания видны в тех случаях, когда маньяк представляет себя жертвой репрессий, вероломства и бесчеловечности других людей. Так, маньяк Михасевич признавался: «Женщины меня часто обижали, и я с детства копил на них обиду, к мужчинам никакой злобы, даже если они меня тоже обижали, а вот женщин я не считаю за людей. Они и только они виноваты во всех неполадках в моей жизни». Потом Михасевич обратился к представителям закона: «Для вас (убийства) это незаконно, а для меня законно, так как многие люди делают на свете подобные вещи, я не хочу рассказывать вам все, что я думаю, так как вы будете смеяться, я достиг своей цели, я их убивал и тем самым снимал со своей души тяжесть».
Советская криминалистика
Эта книга посвящена не просто серийным убийцам, а тем из них, кто действовал в советское или близкое к этому периоду время. Срок довольно долгий: Советский Союз существовал с 1922 по 1991 год. За семьдесят лет успело смениться несколько поколений, менялось мировоззрение людей, развивалось следственное дело. И, конечно, все это отразилось на том, как ловили преступников. Если в первые годы существования СССР мало кто из следователей мог похвастаться высоким образовательным и профессиональным уровнем, если в 1960-е годы еще шла дискуссия о том, возможны ли в стране победившего социализма серийные убийства, то в 1980-е советские психиатры уже продвигали свои методики их выявления.
Конечно, в молодом советском государстве следственное дело формировалось не на пустом месте: основы заложили еще в царское время. Первое в России пособие, содержащее общие правила и тактические приемы расследования преступлений, «Зерцало правосудия», вышло еще в 1805 году. Там было названо несколько направлений изобличения виновного: «от лица» потерпевшего, «от причины», «от дела» – то есть от самого происшествия, «от места», «от способа», «от орудий», «от времени». Ну а за сто с лишним лет криминалистика получила достаточное развитие: журналы «Право», «Вестник полиции», «Журнал министерства юстиции», «Юридическая летопись», «Журнал гражданского и уголовного права», а также «Юридическая газета» и «Судебная газета» публиковали статьи иностранных и отечественных криминалистов, что весьма способствовало распространению криминалистических знаний среди юристов-практиков.
А вот революция все это отменила! Ведущие отечественные криминалисты – В.И. Лебедев, С.Н. Трегубов, Б.Л. Бразоль – оказались в эмиграции, многие научно-судебные кабинеты были разграблены, а органы полиции, суда и прокуратуры ликвидированы.
Коренным образом изменились правовая и методологическая основы криминалистики, поскольку уголовное и уголовно-процессуальное законодательство были пересмотрены.
И хотя некоторые царские следователи продолжили работать и при новой власти, например Сергей Михайлович Потапов, в целом советским криминалистам пришлось накапливать новый опыт. Первую попытку определить предмет и содержание советской криминалистики предпринял в 1921 году Герберт Юлианович Манс, рассматривавший криминалистику как прикладную дисциплину, которая «изучает способы совершения преступлений, быт уголовного элемента, приемы расследования преступлений и идентификации преступников». В 1937 году Манс был репрессирован и расстрелян.
Но он был не одинок. Много сделал для развития отечественной криминалистики и Иван Николаевич Якимов, издавший в 1924 году «Практическое руководство к расследованию преступлений», а четыре года спустя – книгу «Искусство допроса».
В 1935–1936 годах вышел в свет первый советский учебник по криминалистике, в котором имелись разделы по уголовной технике и тактике, а также методике расследования преступлений. В 1938–1939 годах его переиздали с некоторыми исправлениями и дополнениями. Следует отметить, что этот учебник содержал и учение о профессиональном преступнике, его привычках, суевериях и жаргоне, а также другие данные, которые позднее были отнесены к предмету криминологии.
Советская криминология
Основоположником советской криминологии считается Михаил Николаевич Гернет. Свою деятельность ученый начал еще в царское время. По окончании юридического факультета Московского университета за сочинение «О влиянии юного возраста на уголовную ответственность» он получил золотую медаль, а спустя несколько лет Гернет уже был приват-доцентом. По его предложению был создан музей уголовного права. Он вел первый в русском университете криминологический семинар. Объясняя причины возникновения преступности вообще, Гернет на первое место ставил социальный фактор. С этим трудно поспорить: часто именно нужда толкает людей на преступления. Сочувствуя несчастным, преступившим закон из-за крайней бедности, Гернет боролся против смертной казни.
Его взгляды – особенно то, что он связывал причины преступности с природой капиталистического строя, с бедственным условиями жизни рабочих в царской России, – были позитивно восприняты советской властью. Это вполне отвечало существовавшей в те годы идеологической установке: преступность порождается исключительно негативными социальными условиями, а в совершенном социуме преступников нет.
Действительно, после революции многим казалось, что вот еще немного – и жизнь станет прекрасной и справедливой, а люди перевоспитаются и перестанут красть и убивать. Так думали даже ученые мужи – правовед Михаил Михайлович Исаев, специалист в области уголовного права, профессор Николай Николаевич Полянский, их коллега Аарон Наумович Трайнин и многие другие.
Ну а Гернет так и вовсе утверждал, что единственной причиной любой преступности является социально-экономический строй. К сожалению, жизненные реалии противоречили его теоретическим выкладкам: несмотря на то, что советский народ усердно строил социализм, преступность на спад не шла. Причем жестокие убийства совершали не только «недобитки», представители свергнутых классов, но и молодые люди, воспитанные уже при советской власти. Это заставляло криминологов задумываться.
Надо признать, что первое время властные органы не отмахивались от проблемы: новая власть относилась к личности правонарушителя с большим вниманием, и в начале 1920-х в крупных городах возникли Кабинеты по изучению преступности и преступников.
Владимир Леонидович Орлеанский – начальник административного отдела Московского совета, – весной 1923 года предложил провести исследование заключенных московских арестных домов. Около 150 студентов отправились в тюрьму опрашивать заключенных, выясняя, какие страшные и неприятные жизненные события толкнули их на путь преступлений. Студенты сумели внушить доверие арестантам, и те отвечали вполне искренне. Так был собран уникальный материал. Эти исследования были обобщены в вышедшем в 1924 году сборнике «Преступный мир Москвы» под редакцией Гернета. Сборник также включал статьи Е.К. Краснушкина, С.А. Укше, В.И. Куфаева и других.
Криминалист и блестящий криминолог Сусанна Альфонсовна Укше, цитируя итальянского криминолога Энрико Ферри, писала, что предумышленный убийца являет собой продукт наследственного вырождения и страдает ненормальностью физиологической чувствительности. «Эта ненормальность выражается нечувствительностью к собственным страданиям и крайней притупленностью или даже отсутствием инстинкта самосохранения, а также нечувствительностью по отношению к страданиям жертвы». Такие убийцы обнаруживают «холодную жестокость при совершении преступления и апатическое равнодушие после его совершения». Они не знают раскаяния, с циничным хладнокровием описывают детали убийства, говорят о возможности рецидива и обнаруживают полное равнодушие к приговору. Сусанна Укше отмечала, что вся деятельность такого убийцы носит отпечаток фатализма. Эта талантливая женщина уже в те годы вплотную подобралась к пониманию личности серийного убийцы, хотя еще не употребляла этого термина, заменяя его термином «профессиональный убийца» – то есть она не различала рецидивистов и маньяков.
Чтобы найти ответ на вопрос, как искоренить преступность, в 1925 году при НКВД РСФСР по инициативе Главного управления местами заключения был создан Государственный институт по изучению преступности и преступника. Несколько лет он плодотворно работал, сотрудниками института были собраны весьма ценные материалы, а потом установка сменилась: теперь все науки, даже прикладные, были поставлены на службу идеологии. Особенно это касалось тех, что изучали социум. От ученых более не требовался поиск истины, наоборот, они обязаны были подгонять факты под идеологически приемлемый результат. Поэтому советские криминологи из кожи вон лезли, доказывая, что еще немного, еще чуть-чуть – и преступность в СССР сойдет на нет. Ведь об этом твердили идеологи. Но ничего похожего не происходило. И тогда сотрудников Кабинета по изучению личности преступника обвинили в неоломброзианстве, то есть в попытках вернуть к жизни устаревшее учение Чезаре Ломброзо. Примечательно, что письма в защиту Кабинета писали не только ученые, но и сами заключенные: «…многим из нас стало ясно, что существует другая, более хорошая, чем наша, жизнь, к которой мы будем стремиться всеми силами», – говорили они. Но, увы, как это часто бывало, заступничество ни к чему не привело, и криминология была объявлена лженаукой. В 1930-х годах криминологические исследования были свернуты, кабинеты на местах ликвидированы, криминология изъята из программы юридических вузов. Статистика преступлений была переведена в разряд государственной тайны.
Криминологов обвинили «в идеологических извращениях» и «протаскивании буржуазных теорий». Некоторые сотрудники подверглись репрессиям, так, Сусанна Укше – этническая немка, к тому же цитировавшая итальянца Ферри, близкого к кругу Муссолини, отправилась в ссылку, где погибла, фактически, от голода.
Первые советские маньяки. Меркантильные серийники
А работали ли вообще теории Гернета? Частично – да. В тяжелые для страны времена возрастала и преступность. В первые послереволюционные годы в стране появлялось множество банд, безжалостно грабивших и убивавших ни в чем не повинных людей.
Например, банда многократно судимого Николая Сафонова по кличке Сабан. Убили они более 30 человек, а награбили аж на 4,5 миллиона рублей. По тем временам это были очень большие деньги.
Потом Сабана убил его же подельник Морозов и продолжил зверства. Но каждый раз главным для бандитов была добыча: убив всю семью богатого крестьянина Исаева, они похитили 100 тысяч рублей. В другом доме взяли 15 тысяч…. А в конечном итоге бандиты перестреляли друг друга, не поделив ценности.
Меркантильными побуждениями руководствовался и Иван Белов по кличке Белка, в чью банду входило полсотни человек. Они занимались грабежом квартир и государственных учреждений, выдавая себя за сотрудников ЧК. Если жертвы отдавали все ценности добровольно, то их оставляли в живых. Всего они совершили как минимум 27 убийств, не менее 200 краж, разбоев и грабежей, ранили 18 человек.
Для членов обеих банд на первом месте стояла нажива, а убийства были лишь средством на пути к обогащению. То есть они были не серийными убийцами, а убийцами-рецидивистами. Разница проста: для рецидивиста убийство – лишь средство, чтобы получить некую выгоду. Если он сможет обогатиться, не проливая кровь, то так и поступит. А вот серийный убийца – нет! Для него насилие – не средство, а цель. А грабеж служит лишь для оправдания этой жуткой цели.
Банда Котова
Были в те годы бандиты, зверства которых нельзя объяснить логикой. Получаемая ими выгода несопоставима с тяжестью преступлений.
Одна из таких банд действовала в Курске и окрестностях, а руководил ей вор-рецидивист Василий Котов, который еще при царском режиме был изловлен и отправлен в тюрьму, но выпущен советской властью на свободу как «жертва царского режима». Предполагалось, что теперь, когда власть перешла к народу, у грабителя и убийцы исчезнет причина грабить и убивать, и он займется честным трудом. Но этого не случилось! Котов сколотил банду и принялся за старое.
Ближайшим помощником Котова стал Григорий Морозов, ранее осужденный за убийство полицейского. В преступлениях принимала участие и 20-летняя любовница Котова – смазливая девица Серафима Винокурова. Она стучалась в дома и просилась переночевать, сочиняя какую-нибудь жалостливую историю. Хозяева доверчиво открывали ей двери, и в их дом немедленно врывались бандиты. Они принимались убивать, не жалея никого, даже маленьких детей. В одном доме они убили пять человек – из них трое были детьми, бедняжкам перед смертью завязали глаза. В другом – шестнадцать человек, это были китайцы, отмечали какой-то национальный праздник. Все они погибли. В третьем доме было убито шесть человек.
Летом и осенью 1921 года в Смоленской губернии бандитами были совершены еще два массовых убийства – погибли две семьи по пять человек. Но это было только начало: всего примерно за два года банда убила более сотни человек. Обычно жертв били по голове топором, за что бандитов прозвали «Рубщиками». Принято считать, что непосредственным убийцей был Морозов, а остальные наблюдали за его зверствами.
Их жертвы вовсе не были богатеями! Это были люди среднего достатка или даже бедные. «Улов» банды никоим образом не мог оправдать их чудовищной жестокости, а убивали они именно влекомые желанием рубить, кромсать…
Неспособность молодой советской милиции обезвредить страшную банду вызвала ропот среди крестьян, начались массовые выступления. В Курск были направлены лучшие специалисты. И вскоре бандиты совершили ошибку: в районе станции Паликово Верейского уезда они убили большую семью из десяти человек, но юная дочка хозяина дома успела спрятаться и осталась в живых. Девушка дала ценные показания.
По ее описанию в Гжатском районе был арестован молодой член банды – 19-летний Иван Крылов. На допросах он выдал сообщников. К этому времени бандиты перестали доверять друг другу. Каждый из них думал о том, что его убьет кто-то из подельников, поэтому осенью 1922 года Котов заманил Морозова в лес и застрелил его.
Через полтора месяца после этого Котов и Винокурова были арестованы.
С ними работали не только следователи, но и замечательный российский психиатр, исследователь творчества душевнобольных (лечивший и знаменитого художника Врубеля) Павел Иванович Карпов. Он отмечал, что Котов не получал никакой ощутимой выгоды от своих злодеяний, потому что «убивал не богачей, а почти таких же нищих, как и сам, отбирая от убитых домашний скарб, носильное платье и другие вещи домашнего обихода, продаваемые им на базаре за гроши». То есть бандит совершал убийства именно ради убийства, а не из меркантильных побуждений. Никакого раскаяния он не испытывал: «Котов, после совершенного им убийства, спокойно садился за стол и ужинал, перед убийством никогда не пил, потому, вероятно, и не был долго обнаруживаем, во сне никогда не видел своих жертв, его поступки никогда не вызывали у него раскаяния, у него не было жалости ни к взрослым, ни к детям». Отмечал Карпов и такую характерную для маньяков черту, как выбор жертвы: «…выйдя „на дело“, он иногда, несмотря на удобные обстоятельства, по неизвестной ему причине пропускал мимо себя некоторых людей, некоторых же спокойно убивал».
Суд над бандитами состоялся в 1923 году в Москве. На скамье подсудимых оказались Котов, Винокурова и Крылов. Они твердили, что все жертвы – 116 человек – были убиты покойным Морозовым, а сами они – невинные овечки, но суд на их уловки не поддался и приговорил всех троих к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение.
Банда Башкатова
Более сотни жертв – это очень много. Но был в те годы изверг, который пролил еще больше крови. Звали его Егор Иванович Башкатов, но известен он и под другим именем – Устин Кузьмич Демидов. Одно из имен было дано при рождении, а второе он придумал сам, но точно неизвестно, которое из двух.
Родился он в 1879 году в нищей крестьянской семье в селе Воронежской губернии. Отец его много пил и по пьяни утонул в реке. Мальчик рано стал работать по хозяйству, в числе прочего ему приходилось и забивать домашнюю птицу. Как-то, пытаясь отрубить курице голову, Егор попал себе по ноге и отхватил кусок большого пальца. Он стал прихрамывать, и его прозвали Егорка Сиволапый. Не обошлось в его жизни и без вредных привычек – алкоголя и карточных игр.
Он был призван в армию – еще царскую, – но дезертировал, убив офицера и присвоив его награды. С этими наградами он вернулся в родное село, но поступок его вызвал у односельчан лишь омерзение. Они не стали покрывать убийцу, и Егор отправился в тюрьму.
После Октябрьской революции он вышел на свободу по амнистии и устроился в продотряд. Такие отряды отнимали у крестьян все «излишки», а по-совести, просто грабили их. Часть отнятых продуктов Егор прикарманивал и спекулировал ими. За это из отряда его выгнали с пожизненным запретом работать в государственных структурах.
И тогда он начал грабить, уже не прикрываясь идеологией. Грабить и убивать. Как и в случае с бандой Котова, выгода от этих убийств была мизерной, по этой причине Башкатова причисляют именно к серийным убийцам.
Башкатов был небольшого роста и не слишком крепким физически, поэтому убивал он тех, кто был слабее его, в основном женщин и детей. Он купил повозку и лошадей и под видом извозчика на вокзалах высматривал беззащитных – одиноких женщин и матерей с детьми. В те годы люди часто переезжали с места на место в поисках лучшей жизни, и в такие путешествия они брали с собой все ценности. Башкатов заводил с женщинами разговор, сообщал, что знакомые в селе ищут работников за оплату и кров. Дорога была длинной, и душегуб предлагал жертвам у него переночевать. Когда они засыпали, мерзавец забивал их камнем, завернутым в мешок. Так проливалось меньше крови, и одежда жертв не пачкалась.
Убитых Башкатов полностью раздевал, забирая все вещи и документы. Труп клал на землю обязательно лицом вниз: так плоть быстрее разлагалась, и останки сложно было опознать.
Занимаясь своим страшным промыслом, Башкатов женился и купил дом в Армавире. Жена родила ему троих детей. Она знала о его преступлениях и даже стала соучастницей, помогая стирать и продавать одежду жертв.
Башкатов колесил по стране, убивая и грабя. За полгода до ареста собрал банду из 27 человек. Роли в этой банде были четко распределены: одни выискивали жертв на вокзалах, другие продавали добычу и избавлялись от улик, а убивал всегда сам Башкатов.
Иногда он писал письма родственникам убитых, приглашая их от имени жертв в гости – обязательно с подарками. Этих родственников встречали люди из банды, отвозившие их куда-нибудь в тихое место, где несчастных ждала смерть. Таким образом бандиты убивали по пять-шесть человек в день.
Орудовал маньяк 11 лет. Поначалу неопытные милиционеры вообще не связывали все эти многочисленные пропажи людей в серию. Лишь к началу тридцатых они все же обратили внимание на схожий «почерк» убийств.
А потом одной из его потенциальных жертв удалось спастись. Это был старик по фамилии Дьяков. Он стал случайным попутчиком: сел на телегу к Башкатову и почти сразу сошел. Но за это время он хорошо разглядел и запомнил приметного бородатого худощавого извозчика с пронзительным взглядом светлых глаз и еще нескольких сопровождавших его парней помоложе. Потом Дьяков сумел дать подробное описание преступников. Вооружившись списком примет, оперативники обошли несколько вокзалов – и задержали членов банды. Те запираться не стали и сразу рассказали милиции, где живет главный душегуб. Башкатова арестовали. В его доме нашли тетрадь, в которой он аккуратно фиксировал все убийства: всего там было записано 459 жертв. Доказать удалось 121 убийство, но и этого хватило для расстрельного приговора. Не стали церемонится и с другими членами зловещей банды. А вот жену Башкатова наказали довольно мягко: посадили в тюрьму на шесть лет за укрывательство и продажу вещей жертв.
Василий Комаров
Полностью соответствовал представлениям Гернета о том, что именно среда формирует в человеке жестокость, и Василий Иванович Комаров (при рождении – Василий Терентьевич Петров).
Он родился в Витебской губернии в многодетной семье железнодорожного рабочего – там было 12 детей. Вся его семья страдала алкоголизмом, и Василий с 15 лет тоже начал пить: он просто не знал, что можно отдыхать как-то иначе. В пьяном виде мужчины из семейства Петровых впадали в буйство, и один из братьев Василия был осужден за убийство. Сам Петров некоторое время ограничивался лишь воровством, за что на год попал в тюрьму.
Женат Петров был дважды. Первая супруга во время его тюремного заключения то ли покончила с собой, то ли умерла от «стыдной болезни». «Ну и черт с ней!» – отозвался впоследствии Петров о ее гибели.
Второй раз он взял в жены вдову, полячку по национальности, по имени Софья, имевшую двоих детей. В их браке родился еще один ребенок. В семье Василий был деспотом, избивал жену, детей, часто в злобе ломал вещи.
После революции он вступил в Красную армию, обучился грамоте, принял участие в расстреле пленных белых офицеров, а возможно, в карательных операциях против крестьян, дослужившись до должности взводного командира. Потом попал в плен и там поменял имя, став Василием Ивановичем Комаровым – по всей видимости, ему уже было что скрывать.
Из плена он бежал и после окончания войны перебрался жить в Москву, поселившись в доме № 26 по улице Шаболовка. Тогда же он стал работать извозчиком. Комаров был горьким пьяницей, он пропивал все свои заработки и все время нуждался в деньгах.
Начал он с того, что приворовывал у клиентов, потом перешел к более тяжким преступлениям. Первое убийство совершил в 1921 году, когда в стране была введена новая экономическая политика, разрешавшая частное предпринимательство.
М.А. Булгаков писал: «С начала 1922 года в Москве стали пропадать люди. Случалось это почему-то чаще всего с московскими лошадиными барышниками или подмосковными крестьянами, приезжавшими покупать лошадей. Выходило так, что человек и лошади не покупал, и сам исчезал».
Под видом продажи лошади Комаров заманивал покупателей к себе домой, предлагал «обмыть сделку» и выпивал с ними, а когда те теряли бдительность, оглушал их сильным ударом по голове. Потом перерезал жертвам горло. Его забитая и запуганная жена, забирая детей, во время каждого убийства уходила из дома, а возвращалась лишь когда все было кончено. Потом она чисто мыла полы от крови.
Помогала Софья и прятать тела. Совесть, совершенно отмершая у Комарова, мучила женщину. По ее настоянию убийцы часто заказывали молебны за упокой души убиенных. «Дурочка слабая», – отзывался о ней супруг-монстр.
Некоторое время милиция не обращала на происшествия внимания, но потом начались страшные находки: «…на пустырях Замоскворечья, в развалинах домов, в брошенных, недостроенных банях на Шаболовке оказывались смрадные, серые мешки. В них были голые трупы мужчин…. Головы были размозжены, по-видимому, одним и тем же тупым предметом, вязка трупов была одинаковая – всегда умелая и аккуратная – руки и ноги притянуты к животу. Завязано прочно, на совесть», – писал Булгаков. Всего нашли 22 трупа.
Розыск шел медленно: слишком мало было опытных, компетентных работников в рядах молодой советской милиции. Булгаков пишет, что в одну из ночей Комаров вез запакованный обескровленный труп к Москве-реке. «Милиционер остановил:
– Что везешь?
– А ты, дурной, – мягко ответил Комаров, – пощупай.
Милиционер был действительно «дурной». Он потрогал мешок и пропустил Комарова. Потом Комаров стал ездить с женой».
Но одно дело постовой милиционер, а другое дело – следователи.
Они обратили внимание на характерные узлы – так вяжут люди, привычные к запряганию лошадей. А потом в одном из мешков обнаружились помимо останков еще и зерна овса, да и сам мешок походил на те, в которых овес продавали извозчикам. Так стала понятна профессия убийцы.
В те годы в Москве извозчиков было очень много, и потребовались долгие месяцы опросов и расследований. А потом появилась еще одна зацепка: голова очередного трупа была обмотана плохо постиранной детской пеленкой. Стали искать семейного, у которого недавно родился ребенок. Извозчики показали на 55-летнего Комарова и рассказали, что возит он мало, а деньги всегда имеет. На конной площади часто бывает. Пьет много.
Когда милиция явилась на Шаболовку, к нему в квартиру, в чулане еще лежал труп его последней жертвы. Комаров выпрыгнул со второго этажа в сад и попытался скрыться, но уже на следующий день его изловили в селе Никольском у знакомой молочницы.
Всего Комаров-Петров убил более тридцати человек, чаще всего называют цифру 33, иногда 35. Газетчики окрестили его монстром, «зверем в образе человека». И это вполне соответствовало действительности: никакого раскаяния убийца не испытывал. На суде он посмеивался, хихикал. Описывая свои преступления, то, как он наносил жертвам смертельный удар, он шутил: «раз – и квас!». На вопрос, жалеет ли он убитых, резонно ответил: «Жалеть можно до убийства, а чего жалеть после?».
Причину убийств он объяснил так: «Жена моя любила сладко кушать, а я – горько пить. Лошадь меня кормила, а выпить не наливала». Он заявил на следствии, что если бы ему еще человек 60 привалило, он бы всех убил. Он не ощущал никакой вины: вон, на войне честных людей убивают, а он выбирал спекулянтов. А еще убийца признался, что не любил людей. Уничтожать их ему было приятно.
Когда убийца показывал на месте, где зарыл трупы, собралась толпа, чуть было не растерзавшая «человека-зверя». Но сам Комаров не испытывал ни страха, ни смущения. Напротив, узнав, что в Москве о нем пишут газеты, похвастался: «Я теперь героем стал!». Впрочем, консилиум из трех психиатров счел его вовсе не героем, а импульсивным психопатом с ярко выраженной алкогольной дегенерацией личности. Петров был признан вменяемым. В июне 1923 года судприговорил Василия Комарова и его жену Софью к высшей мере наказания – расстрелу. Судебные психиатры, в частности Е.К. Краснушкин, пытались выгородить Софью, оправдать ее действия тем, что она смертельно боялась мужа, регулярно ее избивавшего, но суд их мнение не учел.
Известная поэтесса, переводчица и криминолог, ставшая членом кабинета по изучению личности преступника, Сусанна Укше так резюмировала жизнь убийцы: «Тяжелое детство в нуждающейся, обремененной детьми семье рабочего-алкоголика, с 12 лет мыканье по чужим людям, неудачная семейная жизнь, пьянство и бродяжничество, частая перемена служб и профессий, кража, тюрьма, смерть жены, мобилизация, бедственное положение беженцев, война, кровавое дело в Москве и кровавый конец».
