Мимочка
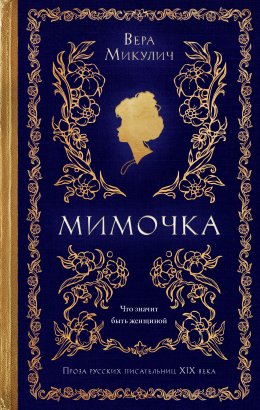
Автор идеи серии Наталья Артёмова
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 Издательство АЗБУКА®
Мимочка-невеста
Мимочка-невеста! Мимочка опять невеста, и на этот раз, кажется, уже совершенно серьезно. Она принимает поздравления; она делает визиты родным, получает от них подарки. Тетушки с любопытством и с участием расспрашивают ее о подробностях приданого; дядюшки приносят свои лучшие пожелания, подшучивают над Мимочкой, поддразнивают ее, причем Мимочка слегка краснеет и потупляет свои невинные глазки.
– Вы очень любите вашего жениха? – спрашивают Мимочку.
– Я еще слишком мало знаю моего жениха для того, чтобы любить его, но я его… уважаю, – отвечает она.
Какова Мимочка! Никто не ожидал, что она ответит так умно. Все тетушки находят, что она ответила очень умно, а до сих пор Мимочка еще никогда не проявляла более ума, чем его полагается такой хорошенькой девушке, как она.
Она уважает своего жениха. И действительно, Спиридон Иванович вполне достоин ее уважения. Это человек со средствами, с немаленьким чином и с довольно заметным служебным положением, уже не молодой, но еще и не очень старый; он некрасив, лыс, пожалуй, слишком толст, но еще молодец хоть куда и смело мог бы посвататься и к богатой невесте. – И за что это, право, Мимочке такое счастье! Я знаю, что многие из ее сверстниц и приятельниц и особенно их маменьки готовы лопнуть от зависти и досады, что не им достался Спиридон Иванович, и, говорят, будто его безбожно ловили, будто Мимочку ему предлагали, навязывали… Но, боже мой, чего не говорят завистливые женские языки! Вместо того чтобы повторять эти нелепые предположения, порадуемся лучше за Мимочку, порадуемся за нее от всего сердца, как это и делают ее добрые тетушки.
– Ну, слава богу, слава богу! – говорит тетя Софи. – Я так рада за Мимочку. Надеюсь, что она будет с ним счастлива. Это и хорошо, что он немолод: Мими еще такой ребенок, ей и нужно человека пожилого, серьезного…
– Конечно хорошо, что он не молод, – подтверждает тетя Мари, – такого мужа еще легче держать под башмаком. И как добрая тетка, я советую тебе, Мимочка, вовремя прибрать к рукам твоего Спиридона Ивановича.
– Я говорила вам, что все делается к лучшему, – заканчивает тетя Жюли. – Подумайте, какое счастье, что вы тогда «разорвали» с этим негодяем!
И действительно, все делается к лучшему. Первым женихом Мимочки был молодой и блестящий гвардеец, у которого были чудесные лакированные сапоги, черные усики, волнистые каштановые волосы и pincenez[1] в золотой оправе. Мимочка увидала его в первый раз на одном вечере, где он дирижировал танцами, побрякивал шпорами, шутливо обмахивался веерами и душистыми платочками своих дам, весело улыбался, открывая блестящие белые зубы, и с дьявольским увлечением кричал: «Serrrrrez le rrond!.. Chaîne!..»[2] Он сделал несколько туров вальса с Мимочкой, полюбовался ею, пока она вальсировала с кем-то другим, и, разузнав об общественном положении ее родителей, пожелал быть им представленным.
Потом он стал «бывать», потом стал «ухаживать» и, наконец, сделал предложение.
Блестящий гвардеец и ловкий дирижер слыл опасным сердцеедом. Он ухаживал за всеми хорошенькими девушками, вдовушками и замужними женщинами, с которыми был знаком, и, как говорили, был предметом внимания многих из них. А потому отбить его у всех должно было очень льстить и самолюбию Мимочки и ее maman.
Мимочка приняла предложение и была объявлена невестой.
Тетя Софи сделала по этому случаю вечеринку с танцами, тетя Мари – обед с шампанским, а тетя Жюли – folle journée[3] и с танцами, и с шампанским, и с катанием за город.
Жених был почтителен, услужлив и любезен с родными невесты и всем очень нравился.
– Знаешь, Мимочка, – сказала ей тетя Мари, – он так мил, так мил, что будь я немножко помоложе, честное слово, постаралась бы отбить его у тебя.
– Да, из вас будет славная парочка, – подтвердила тетя Софи.
– И ты очень умно сделала, душа моя, что приняла его предложение, – закончила тетя Жюли. – Такого жениха не каждый день встретишь. Он «на хорошей дороге» и может еще очень выслужиться.
Жених был не только на хорошей дороге, он был «князь», положим, захудалого рода, но все же князь и даже не из восточных. Мало того, он был, по его словам, племянником и единственным наследником богатого бездетного дядюшки, у которого было где-то на юге пятнадцать тысяч десятин и каменноугольные копи.
Благословясь, принялись за изготовление роскошного приданого для будущей княгини. Пришлось делать его в долг, так как дела родителей Мимочки и тогда уже были страшно расстроены… Впрочем, с тех пор, как Мимочка себя помнила, дела ее родителей всегда были страшно расстроены, что не мешало им, однако, жить, не отказывая себе ни в каких удовольствиях, кроме удовольствия платить свои долги, сумма которых вследствие этого и росла себе да росла, как дурная трава.
Ввиду предстоящей свадьбы пришлось еще перехватить кой у кого, но несколькими тысячами долгу более или менее, – что могло это значить, когда дело шло о счастии единственной дочери. Было бы где занять!.. А ведь в будущем у Мими были угольные копи бездетного дядюшки! Все родные Мимочки сделали ей подарки. Тетя Софи подарила ей дорогую шубу, тетя Мари – нарядный капот из плюша vert-jaspe[4], подбитого атласом bleu-nuage[5], с богатой кружевной отделкой, тетя Жюли – серебро. Все метки на белье сделали с княжеской короной. Тетя Жюли говорила, что не следует делать этого, так как Мимочка не княжна, а белье принято метить шифром невесты, и что смешно так торопиться с этой короной, точно уж они и не могут скрыть своей радости, что Мимочка будет княгиней. Но тетя Мари и тетя Софи поддержали maman, говоря, что не все ли равно. Ведь все белье, которое будут делать после свадьбы, наметится княжеской короной; отчего же не сделать заранее одинаковых меток на всем?
И все метки сделали с княжеской короной.
Прежде еще, чем Мимочка была официально объявлена невестой, папа откровенно переговорил с женихом. Он признался, что дела его в настоящее время настолько расстроены, что он не в состоянии ничего дать за Мимочкой… Но он брал на себя все расходы по устройству гнездышка для молодых и затем обещал помогать им по мере возможности, уделяя дочери часть своего содержания.
Жених, хотя и поблагодарил папа́ за откровенность, горячо уверяя в том, что при выборе Мимочки он не руководился никакими корыстными целями, однако, не мог скрыть некоторого разочарования, услыхав, что Мимочка – бесприданница. Он никак не ожидал этого и откровенно высказал, что это заставит его не отказаться от невесты – о, конечно нет! – но отложить свадьбу на неопределенный срок.
В свою очередь и жених признался, что испытывает в настоящее время довольно неприятные материальные затруднения. Разумеется, затруднения эти не могут сильно озабочивать его, пока он человек холостой и одинокий, так как дядюшкины копи все-таки не уйдут от него; но тем не менее он счел бы себя подлецом и бесчестным человеком, если бы позволил себе жениться на небогатой девушке при настоящих условиях, то есть не дождавшись если не смерти бездетного угольного дядюшки, то по крайней мере некоторого повышения по службе.
Князь прибавил, что в недалеком будущем ему предстоит получить батальон, что ему было бы очень приятно получить батальон в N., веселом и хорошеньком городе, где жизнь не очень дорога и где он мог бы как-нибудь устроиться и перебиваться с молодой женой. Разумеется, не без посильной помощи папа́ и бездетного дядюшки. Если бы папа́ захотел только употребить в пользу будущего зятя свое влияние, свои дружеские связи, может быть, он мог бы ускорить свадьбу Мимочки и упрочить благосостояние молодых…
В заключение жених, как честный человек, объявил уже совершенно прямо, что женится только в таком случае, если ему дадут вышеупомянутый батальон. Папа́ мог устроить это назначение.
Это было трудно, но для счастия единственной дочери можно было и потрудиться. Труды и хлопоты папа́ увенчались успехом. Жених получил батальон и уехал в N. принимать его. День свадьбы был уже назначен, до него оставалось всего две недели. Но неожиданно пришлось отложить его по случаю траура.
Бедный папа́ умер скоропостижно, умер в гостях, почти за карточным столом, от удара ли, от разрыва ли сердца, не умею сказать. Жениху сейчас же дали знать телеграммой о случившемся несчастии, но он даже не приехал на похороны. Это тогда уже неприятно поразило всех родных Мимочки и особенно ее maman, в сердце которой закрались тревожные подозрения. И подозрения ее оказались основательными. Воротясь в Петербург, жених совершенно изменил свое обращение и с невестой, и с будущей тещей. Скоро стало ясно, что он ищет только предлога к разрыву. Пробовал он и ревновать свою невесту, и подсмеиваться над ней, и учить, и перевоспитывать ее, но у Мимочки был такой невозмутимо-ангельский характер, что, несмотря на все усилия жениха, ему не удалось с ней поссориться. Тогда он принялся за maman. Тут дело пошло на лад, и столкновения приняли скоро опасный оборот. Началось с намеков, шпилек, недомолвок, потом обе стороны приступили к откровенным объяснениям.
Жених утверждал, что папа́ обещал выдавать Мимочке ежегодно две тысячи четыреста рублей.
Maman утверждала, что никогда папа́ не давал подобного обещания.
На это жених возражал, что если так (то есть раз его хотели обмануть и его же называют в глаза лгуном), то ему, как честному человеку, остается…
Maman не дала договорить честному человеку его угрозы и предложила отдать молодым всю свою пенсию с тем только, чтобы они взяли ее жить к себе. Князь получил в N. прекрасную казенную квартиру, в которой ему ничего бы не стоило отвести уголок maman.
Но, выслушав это предложение, жених заявил категорически, что он женится только в таком случае, если maman отдаст всю пенсию Мимочке, а сама будет жить, как хочет и где хочет, только не с ними и не у них. Он видел слишком много примеров того, как тещи расстраивают семейное счастие своих дочерей, чтобы не желать оградить Мимочку от возможности неприятных столкновений в будущем, тем более что, кажется, было уже достаточно ясно, что он лично не сходится характером со своей будущей belle-mère[6].
Нахальство жениха до того возмутило maman, что она поехала жаловаться на него сестрам, прося их советов и помощи. Тетушки также были возмущены и поражены, услыхав из уст maman, что «этот нищий князек, этот гвардейский полотер, этот, passer moi le mon[7], прохвост» хочет, кажется, отказаться «составить счастие» Мимочки!
Тетушки горячо принялись за дело примирения. Они ездили друг к другу, волновались, захлебывались, говорили до пересыхания в горле, пожимали плечами, разводили руками, строго разбирали и обсуждали дело со всех сторон, увещевали жениха, увещевали maman и жалели и утешали несчастную Мимочку.
– Не понимаю, чем все это может кончиться, – говорила тетя Софи, – но мне кажется, что уж лучше бы им теперь разойтись… Как хотите, он показал себя неблагородным человеком. Батальон получил, а жениться не хочет!
– Ну знаешь, – возражала тетя Мари, – откровенно говоря, оно и понятно, что брак этот не особенно прельщает его. Что ж Мимочка?.. Она мила, конечно… Но все-таки что же это за партия? Он понимает, что может найти гораздо лучше… И не женится он, вот увидите. Разумеется, все эти объяснения только предлог. Ясно как день, что он просто не хочет жениться.
– Но необходимо заставить его жениться, – говорила тетя Жюли. – Нельзя же так безнаказанно компрометировать девушку.
Кончилось тем, что тетушки чуть не перессорились между собою, a maman все-таки получила от жениха длинное красноречивое послание, в котором он объявлял, что пора положить конец этим неприятным недоразумениям. За последнее время он достаточно ясно убедился и в равнодушии к нему невесты, и в неизбежности неприятных столкновений в будущем с ее матушкой; а потому он счел бы себя подлецом и бесчестным человеком, если бы, взвесив все это, не решил пожертвовать своим чувством и возвратить Мимочке данное ею слово, прося ее считать себя отныне совершенно свободною и желая ей всего-всего лучшего. В заключение жених прибавлял, что сегодня же уезжает из Петербурга в N., откуда не замедлит выслать мебель и прочие Мимочкины вещи, давно уже отправленные заботливыми родителями в ее будущее гнездышко. В P. S. стояло, что в случае, если maman захочет продавать мебель и если она согласна отдать ее за… (стояла скромная цифра), то жених охотно купит ее и немедленно вышлет деньги.
Maman, задыхаясь от волнения и негодования, прочла это письмо сестрам.
Тетушки утешали и успокоивали ее.
– Ну, может быть, это еще и к лучшему, – сказала тетя Софи, – откровенно говоря, он никогда мне не нравился. Я так и знала, что не выйдет ничего путного из этого сватовства.
– Нет, не будем пристрастными, – возразила тетя Мари. – У него есть достоинства… Только, как человек избалованный, он, кажется, немножко эгоист… Ну и карьерист тоже… Это-то уж с самого начала было видно. Я, признаюсь, еще тогда, как услыхала, что покойный вызвался хлопотать об этом назначении, сказала мужу: «Как ты себе хочешь, il у a du louche[8]».
– Ну и бог с ним! – закончила тетя Жюли. – Свет не клином сошелся. Мимочка может сделать еще гораздо лучшую партию. Хорошо, что он уехал из Петербурга. По крайней мере, все это поуляжется и позабудется. Нечего приходить в отчаяние. Поверьте, что все делается к лучшему.
И как же не сказать, в самом деле, что все делается к лучшему? Слава богу, Мимочка снова невеста, снова принимает поздравления… На этот раз назначен не только день, но и «час» свадьбы, и час этот так близок, что у подъезда стоит уже карета тети Жюли, заложенная парой ее вороных, готовых мчать Мимочку в церковь Уделов, где уже собираются приглашенные.
А сама Мимочка сидит перед туалетным столиком в своей розовой девической комнате и, глядя в зеркало, следит за движениями куафёра Гюстава, убирающего ее хорошенькую головку.
На кровати, с откинутым розовым пологом, лежат белое платье, тюлевый вуаль и венок померанцевых цветов.
Когда Мимочке было четыре года, она не имела понятия ни о «Стрелочке», ни о «Чизкике», но уже пела: «Il était une bergére…»[9] и «Malbrough s’en va-t-en guerre»[10]. Семи лет она уже премило лепетала и картавила по-французски. Mlle Victoire, ее нянюшка, выучила ее к этому времени французской азбуке и нескольким новым песенкам. Потом ей подарили сказки Перро и Беркена, которые познакомили ее с историей «Синей Бороды», «Кота в сапогах» и «Ослиной кожи».
А что за херувимчик была Мимочка с ее нежным личиком, белыми как лен волосами и пухленькими голыми ручками и плечиками, разодетая, как куколка, в беленькое платьице с широким поясом! Нельзя было не восхищаться ею и не говорить ей, что она очаровательный ребенок. И Мимочка охотно выслушивала это, потупляя глазки, грациозно приседала и была уже кокетлива.
Когда она стала постарше и одолела все четыре «conjugaisons»[11], ее научили с грехом пополам читать и писать по-русски, по-немецки и по-английски и наняли ей учителей: танцев, чистописания и рисования. Попробовали было и музыку, сначала фортепьяно, потом арфу, потом скрипку… Но никак не могли напасть на инструмент, на методу и на преподавателя, предназначенных Богом для того, чтобы сделать из Мимочки музыкантшу, и года через три совсем бросили эти музыкальные упражнения, так как оказалось, что Мимочка для них слишком слаба здоровьем.
Наконец, для увенчания Мимочкина образования ее отдали на два года в пансион m-lle Дуду, или в пансион m-lle Додо, или в институт, или даже отослали ее во Францию в какой-то «couvent»[12]. Я не помню хорошенько, что именно сделали с нашей Мимочкой, но помню, что maman не хотела или не могла ограничиться «домашним воспитанием» и отдала дочь куда-то.
Окончив или полуокончив курс (в большинстве случаев Мимочки не оканчивают курса по слабости здоровья или по непредвиденным обстоятельствам), Мимочка вернулась домой взрослой барышней и надела длинное платье. Она была миловидна, грациозна и изнеженна. Она умела говорить и читать по-французски; умела и писать на этом языке настолько, что довольно свободно могла составить и приглашение на чашку чая, и деловое письмо к портнихе. Училась она в пансионе и еще чему-то, но так как это «что-то» было не нужно, не важно и неинтересно, то она и забыла его.
Да и скажите положа руку на сердце, нужны ли хорошенькой женщине какие-нибудь знания, кроме знания французского языка? Указывают ли ее потребности, ее радости, ее деятельность на необходимость каких-нибудь познаний? Нужно ли Мимочке одеться, обуться, причесаться, нужно ли ей отделать и убрать свою квартиру, завести у себя хороший стол и сервировку, – знание французского языка облегчит ей объяснения с француженкой-модисткой, с французами: куафёром, поваром, обойщиком, готовыми исполнить не только ее приказания, но и в случае надобности подать ей хорошую мысль, совет… Нужно ли Мимочке «занять» своих гостей на каком другом языке, скажите, можно вести милее и непринужденнее разговор о погоде, о скачках, об опере?.. Нужно ли Мимочке чтение, легкое приятное чтение, не уносящее из чудного мира балов и бантиков, не вызывающее морщин, не будящее мыслей и сердца, чтение легкое, как вапёровые воланы на юбке ее бального платья, – французская литература даст ей маленькие чистенькие томики, может быть с не совсем чистым содержанием, но зато с хорошим шрифтом, с хорошей бумагой и с интересными действующими лицами!
Вы думаете, может быть, что Мимочка плохо и мало училась, что ей вовсе не до книг. Напротив, она «ужасно» любит чтение. После туалета и выездов она больше всего на свете любит chocolat mignon[13] и французские романы.
Не думайте также, что Мимочка оттого любит французские романы, что она не патриотка или что она забыла русскую азбуку. Вовсе нет. Она бы и рада читать по-русски, но ведь нечего! Если б заботливая maman и захотела дать дочери какую-нибудь русскую книгу, что могли бы вы рекомендовать ей, кроме хрестоматий Филонова и Галахова, которые, разумеется, не могут занять воображение девушки в том возрасте, когда она натурально мечтает о любви, о замужестве…
Maman раз как-то подняла этот вопрос при сестрах, и тетушки только подтвердили ее собственное мнение о том, что по-русски читать совсем нечего, да и незачем.
Тетя Софи заявила, что она выписала было «Модный свет» и жалела об этом, так как он не выдерживал сравнения с французскими изданиями такого рода.
Тетя Мари получала «Отечественные записки» и сообщила, что сотрудники этого журнала пишут таким тривиальным языком, что положительно их нужно читать с диксионером. «Мне говорили: Щедрин, Щедрин… И муж зачитывается, восхищается… Я как-то на днях попробовала почитать, – ничего не понимаю!.. Ну, то есть а́ la lettre[14] ничего!.. Какая-то свинья… Подоплека, подоплека… Я так и мужу сказала. Ну, говорю, не знаю: или уж я так глупа, или это бог знает что!»
Тетя Жюли читала «Русский вестник» и хотя созналась, что попадаются в этом журнале хорошие романы, но все-таки она не рекомендовала бы читать их Мимочке, так как последнее время, что ни роман, непременно социалисты на сцене… А кому неизвестно, к чему приводит знакомство с социалистами?.. И тетушки решили, что незачем Мимочке читать по-русски, когда есть столько хороших французских книг.
Но, скажут, есть же и у нас писатели. Ну, положим, что есть. Однако что же все-таки из них можно дать в руки Мимочке?
Может быть, «Обрыв» Гончарова? «Накануне» Тургенева? «Грозу» Островского? «Анну Каренину» гр. Толстого? «Головлевых» Щедрина? «Карамазовых» Достоевского?
Да вы видели ли Мимочку? Видели ли вы это невинное женственное существо, эту Миранду, слетевшую не то с облака, не то с модной картинки?
Нет, уж пусть лучше Мимочка читает Октава Фёлье с его чистым, как ключевая вода, слогом, с его поэтическими героями и героинями, судорожно кривляющимися в неестественной борьбе их неестественных страстей с выдуманным долгом. Если Мимочке скучен Октав Фёлье, она найдет во французской литературе и другой материал. Пусть она читает Понсона дю Террайля. Сказки, скажете вы. Пусть так, но зато это сказки интересные, увлекательные.
Как весело от бала до бала, между примериванием нового платья и прогулкой за перчатками, отдыхать на мягкой низенькой кушетке, в светлой розовой комнатке, уставленной куколками, шкатулочками, букетиками, бонбоньерками, кушать chocolat mignon или chocolat praliné[15] и читать Понсон дю Террайля! Весело бегать по освещенным газом улицам Парижа, кататься вокруг озера или каскада Булонского леса, слышать эти беспрерывно раздающиеся выстрелы дуэлей, следить за перипетиями любви преступной, но красивой и нарядной, разрушать ковы злодеев, соединять любящихся…
Весело то с замирающим, то усиленно бьющимся сердцем и грациозно приподнятым подолом пробегать через темные неведомые трущобы, проникать в уголки блестящих кокоток, нежиться на их бархатных и атласных кушетках, брать с ними молочные ванны, купаться в шампанском, украшать себя кружевами и бриллиантами, пировать, сорить деньгами, сентиментально влюбляться в какого-нибудь прекрасного скромно одетого юношу, незаконного сына, в конце концов оказывающегося виконтом, маркизом или даже принцем и непременно миллионером. Пусть все это сказки, но, по крайней мере, это не такие мрачные сказки, как «сказка об Аниньке и Любиньке».
И Мимочка между туалетом и выездами поглощает эту легкую литературу и незаметно отравляется ею. В эту чудную пору, когда поэт сравнил бы ее пробуждающееся сердце с готовым расцвести бутоном, в ее душу западает образ Анри, Армана или Мориса.
Морис этот не ест, не пьет, не подвержен никаким непоэтическим слабостям и болезням. Единственное, что разрешает ему от времени до времени автор, – это легкая царапина (результат одной из бесчисленных дуэлей), вследствие которой Морис является перед читательницами с черной повязкой на руке и с интересной бледностью в лице. Автор не разрешает ему также никакой деятельности, никаких определенных занятий, так что все время очаровательного героя посвящено любви и женщинам. Разумеется, он преисполнен всевозможных качеств и талантов; он отлично ездит верхом, отлично плавает, стреляет, влюбляет в себя всех встречающихся на пути его женщин, затмевает благородством и храбростью всех мужчин, швыряет на все стороны кошельки, полные золота, и получает наследство за наследством. Образ Мориса, его речи, манеры, поступки запечатлеваются в сердце Мимочки, которая вместе с прочими жертвами героя влюбляется в него.
Итак, окончив или полуокончив курс, Мимочка возвращается домой взрослой барышней и надевает длинное платье.
Жизнь встречает ее приветливой улыбкой. Мимочку начинают «вывозить». Она танцует, веселится… Балы сменяются спектаклями, спектакли – концертами, пикниками, каруселями… В промежутках – чтение, chocolat mignon и мечты о Морисе.
Между тем maman, прошедшая тяжелую школу жизни и знающая, что «не век дочке бабочкой по полям порхать», уже озабочена вопросом о том, как бы хорошенько пристроить Мимочку. Maman мечтает найти для нее мужа богатого, светского и чиновного, если можно титулованного и родовитого. Мимочка должна сделать блестящую партию. К этому ведь клонилось все ее воспитание. Иначе к чему же было платить бешеные деньги учителям танцев и чистописания, к чему было возить девочку за границу, к чему было посылать ее на курсы m-lle Дуду? Подумайте только, чего все это стоило! Да, родители Мимочки могут, по крайней мере, смело сказать, что они ничего не жалели для воспитания и образования своей единственной дочери.
Мимочка знает хорошо все лучшие магазины Петербурга; может быть, она знает и магазины Парижа, Вены и Лондона; она умеет тратить деньги, умеет одеваться, умеет держать себя в обществе. Теперь надо найти для нее мужа, который дал бы ей полную возможность выказать свое умение в полном блеске, который окружил бы ее подобающей обстановкой и достоин был бы принять из рук maman это тепличное растеньице, чтобы пересадить его на почву супружеской жизни.
Мимочка ждет и сама. Она еще мечтает о любви, о Морисе, но знает уже, что главное все-таки – деньги, что без экипажа, без «приличной» обстановки и без туалетов ей будет не до любви.
Мимочка знает, что она невеста; но она знает также, что она еще молода, что она «ребенок» и, пока она «ребенок», она вальсирует, улыбается и играет веером и своими невинными глазками.
…Хитрый народ эти женихи! Трудно провести их. Ах, если б Морис был в их рядах, он оценил бы Мимочку; он взял бы ее, не заглядывая в кошелек бедного папа́. Но подите отыщите его, этого Мориса!..
А время летит… Хина и железо становятся уже необходимыми бедной девочке. Эти упоительные балы, ночи без сна – все это так утомляет.
И вот, представьте себе, читатель, что наступает минута, когда первая свежесть уже утрачена, – Мимочка начинает худеть и дурнеть; знакомый доктор, которому надоело даром прописывать мышьяк, железо и пепсин, посылает барышню на заграничные воды; денег на поездку достать неоткуда; портнихи отказываются сшить в долг даже простое дорожное платье… Потом, представьте себе, что в такую и без того неприятную минуту в семье происходит какая-нибудь катастрофа: заболевает ли опасно кто-нибудь из родителей, изгоняется ли папа́ со скандалом из службы, вследствие раскрытия каких-нибудь незаконных проделок, умирает ли он, оставляя семье ничтожную пенсию и неоплатные долги… Мало ли что случается… И нет вещи, за которую можно было бы поручиться, что она не сбудется.
В жизни вашей Мимочки такой катастрофой была неожиданная смерть бедного папа́. Он умер, оставив жене пенсию в полторы тысячи и долги, сумма которых еще значительно увеличилась за последнее время вследствие расходов на приданое. Maman просто не знала, что ей делать с этими выползшими из всех щелей кредиторами. Жених изменил, бросил и, купив за бесценок Мимочкину мебель, совсем замолк. Стороной, уже несколько позже, дошел до maman слух, будто он женится на дочери N-ского губернатора.
Положение бедных женщин было ужасно во всех отношениях. В доме буквально не было ни копейки. Maman рвала на себе волосы и проклинала «разорившего» их жениха-негодяя. Тетушки утешали, соболезновали, но между собою не могли и не осуждать слегка бедную maman.
– Конечно, положение Annette ужасно, – говорила тетя Мари, – но как же не сказать, что она сама виновата? Ну к чему было делать такое приданое, когда они и без того уже так нуждались? Дома есть нечего, а Мимочке отделывают белье точно какой принцессе! И кого они думали удивить этим?..
– Да, конечно, они сами виноваты, – соглашалась тетя Софи, – но мне жаль все-таки бедную Мимочку. Она так избалованна, а кто знает, что еще предстоит ей в жизни! Ведь кончится тем, что ей придется идти в гувернантки.
– Я дала сегодня сто рублей, – сказала в заключение тетя Жюли, – но я не могу давать каждый день. Если сосчитать все, что я уже передавала…
Лично Мимочки нужда почти не коснулась: по- прежнему у нее были все «необходимые» туалеты, шелковые чулки, chocolat mignon и французские романы. Но раздражительно-унылый вид maman, ее слезливые объяснения с тетушками, сцены с дерзкими француженками, требующими денег и денег, не могли не делать неприятного впечатления на молодую девушку.
И Мимочка хандрила и капризничала. Она отказывалась принимать железо, потому что ей сказали, что оно портит зубы, и нарочно не ела заказываемых для нее кровавых бифштексов, нарочно не ела ничего, кроме chocolat praliné. Она перестала читать романы, перестала вязать frivolité[16], перестала чесать и купать свою собачку и возиться с ней – словом, бросила все свои занятия и хандрила. Теперь Мимочка целыми днями лежала на кушетке, заложив руки под голову, или безучастно смотрела в окно. По случаю траура она не выезжала. Ей было скучно! Мимочка жалела о разрыве с женихом. Не то чтоб он уж ей очень нравился, о нет! Многие из знакомых танцоров нравились ей гораздо больше… К тому же ей сказали, что он «негодяй», и она не могла не повторять этого, потому что привыкла во всем верить maman и тетушкам. Но негодяй ли, не негодяй ли, а все-таки ей было жаль, что она не вышла замуж. Если б вы знали, до чего ей надоели теперь все эти намеки, расспросы и соболезнования!.. Надоели ей и девические белые и розовые платья, золотые крестики и нитки жемчуга на шее… Так близки были чепчики, бриллианты, бархатные платья и свобода от опеки maman, и вдруг все это разлетелось, расстроилось!..
Мимочка хандрила, капризничала и желала какого-нибудь исхода, какой-нибудь перемены своего положения.
Жаждала исхода и maman, проводившая ночи в молитве, слезах и мечтаниях о новом женихе-избавителе, о неожиданном наследстве, о выигрыше двухсот тысяч.
Какого же исхода могла желать сама Мимочка? И что может предстоять в жизни бедной девушке девятнадцати лет? Пусть не сердится на меня Мимочка за слова «бедная девушка». Я знаю, что слова эти звучат некрасиво, напоминают, может быть, о гувернантке, о телеграфистке… Да и плохо идет подобное название к изящной девочке в кофточке от Бризак и шляпке от Бертран. Но наружность бывает обманчива… Надеюсь, что и сама Мимочка не решится все-таки оспаривать меня в том, что она – бесприданница и молодая особа, qui n’a pas le sou[17].
Итак, что же может предстоять в жизни бедной девушке девятнадцати лет?
Выйти замуж за такого же бедняка, как она, предположим, за человека молодого, честного, энергичного и любящего, достойного любви и уважения, но не владеющего ни домами, ни поместьями, ни акциями, ни облигациями, не имеющего других источников дохода, кроме своего труда… Полюбить этого человека, сделаться его женой, другом и помощницей, склонить свою хорошенькую головку на его плечо, доверчиво опереться нежной ручкой на его сильную руку и идти с ним по жизненному пути, освещая и согревая ему путь этот своей любовью и ласками?.. Принести в скромный уголок труженика свою красоту, молодость и грацию, забыть себя в заботах о своем избраннике и в свою очередь сделаться смыслом, заботой и наградой чужой жизни?..
Но позвольте… Вы говорите, что он не имеет других источников дохода, кроме своего личного труда. Положим, что ваш молодой человек зарабатывает много, положим, даже достаточно для того, чтобы Мимочка не одевалась, как нищая, в старомодные платья. Но умри он – с чем она останется? Будь это человек пожилой, он мог бы по крайней мере оставить ей какую-нибудь пенсию; а молодой человек, ну, скажите, что он может оставить? Детей, по всей вероятности… Куда же она денется с этими несчастными детьми, которым не завещают ни домов, ни поместий, которым не завещают ничего, кроме труда? Согласитесь, что труд – это такой капитал, процентами с которого Мимочка еще, пожалуй, может пользоваться, пока он в руках ее мужа, но раз муж умрет и капитал этот должен будет перейти в ее собственные ручки, – сомневаюсь, чтоб она осталась довольна подобным наследством.
Не думайте, впрочем, чтоб Мимочка была уж чересчур ленива, жадна и бессердечна. Может быть, она бы и рада была полюбить и пожертвовать роскошью для любимого человека. Она ли не мечтала о Морисе? Но она могла бы принести подобную жертву только в таком случае, если б ей встретился молодой человек… ну, хоть такой, как «le jeune homme pauvre»[18] y Октава Фёлье. Помните, как он, бедненький, умирал с голоду и грыз почки и листья тюильрийских платанов после того, как истратил свои последние деньги на покупку дорогого мыла, конфеток и картинок для своей сестры. Чего стоит одна эта черта! Может ли сердце женщины не оценить подобного великодушия, подобной деликатности! А как пленительны в этом молодом человеке его элегантные манеры, его светский такт и образование при его скромном общественном положении. Так и чувствуешь, что он только закостюмировался en jeune homme pauvre и чуть дело дойдет до развязки, скинет деревянные башмаки и соломенную шляпу скромного управляющего и окажется несравненно богаче своей невесты.
Разве Мимочка задумалась бы полюбить его? Да ни на минуту! Но согласитесь, что не так легко полюбить бедного русского молодого человека, который не получит никакого наследства, который не носит перчаток, может быть, не говорит по-французски, а если и говорит, то со скверным выговором, который думает, что женщина должна серьезно учиться и трудиться, который зарабатывает свой кусок хлеба уроками, литературным трудом, может быть, даже сидит писцом в какой-нибудь конторе или служит на железной дороге чем-то чуть ли не вроде кочегара (потому что ведь бывают даже и такие молодые люди!). Согласитесь, что уж если отказываешься от экипажа и хорошей квартиры, от своего общества и выездов, от Бризак и Бертран, от тонкого белья, может быть, даже от chocolat mignon и французских романов, то человек, которому все это приносится в жертву, должен по крайней мере быть достойным ее, чем-нибудь заслужить ее. А наши бедные молодые люди так грубы, неотесаны и d’un terre-а́-terre[19]! Что же в таком случае можно найти в них привлекательного?
Короче, Мимочка, «кто беден, вам не пара». Да и maman никогда не допустит вас «плодить нищих», по ее выражению… A maman опытна и знает, что говорит. Она знает, каково жить на маленькие средства!
Другая перспектива: отложить надежду на замужество и примириться с мыслью остаться никому не нужной старой девой. (Это хорошенькой-то Мимочке, которая уже с семи лет знала, что ей к лицу, и плакала, если ей повязывали на голову не ту ленточку, которую ей хотелось!)
Но положим, она откажется от надежды на замужество. Чем же жить в таком случае, как существовать, если, Боже сохрани, умрет maman (а она непременно когда-нибудь умрет) и некому уже будет заботиться о туалетах Мимочки и о ее пропитании, некому будет продавать и закладывать вещи, выпроваживать кредиторов, занимать и слезно вымаливать денег у родных и знакомых. Мимочка – такой ребенок; она пропадет одна… Жить ей своим трудом? Самой зарабатывать свой кусок хлеба? Сделаться женщиной-врачом, женщиной-кассиром, бухгалтером?.. Но Мимочку воспитывали совсем не в таких идеях!..
О медицине лучше уж не будем и заговаривать. При одной мысли, при одном воспоминании о поминутно потупляемых невинных глазках Мимочки я не решаюсь предложить ей такое неприличное занятие, как изучение анатомии. А ее нервы!.. Вы знаете, Мимочка такая трусиха, что каждый вечер, прежде чем лечь спать, она шарит с зажженной свечой у себя под кроватью, под креслами и стульями, желая убедиться, не сидит ли там Рокамболь, сэр Виллиамс или какой-нибудь страшный нищий. Она заглядывает даже в душники… Она всего, всего боится! Как же вы заставите ее приучить себя к зрелищу страданий, крови, смерти?
Не менее нелепо представить себе Мимочку конторщицей, положим, хоть в правлении какой-нибудь железной дороги, – представить себе ее в комнате, уставленной столами и конторками, за которыми сидят все страшные, незнакомые мужчины. Да ведь все они влюбятся в нее, все они будут за ней ухаживать! И вообще, сидеть ей с десяти часов утра до пяти вечера в одной комнате с мужчинами… Как хотите, это неприлично! Не думайте, что Мимочка так-таки уж никогда и не сидела в одной комнате с мужчинами. Она даже носилась в их объятиях, под чарующие звуки модных вальсов, исполненных Розенбергом, Шмидтом или Альквистом. Сказать по правде (и по секрету), молодой гвардеец даже не раз целовал ее в укромных уголках и до, и после «предложения». Но, во-первых, она никому не говорила об этом, кроме своей подруги m-lle Х. и Дуняши, своей горничной, так что maman, да и вообще никто и не подозревает этого; а во-вторых, ведь он был же все-таки ее женихом. Да наконец, если б даже и все вальсировавшие с Мимочкой целовали ее, – не спорю, это было бы дурно, очень дурно, – но все-таки, мне кажется, это было бы менее неприлично, чем сидеть ей целыми днями в какой-то конторе. Все эти вальсёры по крайней мере люди ее круга, принятые в обществе ее знакомых, а ведь кто их знает, кто они там такие в этой конторе?.. Может быть, жиды, мещане… А кто ж поручится, что и там не будут целовать Мимочку? Она еще такой ребенок!..
Может быть, Мимочка могла бы давать уроки, courir le cachet[20]? Но уроки чего, французского языка? Она прочла Понсон дю Террайля и К°, прочла и Белло и Мало́, прочла Октава Фёлье, и Дюма-Фиса, но о грамматике она имеет самое смутное понятие; а от учительницы требуется знание грамматики. И потом давать уроки – это опять-таки значит бегать одной по улицам, рисковать быть принятой бог знает за кого… Бедная Мимочка так миловидна и женственна, что если подле нее нет приличной компаньонки, а за ней лакея, то ее можно принять бог знает за кого!
Мимочка не умеет ни шить, ни кроить, ее не учили этому; да и не портнихой же сделаться ей, в самом деле! Она умеет только вырезать абажуры и вязать frivolité. Но ведь вязанием frivolité много не заработаешь.
Словом, очевидно, что все эти толки о женском труде, о женской самостоятельности оказываются чистейшим вздором. Да и к чему мудрить, когда призвание и обязанности женщины указаны ей Богом и природой. Она должна быть женой и матерью, подругой мужчины, из ребра которого ее для него и создали. А потому Мимочка, ждите, ищите и ловите себе жениха, конечно, надежного и «обеспеченного». Вот вам третья перспектива, третий (и, кажется, единственный и возможный для вас) исход из вашего настоящего положения.
Есть женихи, самой судьбой предназначенные для Мимочки, для бедной, но избалованной, в роскоши взращенной и не привыкшей к лишениям девушки. Женихи эти бывают двух категорий. Или это богатые старые холостяки, растратившие в бурно проведенной молодости и силы, и здоровье, и ум, и чувство, растратившие все, кроме своих слишком легко доставшихся им денег, изведавшие всего, что могли дать им эти деньги, – неизведавшие еще только обладания своей «собственной» невинной, молодой и хорошенькой женой, купить которую, впрочем, никогда не поздно. Или же это старые холостяки, в противоположность первым, начавшие жизнь и карьеру с нужды и лишений, робкие, расчетливые, во всем отказывавшие себе в молодости, сколотившие правдами и неправдами желанный капиталец и достигшие наконец вожделенного чина, положения, времени и возраста, положенного ими для вступления в брак с молодой и хорошенькой девушкой.
Небо не осталось глухо к мольбам maman и посылает ей Спиридона Ивановича. Через тетушек и кумушек ведется сватовство, устраиваются смотрины; разумеется, все происходит самым приличным образом.
Спиридон Иванович может быть глуп или умен, добр или недобр; он может быть человеком нравственным или безнравственным, дурным или хорошим – все это оттенки неважные; важно же и несомненно то, что он человек солидный, пожилой, опытный и «обеспеченный», лысый, обрюзгший, страдающий катаром и ревматизмами, может быть, и подагрой…
Неужели выйти за него замуж? Maman стоит за Спиридона Ивановича. Мимочка, верьте maman: она умнее, опытнее вас, она знает жизнь. А вы, что вы знаете? Романы?.. «La vie n’est pas un roman»[21], – говорят вам; скоро вы и сами убедитесь в том, что это правда.
И Мимочка покоряется. Она дает свое согласие, кокетливо подсмеиваясь над Спиридоном Ивановичем и заранее победно притопывая носком башмачка, под которым она намерена держать своего будущего мужа.
Сватовство произошло следующим образом.
Тетя Жюли, между визитами, винтом и оперой, выискала где-то Спиридона Ивановича и познакомилась с ним. Когда она окончательно убедилась в том, что курское имение его не заложено и дает завидный доход, а также и в том, что у Спиридона Ивановича нет никакой серьезной связи (если не считать немолодой уже танцовщицы, к которой его привязывала только привычка да четверо довольно миленьких детей), тетя Жюли намекнула maman, что, кажется, у нее есть в виду нечто подходящее для Мимочки.
Maman съездила к Сергию и отслужила молебен.
Вскоре после того тетя Жюли разослала своим знакомым приглашения на вечер с танцами. Maman предупредили, что будет Спиридон Иванович. Мимочке сделали восхитительный туалет crème, достойный быть подробно описанным на страницах какой-нибудь «chronique de l’élégance»[22]. Туалет очень удался и был оценен по достоинству всеми присутствовавшими на вечере. Это был первый выезд Мимочки в эту зиму; траур ее только что кончился. Толки о ее так неожиданно расстроившейся свадьбе и о дурном поступке ее жениха еще не затихли и переходили из уст в уста с добавлениями и украшениями. Вследствие ли этого или просто потому, что в этот вечер Мимочка была особенно мило одета, но все как-то обратили на нее больше внимания, чем обыкновенно. Все точно сговорились восхищаться ею и говорить ей любезности. Мимочка танцевала больше всех, несколько оживилась, против обыкновения, и положительно была царицей вечера.
Опускаясь на стул после закружившего ее тура вальса, слегка задыхаясь и краснея нежным румянцем, она чувствовала устремленные на нее со всех сторон одобрительные взгляды, и это сознание своего успеха делало ее еще милее.
Спиридон Иванович играл в карты, но перед ужином и он вышел в залу и стал в дверях, любуясь танцующими. Мимочка очень понравилась ему. Он же в этот вечер был в духе и в выигрыше. Со свободой старого холостяка он принялся громко и искренно восхищаться грацией и миловидностью этой прелестной куколки и даже высказал, что если б только он мог стряхнуть с плеч хоть полтора десятка годков, то, не задумываясь, сейчас же, сделал бы ей предложение.
Maman, весь вечер караулившая Спиридона Ивановича, подхватила эти неосторожные слова, и сердце ее забилось радостной надеждой.
В мазурке Мимочка по совету тети Жюли выбрала стоявшего в дверях Спиридона Ивановича и прошлась с ним по зале при всеобщем восторге. Все улыбались, глядя на них: тому ли, что хорошенькой Мимочке пришла фантазия выбрать такого старого и некрасивого кавалера; тому ли, что Спиридон Иванович в его годы, в его чине и при его одышке пустился в пляс, не умея танцевать; или, наконец, просто гости тети Жюли прониклись ее намерениями и уже приветствовали в этой паре будущих жениха и невесту, – как бы то ни было, но все улыбались и радовались, глядя на них. Улыбался и сам толстый Спиридон Иванович, обливаясь потом и дыша как паровоз; улыбалась и воздушная Мимочка.
За ужином их посадили рядом. Милый Спиридон Иванович, откровенно и даже несколько испуганно предупредивший тетю Жюли, что он совершенно не привык к обществу «порядочных» женщин и особенно молодых невинных девушек, сидя рядом с Мимочкой, продолжал любоваться ею, шутливо и преувеличенно- почтительно ухаживал за ней и занимал ее, чуть не говоря «агу», «тпруа» и «баиньки», чтобы попасть в тон и быть понятым.
А возбужденная танцами и выпитым вином Мимочка, очень польщенная к тому же вниманием и ухаживанием этого смешного толстого господина в густых эполетах совсем оживилась, раскраснелась и даже разговорилась против обыкновения.
Она рассказала Спиридону Ивановичу, что она очень любит танцевать и что прошлую зиму она провела очень скучно, так как не выезжала по случаю траура по папа́; зато теперь уже она натанцуется!.. Потом Мимочка рассказала, что она также очень любит маленьких собачек и что у нее была такая душка – собачка, маленькая, маленькая; ее звали Franfreluche, и она околела! Мимочка целую неделю плакала. Это было самое большое горе в ее жизни. Она так любила эту собачку! А теперь тетя Мари подарила ей другую собачку. Эта немножко побольше, но тоже – прелесть; и зовут ее Turlurette… И она уже становится на задние лапки!..
Спиридон Иванович предложил тост за здоровье Turlurette… Мимочка смеялась, кокетничала, пила шампанское, чокаясь со Спиридоном Ивановичем, и блистая слегка опьяневшими глазками, откровенно говорила, что никогда, никогда еще ей не было так весело!
A maman смотрела на них с другого конца стола и умилялась.
На следующее утро взволнованная maman явилась к тете Жюли для переговоров. Переговорили и о курском имении, и о танцовщице и ее детях, и о вчерашнем поведении Спиридона Ивановича. Решено было повести на него серьезную атаку. Тетя Жюли великодушно вызвалась помогать и повела дело так ловко, что в какие-нибудь две-три недели бедный Спиридон Иванович был окончательно опутан, оцеплен, и оставалось назначить день свадьбы.
Maman не помнила себя от радости. Прежде, может быть, она и мечтала о чем-нибудь еще более блестящем, но теперь, в их ужасном безвыходном положении, после всех этих передряг и неприятностей с первым женихом Спиридон Иванович казался таким кладом, какого уже не надеялись и найти. Да и строго разбирая, чем не жених? Генерал, богат, кажется, человек добрый… Вот танцовщица и ее дети!.. Ну, да нельзя же, в самом деле, чтоб все уж было так без сучка, без задоринки. Если только он не будет разоряться на эту семью, то, в сущности, Мимочке нечего и обращать на это внимания.
И maman, и Мимочка совсем выбились из сил в хлопотах о приданом. Жених торопил со свадьбой, и нельзя же было заставить почтенного человека ждать, как какого-нибудь мальчишку! К тому же maman и сама слишком намучилась с первым женихом, чтоб не желать теперь ковать железо, пока оно было горячо.
Главные статьи приданого – белье, шубы, серебро – были уже налицо. Пришлось только спарывать княжескую корону. Но платья нужно было частью переделывать, частью шить заново. В шестнадцать месяцев промежутка между женихами мода сильно шагнула вперед.
Тетушки и дядюшки, переговорив и посоветовавшись между собою, сделали Мимочке новые подарки. Не скупился на подарки и Спиридон Иванович. Все шло прекрасно. Maman ликовала. Мимочка глотала мышьяк, пила пирофосфорно-железную воду, примеряла новые платья, принимала поздравления и щелкала коробками и футлярами от Вальяна, Арндта и Бо́бстеля, любуясь подносимыми ей брильянтами, сапфирами и изумрудами.
Все радовались за нее, все поздравляли ее душевно, сердечно, искренно, желали ей всего, всего хорошего и твердили хором: «Ну, слава богу, слава богу!»
И вот назначен не только день, но и час свадьбы…
Прическа Мимочки окончена. Гюстава выпроваживают из комнаты. Мимочка надевает подвенечное платье, убранное гирляндами и букетиками померанцевых цветов, с длинным трэном из толстого белого фая, подбитого белым же лионским атласом, чудное платье, выписанное от m-me Lesserteur. Мимочка несколько озабоченно щурится, оглядывая себя в зеркало. Лиф сидит восхитительно.
Остается наколоть вуаль и цветы, monsieur Gustave снова принимается за дело. Его торопят. Кажется, шафер уже приехал. Да, да, шафер сейчас приехал… Жених уже в церкви… Пора!
Сейчас, сейчас Мимочка будет готова. Я смотрю на нее, и невольно мною овладевает некоторое волнение, невольно я забегаю мысленно вперед и вижу уже светлую церковь, где толпа празднично одетых родных и знакомых переговаривается и переглядывается в ожидании невесты; вижу и толстого Спиридона Ивановича, сияющего орденами, чистенькой лысиной и новыми густыми эполетами.
Вот в толпе пробегает движение, разговоры стихают, все головы оборачиваются. На клиросе раздается торжественное пение – и Мимочка показывается на пороге церкви. Дядя Федор Федорович в ленте Белого Орла ведет ее под руку по мягкому ковру. Как она мила! Клянусь, цветы флердоранжа и белое тюлевое облако не украшали более изящной, более очаровательной головки.
Гряди, гряди, голубица…
Но знаете ли вы, куда вы грядете, бедная голубица? Подумайте, Мимочка, не остановиться ли, пока еще не поздно?..
«Зачем?.. И о чем тут думать. Все так выходят. Ведь надо же когда-нибудь сделать этот шаг. Ведь надо же. Куда же, в самом деле, деваться?!»
– Но вы бледны, Мимочка; вы опускаете ресницы, и восковая свеча слегка дрожит в вашей маленькой ручке… Вам страшно? Вам стыдно?
– Нет, но как-то жутко и неловко…
В церкви, кажется, холодно… Или это лиф слегка жмет… что-то странное, неприятное… И потом все смотрят!..
Но я брежу. Мимочка вовсе не в церкви. Она еще у себя в комнате и стоит перед большим зеркалом; она не в силах оторваться от созерцания нового платья.
Туалет ее окончен. Вуаль и цветы необыкновенно к лицу невесте, и все говорят ей это, но Мимочка уже не улыбается своей привычной однообразной улыбкой. Она слегка волнуется. На щеке ее выступает розовое пятнышко, рука слегка дрожит, протягиваясь за перчаткой. Отчего это ей так холодно?
Волнуются и все окружающие ее. Горничная Дуняша гримасничает, глотая слезы. Люлюшка, или Turlufette, визжит и лает, обиженная тем, что ее отгоняют от трэна Мимочки. Невесту окружают, оглядывают со всех сторон, оправляют на ней платье, вуаль, подают ей духи, перчатки…
Пора, Мимочка, пора! Идите теперь в залу; надо еще благословить вас. Жених уже в церкви… торопитесь, вас ждут…
Оглянитесь же в последний раз на вашу девическую комнатку, оглянитесь на вашу розовую комнатку, в которой вы кушали chocolat mignon и читали французские романы, и проститесь с ней! Вы уже не вернетесь сюда. Что-то ждет вас в новой жизни?
Мимочку благословили. Maman слегка прослезилась, обнимая и целуя побледневшую дочь. «Тебе не дурно, Мими?» – «Нет, нет, ничего…»
Мимочка спускается с лестницы. У подъезда на тротуаре стоит уже группа любопытных зевак: заплаканная горничная Дуняша, кухарка, прислуга соседей, посторонние зрители…
Тетя Жюли, мальчик с образом и невеста садятся в карету. Лакей захлопывает дверцу и вскакивает на козлы.
Скоро карета исчезает за углом Литейной.
Прощайте, Мимочка, будьте счастливы!
Вы ожидали, может быть, Мимочка, что я последую за вами и в церковь, и далее, и далее… Нет, зрителей на вашей свадьбе довольно и без меня. Взгляните только на это сборище людей, толпящихся с разрешения городовых на широком тротуаре Литейной вдоль длинной вереницы карет. Взгляните на этих швеек, горничных, салопниц, молодых и старых, зазевавшихся на ходу с узелками и картонками в руках; они не в силах устоять против искушения полюбоваться орденами и эполетами ваших дядюшек, светлыми элегантными туалетами ваших тетушек и, главное, дождаться вас – вас, Мимочка, – чтоб хоть одним глазком взглянуть на виновницу торжества.
Они ждут вас… Видите ли вы, как они приподнимаются на цыпочки, как вытягивают шеи при вашем приближении. Может быть, они и знают что-нибудь о вас; может быть, одна из этих салопниц сообщает теперь остальным самые верные или самые неверные о вас сведения; может быть, они обмениваются, глядя на вас, сердобольными замечаниями вроде схваченных и подслушанных у них великим автором «Анны Карениной».
«Экая милочка, невеста-то, как овечка убранная! А как ни говорите, жалко нашу сестру!»
Мимочка на водах
– Мимочка худеет, Мимочка бледнеет, Мимочка скучает…
Maman тревожится и суетится; Спиридон Иванович кряхтит и хмурится; беби ревет и капризничает…
Таков в общих чертах строй жизни Мимочки, а ведь как было хорошо началось!..
Прямо из-под венца молодые уехали за границу. Доктора давно посылали Спиридона Ивановича на воды, и еще до встречи с невестой у него положено было съездить летом за границу. Неожиданная женитьба не изменила заранее принятого решения, и, взяв трехмесячный отпуск, Спиридон Иванович уехал с молодой женой в Виши.
Ехали с возможным комфортом, и Спиридон Иванович был так заботлив, так внимателен дорогой, что Мимочка должна была сознаться в том, что с ним еще лучше и удобнее путешествовать, чем с maman. Положим, по приезде в Париж она была все-таки утомлена и, главное, так энервирована, так энервирована, что целый день плакала и подумывала уже о том, не лишить ли себя жизни, так как ей казалось, что больше ей ничего не остается. Париж был мрачен, страшен, отвратителен… Солнце померкло. И дождь лил, лил, лил… И она плакала, плакала… Слезы эти, конечно, смущали несколько Спиридона Ивановича, но что ж ему было делать, в самом деле?.. Дождь так дождь! На все Божья воля… И он только барабанил по столу пальцами и сердился на прислугу.
Но когда молодые приехали в Виши, где их ждала заранее приготовленная для них уютная квартирка с балконом на людный бульвар, когда они вкусно и сытно пообедали в этой веселенькой светлой квартирке и когда они, наконец, распаковали свои сундуки и чемоданы, все стало опять хорошо и весело. Мимочка увидела, что как бы то ни было, а жить еще можно и, может быть, будет еще и очень приятно. Она отерла слезы и занялась развешиванием своих новых платьев.
Потом послали за доктором. Пришел молодой черноглазенький француз, красивый и говорливый. А как он говорил по-французски, Царица Небесная, как он говорил! Да что доктор! Все, все кругом, начиная с седовласого хозяина меблированных комнат и кончая Жозефом, четырехлетним сыном портье, все были так любезны, изящны, живы, веселы… Мимочке казалось, что она приехала на родину. Аптекарь, к которому молодые сейчас же по приезде зашли за ревенем и магнезией, был как две капли воды похож на jeune premier[23] Михайловского театра, так что Мимочка даже покраснела, когда Спиридон Иванович, получив свою магнезию, принялся расспрашивать молодого человека еще о каких-то снарядах… А почтальон был очень похож на знакомого куафёра с Большой Конюшенной.
Спиридон Иванович немедленно и с полным усердием приступил к своему лечению. Он любил и умел лечиться. Не довольствуясь пунктуальным исполнением предписаний пользующего его врача, он совещался потихоньку и с другими врачами, совещался и с больными, с которыми знакомился в ваннах и у источников, совещался с аптекарем и другими своими поставщиками, накупил груды медицинских книг, брошюр и лечебников, накупил врачебных вин и лекарств по газетным объявлениям, каждый день находил в себе новую болезнь и так подробно, так многозначительно излагал доктору свои болезненные ощущения, что молодой француз, выслушивая его с глубокомысленным и вежливым участием, в то же время не без нежного сострадания поглядывал украдкой на бледную, хорошенькую Мимочку и, покручивая концы шелковистых усов, говорил ей взглядом: «Бедняжка! И так мила!..»
Спиридон Иванович решил лечить и Мимочку от малокровия и нервов. Maman так просила его об этом! И Мимочка стала пить source Mesdames[24], и брать ванны, и похаживать по парку. Но так как ее лечение было все-таки менее сложно и серьезно, чем лечение Спиридона Ивановича, то у нее оставалось еще много свободного времени, которое она посвящала разглядыванию прохожих и разглядыванию своих новых платьев. И то и другое занятие было ей по сердцу, и она не скучала. Сезон был из удачных, из блестящих. На водах был Штраус, была Патти, был английский государственный человек с женой, американский богач с дочерьми, а сколько кокоток, сколько аристократов!.. Было много романов, два-три скандала… Погода стояла чудная, жаркая, пожалуй, даже слишком жаркая. Но зато какие прогулки, какие кавалькады вечером по берегу Алье, какие концерты и танцевальные вечеринки в казино! Конечно, Мимочка ни с кем не знакомилась – общество на водах так смешано! – но и вчуже забавно было поглядеть на чужие туалеты, на чужие интриги. Вообще ей было весело. И в ответ на письма кузины Зины и подруг ее, трех сестер Полтавцевых, которые спрашивали ее, счастлива ли она, Мимочка писала: «Так счастлива, так счастлива… Jamais je ne me suis tant amusée qu’a Vichy. Figurez-vous…»[25] и т. д.
Время летело и пролетело быстро и незаметно. Курс лечения Спиридона Ивановича кончился. Он похудел, но чувствовал себя бодрее и здоровее. Мимочка тоже расцвела и похорошела на чистом воздухе Южной Франции. Оставался еще месяц отпуска. Спиридон Иванович предложил жене на решение, где провести этот месяц: в Италии, в Швейцарии, в Париже?.. Брошюрка доктора Сулигу рекомендовала для последовательного лечения тихий уголок Швейцарии, но Мимочка предпочла Париж. Спиридон Иванович охотно подчинился этому решению, и, щедро заплатив квартирной хозяйке, черномазенькому доктору и прочим, молодые уложили свой багаж и вернулись в Париж, где и начался настоящий медовый месяц. Спиридон Иванович получил к этому времени кругленькую сумму от своего арендатора, и Мимочка блаженствовала, покупая направо и налево все, что ей нравилось… О, ее медовый месяц!.. Стояли они в дорогом и хорошем отеле. Утром генерал вставал первый и, напившись кофе, читал русские и французские газеты, а Мимочка долго еще нежилась в постели. Потом она вставала, когда хотела, и не спеша приступала к своему туалету. Каждый день у нее было новое мыло, новые духи, туалетные воды, помады. А каких чулок, ботинок, подвязок накупила она себе!.. О, ее медовый месяц!..
Одевшись, Мимочка выходила к мужу, который целовал ее надушенную ручку, задерживая ее в своей, и подставлял ей для поцелуя свою лоснящуюся лысину. Они завтракали котлетками в папильотках, омаром и ордёврами и, подкрепив силы, шли гулять или ехали кататься, осматривали музеи, окрестности… Перед обедом Спиридон Иванович возвращался в номер и ложился спать, а Мимочка ехала за покупками и покупала, покупала… Потом обед, а после обеда театр, цирк, café coucert[26]… Спиридон Иванович хорошо знал Париж именно со стороны увеселительных заведений, и так как он держался того мнения, что за границей порядочная женщина может ходить всюду, потому что ее никто не знает, то он водил жену и в «Мабиль», и в «Бюлье», и во всякие «Эльдорадо», чтобы показать ей кокоток и с того, и с этого берега Сены…
Справив, таким образом, медовый месяц, молодые вернулись в Петербург с опустевшим кошельком, с возросшим числом чемоданов и картонок, с запасом забавных и приятных воспоминаний, с упрочившимися дружескими отношениями.
Все родные встретили Мимочку с распростертыми объятиями. Теперь это была уже не бедная невеста, которую тетушки не прочь были осадить и унизить при случае… Теперь это была генеральша, дивизионная командирша, жена почтенного и обеспеченного человека, дама со свежими туалетами из Парижа, с положением в свете.
Вслед за положением в свете Мимочка не замедлила приобрести и так называемое интересное положение. Надо сказать правду, что последнее положение было довольно тягостно, и, если бы maman и Спиридон Иванович не ухаживали за ней, как за богиней, кажется, Мимочка наложила бы на себя руки. Но когда кончилось все мучительное и неприятное, когда наследник Спиридона Ивановича, заняв предназначенное ему место в мире печали и слез, принялся оглашать своими воплями генеральские хоромы, и когда Мимочка встала и поправилась, у нее было хорошо на душе – и она была довольна. Довольна и тем, что похорошела и пополнела, и тем, что у нее все-таки есть уже свой настоящий, живой беби, тогда как подруги ее, три сестры Полтавцевы, все еще рисуют на фарфоре и поют итальянские арии и цыганские романсы в тщетной надежде привлечь этими ариями кого-нибудь, кто бы дал им «une position dans le monde»[27] и живого настоящего беби.
А у Мимочки есть уже и то и другое. И хотя все три сестры Полтавцевы, приезжая к Мимочке, любуясь бебичкой и целуя взасос его пухлые ручки и ножки, и говорят в один голос, что они понимают только брак по любви и что ни одна из них не выйдет иначе, как по любви, Мимочка отлично знает, что это фразы и что подвернись тогда Спиридон Иванович не ей, а им, все три сейчас же пошли бы за него. Шутка ли? Командует дивизией, и целая дивизия смотрит ему в глаза. А что еще ждет его впереди? Карьера Спиридона Ивановича далеко не кончена… Глупо было бы отказаться от такой партии.
Отчего же теперь, на шестой год замужества, Мимочка скучает? Отчего она худеет и бледнеет? Чего ей недостает? У нее есть семья. С нею ее сын, ее муж, ее мать. У нее есть деньги, есть экипажи, есть ложа в Михайловском театре. Чего ей еще? Мимочка и сама не знает, чего она хочет. Ничего ей не нужно. Ей просто надоело жить. Ей совсем, совсем все равно: жить или умереть. Умереть? Да хоть сейчас! Она так и говорит, и бедная maman не может слышать этого без слез и вздохов. Она видит, что дочь просто больна, что она тает, что она с каждым днем становится раздражительнее, слабее… Maman умоляет Мимочку посоветоваться с доктором Варяжским (maman верит в него, как в Бога). А Мимочка упрямится, сердится, говорит: «Ah, laissez douc! je me porte à merveille! Je suis tout à fait bien!»[28] И maman вздыхает, a Мимочка худеет и бледнеет.
Тетушки тоже озабочены переменою в наружности Мимочки.
– Но как Мими дурнеет! – говорит тетя Софи. – И с чего это она все хворает?
– Старый муж, – коротко замечает тетя Мари.
– Ну, можно ли так смотреть на вещи? – с упреком говорит тетя Жюли. – И потом: старый, старый… Enfin elle a un enfant. Qu’estce qu’elle a se plaindre?[29]
– Annette думает, что это роды ее так истощили, роды и хлорофирмованье, и…
– Вот старину вспомнили! Напротив, она тогда так поправилась.
– А я убеждена в том, что она просто от безделья хворает, – строго говорит тетя Жюли. – Ведь она целыми днями палец о палец не ударит. Возьмите у меня Зину: и обед закажет, и чай разольет; потом идет в Гизье, потом поет вокализы… Каждая минутка у нее занята. И посмотрите, какой у девочки цвет лица, как она здорова. Говорят: Петербург, Петербург… Вздор! Везде можно быть здоровой. А Мимочка… Да веди я такой образ жизни – я бы давно умерла.
И тетушки говорят правду. Мимочка дурнеет, Мимочка скучает, Мимочка ничего не делает. Maman так нежно любит ее, что всякое занятие, хотя бы самое пустое и легкое, считает непосильным и обременительным для Мими. Все заботы по хозяйству, все заботы о ребенке maman взяла на себя, предоставляя Мимочке кататься, одеваться, выезжать и принимать. Сначало было эти занятия и удовлетворяли Мимочку, но теперь и они ей постыли. Да и ничто уже ее не удовлетворяет… Говоря словами Шопенгауэра, она потеряла аппетит к жизни…
И рядом с овладевающей ею апатией в ней нарастает инстинктивное раздражение против maman и Спиридона Ивановича, раздражение, близкое к антипатии. Она не знает, чем они ей мешают, чего ее лишают. Она только знает, что с каждым днем они становятся все более и более чуждыми и тягостными ей. Она смутно чувствует, что тут же подле нее они создали себе жизнь, в которой им тепло и привольно и в которой она запуталась и бьется, как муха в паутине. И не выкарабкаться ей из этой паутины, потому что соткана она из нежнейшей заботливости о ней же. Едет ли она в театр, на вечер – непременно или maman, или Спиридон Иванович сопутствуют ей, и она не может сказать слова, сделать шага, который не был бы им известен и не вызвал бы их комментариев. Мимочка видит, что Спиридон Иванович просто ревнует ее; конечно, даже и тетушки замечают это. Но он не хочет в этом сознаться и свое недоверие маскирует словами: «так-де не принято»… «это неловко»… «так не делается»… И делается все так, что Мимочке жизнь с каждым днем становится все более и более постылой.
Maman и Спиридон Иванович скоро сжились и сдружились. Они понимают друг друга с полуслова. Служба Спиридона Ивановича, его смотры, комиссии, проекты живо интересуют maman, которая, еще живя с покойным папа́, сроднилась с военным делом. Мимочке же все, относящееся к служебной деятельности мужа, кажется глупым и скучным. Ей кажется, что он только нарочно болтает перед maman: «Комиссии, ре-орга-ни-за-ци-я… Со штыком или без штыка»… A maman притворяется, будто ей это интересно! Кроме разговора о службе, у них есть еще разговор о воспитании детей, которого она тоже слышать не может. Мимочка знает, что, как ни воспитывай детей, какие книжки ни читай, все равно дети будут кричать и пачкать пеленки, а потом капризничать и не слушаться. И никаких теорий не нужно. Нужна хорошая няня, а для этого нужны хорошие деньги. Чего же они переливают из пустого в порожнее?
Но хуже всего, невыносимее всего – это их разговор о политике. Политика – bête noire[30] Мимочки. Она в газетах читает только последний лист, потому что ее интересуют покойники и объявления о распродажах, a maman и Спиридон Иванович осиливают всю газету от А до Z; затем каждый день за обедом пережевывают передовую статью. Эти толки о Бисмарке, о Вильгельме, об Италии и Австрии, о скучнейшей Болгарии непременно сведут с ума Мимочку или сведут ее в могилу. Что ей Кобургский, что ей Баттенберг?! Ей двадцать шесть лет; ей бы теперь надо жить, смеяться, радоваться, а не сидеть здесь, между седой maman и лысым Спиридоном Ивановичем, который сопит, и харкает, и плюет, и подливает себе в вино amer picon. И Мимочка, сердясь на Баттенберга, капризно отодвигает от себя тарелку с котлетами, которые опротивели ей, как и все у нее в доме, и говорит: «Encore се Battenberg! Il m’agace à la fin!»[31]
И maman вздыхает, a Спиридон Иванович хмурится.
Вот Нетти Полтавцева вышла замуж за молодого человека – положим, за легкомысленного и ненадежного молодого человека, – но как они живут, боже мой, как они живут! Правда, что они проматывают капитал, и старики Полтавцевы со страхом и неодобрительно покачивают на это головами. Правда, что поклонник Нетти как бы крепче и крепче прирастает к дому, так что многие уже, говоря о нем, многозначительно улыбаются; правда, что и сама Мимочка вслед за maman и тетками повторяет, что Нетти на опасной дороге; правда, что и сама Мимочка по совету тети Жюли умышленно опаздывает сроком при отдаче визитов Нетти, – но что ж из этого? Зато Нетти веселится, Нетти живет… Нетти одевается эксцентрично, Нетти ездит в оперетку, в маскарады, в рестораны, смеется над всем и всеми и довольствуется мужским обществом. О ней много говорят и нехорошо говорят, но она смеется и над этим. Муж терпит, и все терпят… И вокруг Нетти жизнь и веселье играют и искрятся, как шампанское, которое не сходит у нее со стола.
Прежде Мимочка была ее подругой, но теперь maman и Спиридон Иванович наложили veto на эту дружбу. Они находят Нетти слишком легкомысленной и видят тут дурной пример для Мимочки. И Мимочка не отдает ей визитов, потому что, конечно, раз она на опасной дороге… Но Мимочке очень жаль, что она на опасной дороге, потому что не будь она на опасной дороге – ей было бы так весело у Нетти… Она все-таки добрая, эта Нетти, и так смешно болтает, и такая бойкая… Да что Нетти, Мимочке и у трех сестер Полтавцевых веселее, чем у себя дома. Они поют, играют, танцуют, мечтают… Они всегда влюблены, всегда говорят о капитанах и поручиках, о поклонниках Нетти… У них есть мечты, надежды, планы на будущее; у них все впереди. А она? Чего ей ждать? На что надеяться? Жизнь исчерпана. Иллюзий никаких. Она знает жизнь, знает людей, знает, что такое брак, что такое эта пресловутая любовь – une horreur[32]! И тетя Мари еще говорит ей: «Смотри не влюбись!» Ей – влюбиться! Да ей и жить-то не хочется… И лучшие годы ушли, ушли безвозвратно… Она уже старуха. Ей двадцать шесть лет. Да, конечно, это – старость… Она чувствует себя такой старой, старой, такой отжившей…
И Мимочка скучает, и Мимочка худеет и бледнеет.
К весне нервное расстройство ее доходит до такой степени, что когда в один прекрасный вечер Спиридон Иванович предлагает дамам на обсуждение вопрос, где им провести лето: в деревне или на даче, – с Мимочкой делается истерический припадок, настоящий истерический припадок – с хохотом, криком, конвульсиями… Maman в отчаянии. Вот до чего дошло! И чего она смотрела, как допустила?!
Скорее, скорее надо принять энергические меры. Теперь Мими сдается; она согласна посоветоваться с доктором Варяжским. Maman так верит в Варяжского! Он принимал у Мимочки, он раз уже спас ее от смерти, он знает ее натуру… И чудесный человек, внимательный, веселый… Не мальчишка какой-нибудь, а солидный почтенный человек, профессор… Maman верит в него, как в Бога. Теперь все спасение в докторе Варяжском. Как он скажет, так они и сделают. Скажет: ехать на Мадеру – поедут на Мадеру… Спиридон Иванович дал денег. Нельзя останавливаться перед расходами, когда дело идет о сохранении жизни, и жизни близкого человека. Как Варяжский скажет, так они и сделают.
– Кого я вижу! Мое почтение! – говорит доктор Варяжский, впуская в свой кабинет maman и Мимочку и мельком оглядывая, сверх очков, приемную, полную пациентов всякого вида и возраста, шушукающих по углам и перелистывающих журналы в ожидании очереди.
Мимочка, войдя в кабинет, устало опускается в мягкое кресло около письменного стола и слабым голосом, неохотно и односложно, отвечает на расспросы доктора, a maman переводит озабоченный взгляд с доктора на дочь и обратно, стараясь прочесть что-нибудь в выражении его лица. И испуганное и любящее воображение видит уже за спиной любимой дочери страшные, грозные призраки: чахотка, смерть от истощения… Но нет, доктор спокоен, доктор весел.
– Так вы думаете, Кронид Федорович, что можно победить эту ужасную слабость?
– Да, я думаю, что в этом нет ничего невозможного.
– Ах, дай Бог, дай Бог!.. Но, знаете, она не все вам говорит. Она так терпелива, так терпелива; но ведь я вижу, как она страдает! – И maman, перебивая Мимочку, начинает, с волнением и грустью в голосе, рассказывать Крониду Федоровичу подробнейшим образом о том, как Мимочка задыхается от восхождения на лестницу, как она плачет без всякого повода, как она сердится на горничную, на беби, как она худеет, что видно по ее лифам, как вчера она скушала за обедом только полкотлетки, а сегодня и т. д.
– Так-с, – говорит доктор, прописывая рецепт. – Ну а что вы думаете делать летом?
– Ах, Кронид Федорович, это главное, с чем мы к вам приехали. Как вы скажете, так мы и сделаем. Куда бы вы нас ни послали… вы знаете, мы не стеснены ни деньгами, ни временем. Я уже думала, что, может быть, морские купанья… за границей…
– Да, конечно, хорошо и за границей. А чтобы вы сказали о Кавказе? Вы не бывали на Кавказе?
– Нет, но я от многих слышала, что там все так еще примитивно, неустроенно… Ни квартир, ни докторов… Говорят, ужасные коновалы… И есть нечего.
– Ну, все это очень преувеличено. И поесть что найдется, не так же уж мы избалованы, а что касается докторов, ведь вы, кажется, делаете мне честь доверять мне?..
– О, Кронид Федорович, вы!.. В вас я верю, как в Бога!.. На вас вся моя надежда!
– Ну, так изволите видеть, другого доктора вам и не понадобится. Я сам буду лечить Марью Ильинишну…
– Как, вы будете там?.. О, это меняет вопрос… Если вы там будете… Когда же вы там будете?
– Вот к началу сезона; знаете, уж где дамы, там и я. А там все дамы. Железноводск так и зовут: дамская группа.
Мимочка несколько оживляется. Ей хочется ехать на Кавказ. Нетти провела лето в Кисловодске и вернулась с очень приятными воспоминаниями. Там она, главным образом, и эмансипировалась, и оттуда же вывезла своего нынешнего обожателя. А главное, Мимочка сейчас, сидя здесь, впервые сознала ясно, чего именно ей хочется. Ей хочется уехать куда-нибудь одной. Она возьмет с собой Катю – горничную – и уедет, а они все пускай делают что хотят. Доктор отмечает про себя это оживление и продолжает, изредка косясь на Мимочку, сообщать maman необходимые сведения о Железноводске. Мимочка попьет железные воды и покупается в ваннах месяца два, а там еще съездит на месяц в Кисловодск, так сказать, для полировки, и к осени она так поправится, что ее узнать нельзя будет.
– Дай Бог, дай Бог! – говорит maman с недоверчивой и грустной улыбкой, и, деликатно просунув в руку доктора красненькую бумажку, она выходит вслед за Мимочкой из кабинета, пропуская очередную пациентку.
– Что ж, Мими, – говорит maman, садясь в карету подле дочери, – что ты скажешь о его идее? Я думаю, что следует ехать. Раз он сам там будет… Ты бы поехала?
Мимочка молчит. Ее минутное оживление снова сменяется выражением угнетенности и апатии. Maman, взглянув на нее, умолкает на пять минут, по истечении которых она повторяет свой вопрос.
– Ну что говорить об этом! – отвечает Мимочка. – Мало ли чего я хочу… А он же скажет… Он опять скажет… (Мимочка задыхается.) Он скажет: в деревню! – И Мимочка заливается горькими слезами.
Maman в отчаянии и старается улыбнуться.
– Ну, полно, полно, не волнуйся так, голубка!.. Никогда мы не поедем в деревню… Он тебя так любит… Он сделает все, чего ты захочешь. Hier encore il m’a dit…[33] Полно, не плачь же; это так истощает!.. Где твой sel de vinaigre[34]?.. Понюхай, голубка, это ты устала… Куда же мы: к Жюли или в лавки?
– К Кнопу, – рыдая, говорит Мимочка, – мне надо к Кнопу.
Едут к Кнопу. Дорогой дамы продолжают обсуждать совет доктора Варяжского. Понюхав sel de vinaigre и высморкавшись, Мимочка высказывается определеннее. Она бы поехала, конечно, без Спиридона Ивановича (ему, впрочем, и нельзя ехать). Беби тоже пускай останется с maman. Взять его с собой Мимочка не может. Она и то больна от детского крика, а если за ней еще будут везде таскать ребенка, она никогда не поправится. К тому же везти беби – значит везти няньку, и подняньку, и доктора. Варяжский не лечит детей. Что они будут делать без детского доктора? Maman разве хочет уморить беби? Нет, пускай она с ним здесь останется, а Мимочка уедет одна, с Катей…
Maman соглашается с Мимочкой во всем, кроме одного пункта. Отпустить без себя дочь, у которой делаются обмороки и припадки, отпустить ее с молодой и неопытной девчонкой – нет, это немыслимо. Maman сама поедет с ней. А кто же останется с беби? Может быть, тетя Жюли возьмет его с няней к себе на дачу? Ну да, она возьмет его!.. У Кнопа все заботы мгновенно поглощаются заботой о выборе зонтика. Мимочка переворачивает весь магазин в поисках за ручкой зонтика, которую она видела чуть ли не во сне. Мимоходом она находит много новых и полезных, практичных и удобных предметов, которые могут ей пригодиться в предстоящей поездке, и забирает их. Так что, когда она садится с maman в карету, за ними выносят ворох пакетов и картонок. Мимочка имеет несколько освеженный и успокоившийся вид.
– Ты не слишком ли утомилась, Мими? Может быть, отложить Жюли до другого раза? – спрашивает maman.
– Нет, нет, уж лучше заодно, – говорит Мимочка, закрывая глаза.
Тетя Жюли принимает по средам. Утром у нее визиты и чай; вечером – карты и через среду – танцы для Зины и молодежи.
Тетя Жюли – почтенная и умная женщина с большим характером. Сестры говорят о ней: «Julie est une femme de beaucoup d’esprit, mais elle manque de coeur. C’est tout le contraire d’Annette»[35].
Тетя Жюли – безупречная жена, хозяйка и мать. Она прекрасно воспитала двух старших детей: Вову, румяного кавалериста, и Зину, получившую образование у Труба. И Вова, и Зина составляют гордость и радость матери, которой, впрочем, Господь послал испытание в лице младшей дочери Вавы, болезненной, капризной и причудливой девочки. Ее лечат, исправляют, но безуспешно. И до сих пор Вава – кошмар, язва и крест тети Жюли.
Когда maman и Мимочка входят в темно-лиловую гостиную тети Жюли, они застают там много дам и несколько молодых людей, товарищей Вовы. Перекрестный говор стоит в комнате.
– А вы опять в Мерекюль?
– Да, в Мерекюль. Мы всегда верны Мерекюлю. А вы?..
– Oh, je n’aime pas à avoir une дача; j’aime mieux rester ici[36]. Тогда ездишь один день туда, один сюда…
– Et Louise?.. Elle est toujours à Naples?..[37]
– Comment? Le bordeau avec le rose pâle… oh, mais quand c’est fait par une française, par une bonne faiseuse… c’est délicieux comme mélange…[38]
– A вчера была на выставке…
– Как вы находите выставку?
– Ах, мы так хохотали!.. Мы входим и встречаем.
– Et tous les soirs elles vont aux iles. Et tous les soirs c’est la même chose. C’est triste…[39]
Мимочку встречают вопросами о ее здоровье. Maman сообщает ближайшим соседкам, что они только что от Варяжского.
– Как это вы верите Варяжскому? – с ужасом говорит тетя Мари, стряхивая пепел с папироски. – Он зарезал одну мою знакомую. Она умерла под ножом. А потом оказалось, что вовсе не нужно было делать операцию… C’était une grossesse…[40]
– Ты смешиваешь, Мари. Ты это о Лисинском рассказывала.
– Будто? Ну, может быть. Все равно. Все они стоят один другого.
– Отчего вы не попробуете гомеопатии? – говорит дама-гомеопатка. – Я убеждена, что это так помогло бы вашей дочери. Именно в нервных болезнях…
– Да, я не понимаю, – продолжает тетя Мари, закуривая новую папироску, – отчего вы ездите к Варяжскому? Ведь он акушер… Si c’est une maladie de nerfs[41], отчего вы не посоветуетесь с Мержеевским?
– А я бы свозила ее просто к Боткину, – говорит тетя Жюли. – Не может быть, чтобы она так худела без всякой причины. Он определил бы болезнь и сам рекомендовал бы вам специалистов, если бы в них оказалась надобность. Я верю только Боткину.
– И Боткин ошибается, – говорит дама-гомеопатка. – Нет, серьезно, попробуйте гомеопатию. Ведь вот я сама вам налицо живая реклама гомеопатии. Подумайте, сколько я лечилась, у кого я ни лечилась, чего ни принимала… И вот только с тех пор, что я лечусь у Бразоля…
– Бразоль, а, Бразоль!.. Я встречала его в обществе. Il est très-bien[42].
– Он женат?.. На ком он женат? Разговор о медицине становится общим.
– Бразоль? Да, на ком же он женат? А Соловьев, вот удивительно добросовестный доктор. Как же, как же… У него своя лечебница… И он так занят, так занят… А барон Вревский… Вы шутите? Нисколько… Изумительный случай… Вылечил слепого, настоящего слепого, совсем слепого, которого я видела своими глазами… Это вода или электричество… Enfin, il rêussit…[43] Конечно, и вера очень много значит… О, еще бы!.. Например, отец Иоанн… Oh, ce n’est plus du tout la même chose… Vous croyez? Mais c’est un saint![44] Грешный человек, je ne crois pas à sa sainteté. C’est la mode, voilà tout…[45] О, не говорите… Если бы вы его видели… маленький, худенький… и во взгляде у него что-то есть, что-то такое свыше… Он у нас пил чай и ел фрукты… Он очень любит виноград… Конечно, надо иметь веру… О да, вера – это все!.. Но кто еще делает чудеса – это Батмаев… Qu’est ce que c’est que се Батмаев? Est-ce que c’est encore un saint?[46] Non, non, c’est un médecin…[47] Я могу вам дать его адрес…
Под шумок maman рассказывает тете Жюли о том, что Варяжский посылает их в Железноводск, и старается выведать, не возьмет ли она на лето беби с няней. Тетя Жюли возьмет их к себе с радостью на все лето, если maman согласится взять с собой Ваву в Железноводск. Мержеевский советовал удалить ее на время из семьи и велел ей летом принимать железо. И они все вздохнут свободно, когда Вава уедет. Она становится невозможна. Все в доме из-за нее перессорились. Брат предсказывает, что она кончит на виселице, и советует отослать ее года на два во Францию или хоть в Швейцарию, в какой-нибудь пансион. Отец и слышать об этом не хочет, он всегда держит сторону Вавы. Господи, если кто-нибудь возьмет ее!.. Услуга за услугу. Вава за беби, беби за Ваву. И дело улаживается.
За обедом maman сообщает Спиридону Ивановичу о результатах визита к Варяжскому и о переговорах с тетей Жюли. При упоминании о Кавказе Спиридон Иванович оживляется и приходит в прекрасное настроение. На Кавказе протекли лучшие годы его жизни, лучшие годы его службы. У него и поднесь много знакомых в Тифлисе, в Пятигорске. Чудный край, чудные воспоминания. Шашлык, кахетинское, нарзан и кавалькады в лунные ночи! Будь Спиридон Иванович свободен, он и сам поехал бы с дамами. Конечно, пускай Мими проедется, полечится. Кавказское солнце, железные воды непременно восстановят ее здоровье. Может быть, в августе ему удастся самому приехать за ними. Пускай, пускай едут. Одной ей, конечно, нельзя ехать. На водах черт знает какое общество. Но с maman и с Вавой можно смело ехать. Во сколько же приблизительно обойдется им такая поездка?
В Петербурге – май. Холодный ветер поднимает на улицах столбы пыли, но яркое солнце, светлые газовые вуали и раскрытые дамские зонтики, грохот колес, сменивший величавую тишину зимы, – все это говорит уже о весне, и яснее всего говорит о ней чистое, голубое небо, в котором сквозит светлая надежда, манящее обещание. Оно говорит, что где-то там, далеко от гранитных набережных и каменных домов, от пыльных улиц и скверов с тощей зеленью, идет уже весна, настоящая весна с ее легким дыханием, с трелями соловьев и жаворонков, с ароматом сирени и черемухи. Та весна, которою насладится всякий, кто только хочет и может вырваться из душного и пыльного города. И кто хочет и может – спешит сделать это.
На вокзале Николаевской железной дороги суета и оживление. Артельщики, носильщики снуют с багажом, сталкиваясь в дверях. В буфете стучат ножи, звенят стаканы, слышен говор, восклицания, шарканье ног, суетливый шум движущейся толпы.
На платформе, перед высоким синим вагоном, стоит элегантная группа провожающих Мимочку. Толстый Спиридон Иванович в пальто на красной подкладке; высокая и величественная тетя Жюли с длинным лорнетом, в который она брезгливо оглядывает окружающую публику; румяный и толстый Вова, любимец тети Жюли, ее радость и гордость; красавица Зина в огромной модной шляпе и крошечной модной кофточке, с двумя беленькими болонками, которые смотрят на Божий мир так же надменно и безучастно, как и их госпожа; m-me Lambert, три сестры Полтавцевы под густыми вуалями, тетя Мари с сыном, тетя Софи с мужем. Мимочка сидит уже в вагоне со своей собачкой, которую она не решилась оставить в Петербурге, и нюхает sel de vinaigre. Она ужасно устала, и потом все они так ей надоели. Уж поскорее бы ехать. А тут еще Спиридон Иванович влезает в купе и, еле поворачиваясь между диванами, осведомляется о том, удобно ли ей… Все, все прекрасно!
Вава, худенькая, черноглазая девочка шестнадцати лет, стоит на платформе с отцом и, держа его за обе руки, дает ему честное слово не ссориться с теткой и вообще быть умницей и не такой, как в Петербурге. И Вава в свою очередь берет с него слово, что он будет писать ей и много, и часто.
Maman суетливо и озабоченно перешептывается с тетей Жюли, отдавая ей последние инструкции насчет беби, няни и остающейся прислуги. Потом выражение лиц обеих меняется: maman выражает соболезнующее участие, тетя Жюли – терпеливое смирение; очевидно, она говорит о кресте, который она несет, о Ваве.
– Я понимаю, что это обуза, – говорит тетя Жюли, – но я тебе отплачу при случае. И главное, чтобы она не ходила одна.
Две старшие Полтавцевы, улыбаясь m-me Lambert, играют с болонками Зины; младшая, кокетливо вращая глазами, говорит Вове, что она не верит ни в дружбу, ни в любовь.
– А по-моему это все-таки сумасшествие, – говорит тетя Мари. – Ну куда они едут? Ведь они там будут с голоду умирать. Я отлично знаю, что Крым, что Кавказ. Голод, скука, грязь. Брошенные деньги. И что они так верят этому Варяжскому? Как будто нет докторов за границей?
– Еще бы! – подтверждает тетя Софи. – Нас тоже посылали в Ессентуки, но, конечно, мы поедем в Карлсбад. Как можно!
Последний звонок. Вава крепко целует отца и, взвизгнув, стремительно бросается в вагон, сбивая с ног кондуктора. Тетя Жюли обменивается страдальческим взглядом с Зиной. Бледная Мимочка показывается у окна и улыбается своим. Все кивают ей, кланяются, улыбаются. Bon voyage! Bon voyage![48]
Спиридон Иванович смотрит на нее добрым, ласковым взглядом. И поезд, не дрогнув, тихо трогается с места и выходит из-под темной арки.
Maman крестится, Мимочка зевает, Вава выходит из купе.
Вот и конец платформе, и конец забору, и конец огородам. Казармы, глядевшие издали на отходящий поезд всеми своими окнами, скрылись, и поезд вылетел в чистое поле и понесся на всех парах.
Maman производит осмотр вещей. Все ли здесь?.. Все ли на месте? А где Вава?..
– Должно быть в коридоре, – лениво говорит Мимочка, закрывая глаза.
– Это она, кажется, поет. Слышите? Какая сумасшедшая! – И Мимочка зевает.
Maman несколько смущена тем, что Вава сейчас же от них убежала. Как-то она довезет эту странную девочку! Главное, надо действовать на нее лаской и мягкостью. И отец просил ее об этом, и Мержеевский тоже говорил. Конечно, такая тонкая, нервная натура. У maman и у тети Жюли совершенно противоположный взгляд на воспитание. Maman всегда находила, что тетя Жюли слишком крута с Вавой. On ne prend pas les monches avec du vinaigre, mais avec du miel[49]. Maman покажет, что можно ужиться и с Вавой. Жюли – est une femme de beaucoup d’esprit, mais elle manque de coeur[50]. A maman – напротив: y нее сердце на первом плане, а ум на последнем, по ее собственному выражению. Она будет действовать на Ваву лаской.
Вава стоит в коридоре у открытого окна и во все горло поет:
- Тучки небесные…
Это дико и смешно, но maman, подумав, решается оставить ее в покое. Пускай она стоит там и поет, – она больная. Сначала надо приручить ее, а потом уже стараться перевоспитать ее.
И maman, осторожно выглянув в щелку двери, садится на свое место и снова начинает пересчитывать вещи, ощупывая у себя на груди замшевую сумочку с деньгами.
Мимочка сняла дорожную шляпку от Ivroz, расстегнула кофточку и, лежа на бархатном диване, играет со своей собачкой, теребит ее за уши, гладит по головке и говорит с ней:
– Ну что, Моничка, ну что, душка моя? Моничка чаю хочет? Да?.. Дадут, дадут Моне чаю. Как можно, чтобы мосенька у вас легла спать без чаю! Спроси, Моня, бабушку, где вам чаю дадут? Да, да, Сабинька, чаю… Du thé… Et du sucre, oui, un peu de sucre[51].
В Любани мосеньку поят чаем с сахаром и сухариками. Дамы тоже пьют чай, поданный в вагон высоким, молодцеватым кондуктором, на которого красная подкладка и щедрость Спиридона Ивановича сделали должное впечатление.
Темнеет. Мимочка укладывает мосеньку, maman укладывает Мимочку, кондуктор поднимает диван для Вавы, которая располагается над maman, задергивает фонарик, и в купе водворяется темнота и тишина, нарушаемая только похрапываньем мосеньки, свернувшейся клубочком на своей стеганой перинке.
А поезд летит, стуча и гремя, летит через рвы, мосты и болота и поет свой однообразный, дикий гимн, убаюкивающий усталых пассажиров.
Maman чувствует себя прекрасно. Уложив Мимочку, которая сегодня так спокойна и ни на что не жалуется, maman надевает туфли; сняв чепчик, повязывает голову косынкой и с удовольствием растягивается на диване. Ну, вот они и выехали. Maman очень надеется на то, что воды и перемена воздуха благодетельно подействуют на ее бедную больную. И потом Варяжский будет там, а это – главное. С этой стороны, maman совершенно спокойна. Она сознает, что ей и самой приятно будет проехаться, проветриться, отдохнуть на время от дрязг с прислугой, от постоянной мысли и заботы об обеде, о говядине, о кашке для беби и его ванночке, о ценах на сахар и свечи, о белье и керосине. Три месяца полного отдыха! За беби нечего тревожиться. Он в надежных руках, и уход за ним будет образцовый. К тому же Спиридон Иванович будет наезжать в Петергоф и навещать его. К осени Спиридон Иванович ждет монаршей милости и, вероятно, дождется. Следовательно, и тут все хорошо. А они тем временем проедутся, проветрятся, соберут запас сил и здоровья к зиме. Вава, лежащая над головой maman, может, конечно, наделать хлопот, – ну, да что Бог даст. Главное, действовать на нее мягкостью. Катя будет везде сопровождать ее; тетя Жюли положила Кате жалованье от себя и заплатила за проезд ее в один конец. И вообще тетя Жюли очень щедро отпустила и на лечение Вавы, на ее стол, квартиру, непредвиденные расходы. Maman везет такую кучу денег, что, наверное, не будет спать ночей из страха воров. А сестры еще говорят, что Жюли скупа. Нет, она не скупа. Она педантка, она аккуратная, но она не скупа. Например, доктору, который будет лечить Ваву, она положила двести рублей за лето. Maman находит, что это ужасно много. Неужели и Мимочка заплатит Варяжскому столько же? Ну нет. Мало они переплатили ему в Петербурге! И ста за глаза довольно. Или уж так и быть, дать полтораста. Maman верит в него, как в Бога. И он действительно славный, симпатичный человек… и bel homme[52]. Но все-таки сто – за глаза довольно. Сто?.. полтораста?.. сто?..
И, не решив этого вопроса, maman начинает тихо храпеть.
Мимочка лежит на соседнем диване, грациозно положив на руку свою хорошенькую головку. Ей приятно так лежать; ей здесь лучше, чем у себя в кровати. Там, во время истомившей ее бессонницы, ее окружала такая тишина, такое безмолвие, но зато в ней было смятение, была буря. Все в ней дрожало, билось, стучало, колыхалось. Какая мука, какое томление! А здесь наоборот, здесь весь шум, все беспокойное извне, и это так хорошо на нее действует. Ей приятны и свистки, и звонки, и это покачиванье и подрагиванье дивана, и стук колес, и дребезжанье стекол, и побрякиванье пепельницы. Этот хаотический однообразный шум убаюкивает ее. Ей хорошо так лежать, и она думает о своих новых платьях. С какой шляпкой она будет надевать свое платье mousse[53]? Она везет с собой пять шляпок, но ни одна из них не идет к платью mousse, разве если снять с черной шляпы голубые цветы и положить бледно- розовые и ленту mousse. И Мимочка обдумывает эту шляпку. Но что хорошо, что бесспорно хорошо, это – ее амазонка. У нее не было ни одного лифа в жизни, который бы так сидел. Восторг! Когда амазонку принесли от Тедески и Спиридону Ивановичу попался счет на глаза, он ворчал за расходы, и она тогда так плакала. Глупая! Чего было плакать, когда лиф сидит так дивно. Но с кем она будет ездить? Варяжский будет там. Он ей очень нравится. Он такой высокий, стройный. Он сказал: «Я посмотрю, как вы будете там скучать». Может быть, они будут соседями. Во всяком случае, они будут встречаться. Они познакомятся. Это ничего, что он доктор. Он такой же генерал, как и Спиридон Иванович. Они познакомятся и будут вместе ездить верхом. Он, должно быть, хорошо ездит верхом. Он…
И Мимочка, закрыв глаза, видит отчетливо образ доктора Варяжского; понемногу образ этот начинает выглядывать на нее и из спинки бархатного дивана, и из дверей с зеркалом, и из дребезжащих стекол, задернутых синей шторкой, и с потолка, в котором мерцает синий фонарик, задернутый лиловой занавеской. И влияние ли этого образа, доверие ли к своему врачу, усталость ли, только Мимочка засыпает, засыпает без хлоралгидрата, без валерианы и видит во сне доктора Варяжского.
Вава бодрствует больше всех. Ей вовсе не хотелось спать. Она бы и теперь охотно стояла еще у открытого окна, вдыхая ночной ветерок, глядя, как роща убегает за рощей, как зажигаются огоньки в поле, как загораются на небе звезды. Но она дала честное слово слушаться, а потому не успела тетка заикнуться о том, что пора спать, как Вава уже лезла наверх. Теперь ей жаль, что она сюда залезла. Ей тут душно и скучно; к тому же надо смирно лежать, чтобы не будить maman и Мимочку.
Вава рада, что она едет на Кавказ, и главное – едет одна. Вава считает, что она едет одна. Она знает, что maman и Катя будут так поглощены заботами о Мимочке и о ее комфорте, что им будет не до нее. И она будет свободна. А для нее это – главное: быть свободной и целый день быть на воздухе. Какое счастье!
Она будет гулять там по горам и по лесам, и никакой француженки или англичанки не будет у нее за спиной, чтобы отравлять ей ее удовольствие. Там будет тепло, там будет красивая местность: горы, зелень, солнце… Будут новые лица, новые знакомства. Может быть, там, наконец, она увидит и узнает тех хороших, тех замечательных людей, встречи с которыми она так жаждет, так ждет. Таких, как Вашингтон, Кромвель, Вильгельм Телль, Жанна д’Арк, мать Гракхов… Не может быть, чтобы таких людей не было. Если они были в истории, они были в жизни, они есть и теперь. Она только не встречала их. Но это случайность. И она еще встретит их, потому что ей так хочется, так хочется познакомиться с такими людьми, пожить в их близости, поучиться у них, возвыситься до них… Никогда она не поверит тому, что весь мир заселен такими людьми, как их знакомые. Ох, уж эти знакомые! Можно ли жить так бессмысленно и тупо! Кажется, если бы жадность, зависть и тщеславие немножко не подталкивали их, они совсем заснули бы, застыли бы. И такой жизнью, такой пустой, бесцельной, бессмысленной и низменной жизнью живет большинство тех, кого она знает. Так живут ее мать, сестра, тетки… Над ней смеются, ее зовут чудачкой и фантазеркой за то, что ей хочется чего-то другого, более благородного и осмысленного. Она понимает, что должна казаться им несносной, но она не может винить себя за это… Отец – он не такой, как они все; он-то, голубчик, хороший. Он и умен, и добр, и как он добр к ней! Если бы не он, она, кажется, давно убежала бы из дому. Отец – прелесть! Но все-таки и он трусит… да, трусит жены и сестер ее и уступает им. Зачем? Он чуть что не прикидывается таким же, как они, а если и обнаруживает лучшие стороны своей души, то делает это как бы шутя, как бы подтрунивая над собою и извиняясь перед ними. Зачем? Чему, кому он уступает? Чего боится? Отчего не повернуть по-своему, не повести их за собою? То ли дело быть смелым, твердым, сильным… А все, кого она знает, все, все такие…
