Овидий-роман
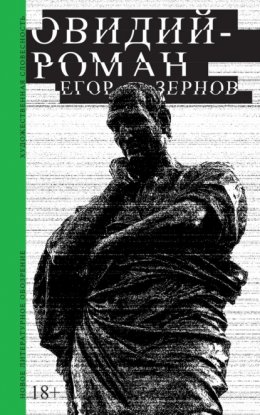
© Е. Зернов, 2025
© Н. Алпатова, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
Her. – Heroides (Героиды)
Am. – Amores (Любовные элегии)
Ars – Ars Amatoria (Наука любви)
Met. – Metamorphoses (Метаморфозы)
Med. – Medea (Медея)
Trist. – Tristia (Скорбные элегии)
Pont. – Epistulae ex Ponto (Письма с Понта)
Fast. – Fasti (Фасты)
Her. 9
Прием, мы смотрим на одну новостную сводку – может, чуть различаясь. Может, я вовлечена в то, что делают твои руки уже несколько месяцев, больше, чем твои руки, больше, чем ты. Прием, мы смотрим на огонь комбината, он перетекает в черный дым над парком, и всегда кажется, что там что-то не так, будто горит не то, что нужно. Хоть это и был очередной раз, а именно: очередная вспышка огня, очередная черная лужа в полнеба на фоне постоянного запаха, кажется, серы, мы не могли пойти дальше. Мы сели на скамейку перед обрывом, внизу которого длился только лес, неширокие тропы, гаражи, к которым сложно подъехать (поэтому в них только пьют), храм и святой источник, а рядом с ним постоянно бродят, идут куда-то молодые националисты из небогатых семей. Они идут в поисках нефоров из других небогатых семей – несовершеннолетних мальчиков и девочек с бутылками «Виноградного дня» в рюкзаках, его продают кому угодно в ларьке недалеко от парка, он сильно пахнет спиртом и дешевыми ароматизаторами. А мы сели на скамейку перед обрывом, и взгляд упирался в завод, единственную причину существования этого города. Когда в детстве от деда я слышала слово «сталевар», я представляла огромную кастрюлю с крышкой в виде трубы, в которой варят сталь, и она скоро превращается в черный дым, который заволакивал небо, пока мы сидели перед обрывом. Перевернутый быт металлурга: я ложилась спать, а дед одевался в рабочую одежду, чтобы дышать жаром, смотреть неустанный огонь, иногда он видел аварии – например, опрокинутый чан и голос, подобный не шуму многих вод, но протяженному треску болгарки, который скоро перекатывался в круговорот документов, бюрократическое оформление несчастного случая – хорошо, что для катастрофы уже подготовлен язык. Дым был настолько настоящим и заметным, что казался прифотошопленным к синему фону летнего города, он сдавливал пространство своим объемным кожаным телом, на теле торчали жирные жилы, воткнешь в него иглу, и на постройки из резко расширяющейся дыры выльется густая смола. Так казалось, пока мы сидели перед обрывом, и я думала о тревоге и радости оттого, что видеть этот ландшафт – теперь, возможно, самое страшное. На твоих глазах была только радость и все, только кипящая смола, из полной чаши города собранная в твои зрачки, существа с вертикальными разрезами ртов, расцарапанное лицо луны, ножи и грозы, железные жвалы и длинные фаллические шеи с крепкими зубастыми наконечниками, двойное солнце, желающее слиться воедино, пакеты с животным мясом, троящиеся тела, бесконечный металл, перевариваемый собственным сиянием. Я сидела перед обрывом, ты отсутствовал, я говорила, а ты молчал, я целую твое лицо, как последнее слово, прощальная речь, я кладу факт твоей гибели – конечно, героической, какой еще – на твое тело, как на стол. Прием, это я, девочка – твоя, как земля и как знамя. Ты из могилы размахиваешь моим именем, пока твое висит на баннерах над загруженным шоссе, в общественном транспорте. Таксист, утомленный работой, смотрит на твой ясный лик под шлемом, дежурно размышляя, как и каждый увидевший, жив ли ты или нет. Ты кот в мешке, помещаешься между списком продуктов и вечерним просмотром кино. Когда-нибудь ты застрянешь в вагоне метро на бесконечной кольцевой, напротив тебя будет висеть плакат с моим лицом: вытаращенные глаза, пена у рта, полное имя рядом, и тебе никак не удастся покинуть поезд. Но ты захочешь остаться, Геракл.
Am. 1.1
Я, Публий Овидий Назон, человек, рожденный завтра, поэт, выбравший писать любовно, наверное, нащупавший эту линию ускользания, временной период, пазуху, из которой такое письмо возможно, по крайней мере, из которой речь о таком письме допустима, приступал к прозе несколько раз. Необходимо было найти точку сопротивления. Необходима была машина. Например, Гомер. Гомер-машина. Совершенная пустота и мэнин-аэйде-теа, многократно отточенные и уточненные сухими губами рапсодов. Что-то бесконечно удаленное, то есть сплошной звук, для которого можно придумать приблизительное значение, инопланетную этимологию, как «человечный» или «подобный». Хомерос то есть. Когда у меня спросили, почему нам, светловолосым студентам, так нравится писать об Античности, я не нашел ответа. Я не нашла, по крайней мере, внятного ответа. Мы сидели на кухне, курили сигареты со странной кнопкой, простыни, вывешенные на балконе, открытом для дыма, закупоривали помещение, и влага, смешанная с горением табака, доводила до тошноты, легкие будто увлажнялись и высыхали одновременно. Это обстоятельство точно накаливало важность вопроса. Мне нужно было сформулировать ответ, дым укалывал виски. Не помню, что я ответил: было что-то про сжатие этой сферы до краев. На краях что-то, что я знаю о любви. Публий Овидий Назон начинает свою книгу с поэтологии, он пишет: «Сначала я хотел писать гекзаметром, и шум сражения должен был стать текстом, но Купидон своровал по стопе из каждой второй строки, и элегический дистих напомнил мне о настоящем импульсе моего письма. По-немецки это LIEBE». Но потом проникает militat omnis amans (то есть каждый, кто любит, воюет). Овидия брат – Козлов, прибывший на котлован пассажиром в автомобиле. Сегодня он ликвидировал как чувство свою любовь к одной даме. Райнер Вернер Фассбиндер тем временем снимает себя в (возможно) своем интерьере, это фильм о терроре и матери, о личном и политическом. Германия осенью. Ночью холодно, и Райнер Вернер встает с кровати, совершенно обнаженный. Он подходит к телефону, садится на пол, спина его прижата к стене. Говорит (нервно): Баадер, Энслин, Распе мертвы. Райнер Вернер говорит это, не верит в это, трогает свое тело, как трогают сломанную игрушку (SPIELZEUG), нащупывая повреждение, сжимает свой член наподобие губки – автоматизм пальцев, движение наотмашь, нет смысла, случайные сокращения. Райнер Вернер выгоняет сожителя, орет на мать, смывает порошок, слыша сирены в окне. Тогда он подходит к звукозаписывающему устройству, надиктовывая сценарий большого сериала, ведь снимать нужно, пока получается. Как? Не о политике, но политически. Не о войне, но войной. Не элегическим дистихом, но гекзаметром. Вот тогда-то и влетает в комнату сын генерала, некто по имени К. с агрессивным бебифейсом и искривленным ртом. Он пронзает живот тебе, Райнер Вернер Фассбиндер, он кричит и спрашивает у тебя, Райнер Вернер Фассбиндер, где твоя витальность, сука. Разошлись полюбовно, конечно. И мы переходим на ямб, веселя лицо, и мы говорим, что Liebe все-таки kälter als der Tod, как название фильма, о котором мы постоянно думаем, но сам фильм не видели. Тогда мы из Москвы транслируем радостно рекламу смерти с нами в главных ролях. С ямбом, естественно, с резкими склейками.
Her. 1
Троя дробится мне в ленту. У батареи все еще тепло, а кровать холодная. Она стоит в углу комнаты, и я всегда выбираю ложиться лицом к стене, чтобы пустое пространство не заливалось в меня сквозь сомкнутые веки, оно большое и страшное. Павший город – юридическая особенность, пустой документ, повестка. ВСТУПИТЬ В СИЛУ могло бы только твое тело, необязательно согревающее твою фригидную, зачеркиваю, холодную сторону постели. Спроси у меня, Пенелопы, которая прямо сейчас пишет это письмо, сколько раз твой образ уничтожался в моей нездоровой груди. Он возникает, он взлетает, он падает, в него летят копья стрелы снаряды бомбы метательные ножи сюрикены (это вообще откуда) палки осколки гнилые овощи яйца кирпичи пули. Болезненное – нетрезвое даже – сознание, построенное на смежностях, построенное на метонимиях. Таким образом, гибель Патрокла есть твой раздираемый, как хрупкий холст, торс, твой мясной торс. Казнь ШЛЕМОБЛЕЩУЩЕГО – это круги твоих глаз, для обозначения которых достаточно капли вина, размазанной по столу, а в них только радость, только кипящая смола, двойное солнце, пакеты с животным мясом, тогда же в кадр въезжает ТРОЯНСКИЙ КОНЬ твоих намерений, железные жвалы, троящиеся тела, груды оружия в полости деревянного животного, горячее, потное дыхание кучки мужчин, налезающих друг на друга, приготовивших подарок смерти по твоему собственному рецепту. Бойтесь данаос-эт-дона-ферентес, враждебные женщины, милые, вашей кровью смочены любовные руки ахейских мужей. Ожидание – это непонимание ритма, и я бью невпопад. Я была, ты отсутствовал, я говорила, а ты молчал, ты целуешь мое тело как распутанный саван, непослушные нити налипают под губы. Виртуальный секс прямиком из окопа, вебкам на военном корабле, твои обрезанные части тела, растянутые во весь экран. Улыбнись бедром или уздечкой, у тебя сто двадцать зрителей. Прием, хитрожопый Улисс, это я, девочка – твоя, как земля и как знамя. Как безупречно чисты оказываются твои руки, когда ты говоришь, что возлежал с ней на острове БЕЗ УДОВОЛЬСТВИЯ. Надеюсь, дряхлая старуха, найденная тобой в будущем на Итаке, внушит тебе нечеловеческий сатисфэкшн, когда в слезах ты будешь рассказывать о страданиях в чужой постели, икоте и заикании над устами нимфы. На саване шьется история, где надрывается каждым отверстием Улисс-оркестр, медный ор посудин его заглушают сурдины, поэтому на выходе слышен только безобразный хрип, ненормальный рев: попытка распознать похеренное тело, в ров сброшенное. Спроси у меня, Пенелопы, которая прямо сейчас пишет это письмо, во что и в кого обращался Протей, о твоей судьбе спрошенный, во что и в кого обращался Протей, твоя душа родственная, твой друг закадычный, ебаный твой рот. Так вот, что касается кадыка, который сын твой в позвоночник божества вдавливал, он сработал как кнопка, активация нескончаемой метаморфозы. Остается гадать, как выглядит удушье воды, рот дерева, хватающий воздух, губы ковра и гортензии, схватки рыбы, руки облака, за руки душителя цепляющиеся, как выглядишь ты, возвращенный.
Am. 1.6
Черным знаменем он крутится вокруг твоей шеи. Очевидность вреда реконструкций, пока пишешь о нем. В конце концов, ГОМЕР-МАШИНА, насколько мне известно, – это набор формул, закрепленных за своими позициями в стихотворном размере. Эти формулы суть имена, топонимы, костыли сюжета. Остальное вариативно (теория Пэрри – Лорда). Если бы мне надо было снять фильм по Гомеру, я бы поделил его на десять новелл, а в них одна и та же история протекает разными способами. Десять фантазмов о древней войне. Как бы войти в одну и ту же дверь, что ветвится. ПРИСЛОНЯСЬ К ДВЕРНОМУ КОСЯКУ, видишь новое помещение, такое же лиминальное, не имеющее специального содержания. Ну вот, ты сам врос в ожидание, ведь тебе нужен, например, документ, справка, регистрация, и проходы, нагруженные эротическим значением из‑за римской элегической традиции, хотя не без Каллимаха и еще пары имен, эти проходы теперь просто проходы, и дверь теперь дерево. И ты пронзаешь собой эти полости, своим телом как своим почерком расписываешься в собственной беспомощности. Еще один коридор, набрякшая шелухой бумага уже натерла, разрезала натрое руки. Еще раз – совершенная пустота помещения, но не забудь про камеру, которая повешенной головой с твоих плеч висит в каждом углу. Там было так: человеческие фигуры, стоящие у каждой замкнутой двери, шепчут что-то неразличимое, резкий щелчок, и как бы появляется фантомный звукорежиссер, движением пальцев сводящий дорожки их голосов к одному потоку, тональности все еще отталкиваются магнитами друг от друга, интонации не сводятся в унисон, на полотне шума выпирают швы, но говорят они, наконец, одно и то же. То есть тебе не кажется, что это все меньше похоже на текст для чтения. То есть открой дверь, привратник, то есть ты, сама дверь, услышь меня и откройся, то есть я, дверь, терплю унижения от древних певцов, кашляющих от возбуждения, пока внутри спит хозяйка, то есть мы, поэт и дверь, обмениваемся информацией сквозь пыльный ветер. Множество вариантов, ни один не доводит дело до конца, пока не появляешься ты, фантомный звукорежиссер, Публий Овидий Назон, пытаясь выкрутить звук на максимум, отобрать у каждого по куску, сшив это воедино повыше живота, ниже груди, на руках, на предплечьях. Конечно, вышеупомянутые люди, то есть сам Овидий, Альбий Тибулл, Секст Проперций, Гай Валерий Катулл, все они смотрят на тебя уже извращенными в рамках твоей оптики глазами и смеются, а ты унижен, вот ты лежишь на полу в луже из себя, вот тебя фотографирует небесный глаз, ты находишься в туалетной кабинке, стены которой сделаны из стекла. Что там с Гомером? Плачет на берегу моря Улисс, в плену у нимфы с говорящим именем Калипсо, слезы по бороде, тот самый Улисс, некогда пытавшийся ускользнуть от ахейской мобилизации, увы, неудачно. Теперь и тебя как бы призывают к ответу, и ты вроде уверен в этом голосе. Что же он выражает, тот голос, перечисляющий подлежащих призыву. Он, например, поет. REALMS OF BLISS / REALMS OF LIGHT / SOME ARE BORN TO SWEET DELIGHT / SOME ARE BORN TO SWEET DELIGHT / SOME ARE BORN TO THE ENDLESS NIGHT. Голос материализуется в очередной раз, свинцовым каблуком сапога надавливая тебе на пах, а ты кричишь, кричишь ты, нечленораздельное что-то выражая, цитируя кого-то, никого и всех одновременно. Ты на похоронах еще одного мужчины, погибшего от передоза в съемной квартире, что слышал? Там, за деревом, забалтывается Хаксли кислым языком, взахлеб несет в глаза твои речь, из которой сложно что-то выцепить. Например, неуместное замечание о совпадении кислого языка и трезвого разума гения. Пройди мимо, на могиле рюмка и шоколадные конфеты. Получается, если верить ему, я сейчас размазан по плоскости ровно так же, как Иоганн Себастьян. Пах, точнее, тот ореол, что так называется, сожжен каблуком голоса в золу и мясо. Нить изгнания поддевает прямоугольник кадра, проникает внутрь и выходит, вытесняет тебя за пределы. Ты все еще не ответил. На это было трудно ответить. Да, перспектива выглядела довольно странно, и стены комнаты, казалось, уже не смыкались под прямыми углами. Однако я не видел никаких пейзажей, никаких громадных пространств, никакого волшебного роста и превращений зданий, ничего, даже отдаленно напоминавшего бы драму или притчу. Конечно, ты мог бы задействовать здесь голос большого поэта, сказать об авторе на месте разлома или о тех, кто не написал ни строки после падения Берлинской стены, сказать о тех самых, кто несомненно рожден для СВИТ ДИЛАЙТ, пока грубая боль пульсирует ниже живота, будто вы срослись с Протеем как-то неверно. Момент совпадения CRIME SCENE, места преступления, и съемочной площадки. Сам себя ты очерчиваешь мелом на полу, и собирается что-то ниже груди, на руках, на предплечьях, и выкипает в зеркальную поверхность внутри силуэта. Ответ твой – сквозняк, бурлящий вверх из-под древесины, из подвала. Черным знаменем он крутится вокруг твоей шеи.
Her. 13
Окно как предлог для истории. Мерзнут руки, и я стою с кулаками наготове, согревая пальцы. Дети в сугробах шумно играют в Афганистан. Желание делать это по-настоящему, ведь условность игры не позволяет понять, кто остается в живых на самом деле. Ты убит, нет, ты убит, я в тебя стрелял, и я был первый. Мертвая девочка или мертвый мальчик, скрыт: ая большой шапкой, бросает новогоднюю игрушку в роли гранаты за бугор сугроба. Ожидание алого знака на деревьях, что подсказал бы гибель юного соседа по лестничной площадке. Я через двор не пойду. Было бы слишком опрометчиво. Электрики вешают красные гирлянды в саду. Праздничный стол на двоих, новогодняя речь. Всегда обезвоженная, напиваюсь кипящей смолой из вдового чайника, вскрываю пакеты с животным мясом, пока за стеной висит: «Перестань разговаривать со мной как с мужчиной». Сочиняю монолог о бессмысленной войне и сразу же бью себя по губам, произнося его вслух, но между сочинением и ударом остается промежуток, внутри которого я могу проследить движения своей головы, она отворачивается вправо, резко выкручивается влево, как крышка бутылки. Тогда я опять, пока не стемнело, поворачиваюсь к окну: какие-то синие флаги на ветру, который заливается в уши сквозь щель в пластике. Лучи сверху черпают угловатыми руками снег, бросая его в меня. Я пытаюсь смотреть на солнце, скашиваю глаза в одну точку, теперь это двойное солнце, желающее слиться воедино. Светлее не стало, скорее наоборот. Будто затмение, будто огромным ковшом выкорчевывается весь двор, настоящая беда, крик заведующего, который падает в пропасть, мол, я все еще главный, я с тобой, я тебя вижу. Расслабляю глаза, и солнце все же сливается воедино. ОПАСНОСТЬ МИНОВАЛА, и все снова – снова все танцуют, все играют в снежки, и они вонзаются в глубокие узкие впадины древесной коры. Кора́ твердая и царапает кожу, когда касаешься, а я, ко́ра, κόρη, девушка, какая – еще не поняла. Такая. Может быть, я тут стою фигуркой, всегда молодая, в статичной позе, в традиционной одежде, с архаической улыбкой на устах. Так и буду стоять, чтобы твое ограниченное воображение, полное механических движений, не знающее разницы между положением ладони на смертоносном древке и на члене, воображение, вобравшее в себя только мой бессловесный фотообраз, совпадало со мной в режиме реального времени. Потом я поднимаю руки, на лбу выступает пот, я открываю рот, теперь я неуловима: взвожу курки, разряжаю оружие, живу одна со своим телом, живу в тело. В стекле как бы твое отражение, напоровшееся на чей-то штык, и ты гоняешь по венам бесконечный металл, перевариваемый собственным сиянием. Будь любезен со своим убийцей! На войне умереть первым – дорогое удовольствие. Говорят, в древних цивилизациях вору отрубали руки, лжецу резали язык, трусу выкалывали глаза, а первого убитого в походе расстреливали. Для начала ты пишешь сочинение на тему КАК Я СТАЛ ПРЕДАТЕЛЕМ, а потом в тебя стреляют, текст сочинения вывешивают в школе для будущей работы над ошибками. Дети дружно кричат слово ПРЕДАТЕЛЬ, бряцают оружием – тут большой набор: двустволки, обрезы, автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, дробовики, штурмовые и снайперские винтовки, коктейли Молотова, лимонки, ручные гранаты, ядерные снаряды, химическое оружие, ножи и грозы, розочки, камни, огнеметы, копья, динамит, мины, шпаги и т. д. Тот, кто издаст шумы громче всех, получит оригинал текста сочинения. Ребенок кладет запачканный лист на учительский стол, достает из кармана зажигалку (больше не нужно оправдываться перед мамой, откуда она взялась в рюкзаке) и сжигает написанное. Огонь горит недолго, но ярко, дети хлопают, тянут руки в сторону горения и сразу же выстраиваются в очередь к раковине, чтобы эти самые руки вымыть, ведь дальше играет государственный гимн, во время которого одной из этих самых рук, а именно правой, нужно схватить сердце покрепче, до сока, и он звучит громко и четко, сквозь хриплый перегруз оркестра слышны отдельные слова:
<…>
был я случайно в нынешней чайной понял секрет
нас просто нет
вот беда
и в принципе видимо не было вообще никогда
<…>
Поэтому ты подходишь к своему убийце и говоришь: Милый, милый убийца, поцелуй меня, разбей меня, размажь меня, вытри о доспех, но давай я буду не первым убитым, а сразу вторым. А первым никто не будет. Первый поединок на поле брани на этот раз ни о чем не скажет: тут ни победы, ни поражения, ничего. И напишут на моей могиле: ТУТ ЛЕЖИТ ПРОТЕСИЛАЙ, ОН БЫЛ УБИТ ВТОРЫМ НА ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЕ, А ПЕРВЫМ УБИТЫМ ОН НИКОГДА НЕ БЫЛ. Не милые ли это слова, говорит твой убийца в красивом шлеме. Не добрые, не честные, не справедливые? Он оказывает теплый прием, совершает обряд вторичной смерти, и ты, спокойный, вроде каменный курос, κοῦρος, лежишь, держась за голое сердце – покрепче, до сока. Тело твое тает на побережье чужой страны, как тает восковой образ тебя на моем подоконнике. Я подношу огонь, а искусственная плоть бежит огня, как отталкивается магнитная стружка. Голова становится похожа на разбитое горлышко вина, ощущается явное проседание, будто струны, погруженные под воду или резко сменившие строй. Вот я и смотрю в окно, потом на блестящую лужу из тебя, потом снова в окно, и думаю, как бы в новом году не вернулось твое возбужденное Я-ПРОСТО-ВЗРЫВАЮСЬ-НА-ЭТОМ-ТЕКСТЕ.
Am. 1.2, 1.9
На этот раз фоном должны звучать «Осколки», склеенные с бравадой человека, вернувшегося из пекла, а в ней речь, застрявшая в ритме насилия. Так, от друга, вернувшегося с учений, ты слышишь только о событиях там. Была не вполне очевидна вполне очевидная теперь связь неравного-боя и осколков-девичьих-сердец. В римских элегиях описывают немногих солдат, что подробно рассказывают граждан: кам родного города о войне, рисуя каплей вина расположение сил и векторы их движения. Пуста бутылка, и вино – этот маркер движения войск – бежит в тесный желудок, и люди комкуются желудочным соком. Я РАНЕН В ГОЛОВУ Я ГЕРОЙ, ставший героем в момент ранения в голову, я раздаю героизм возлюбленным, сжимая (покрепче, до сока) их сердца. Вот так мы и совмещены. Большой проспиртованный кулак, который вполне уместно смотрелся бы в Кунсткамере, разрастается до размеров знамен над центральными зданиями, выпуклые вены связываются в плотную связку, фасцию, но – неожиданно – точка соединения со своим бешеным избытком вырастает в жирный праздничный бант на голове первоклассницы. Конечно, я, Публий Овидий Назон, выступающий со стихами на школьной линейке, не хочу писать о войне и насилии, даже если левые интеллектуалы в попытке подобрать вирус для заражения или взлома официального дискурса предлагают писать не о войне, но войной, не о политике, но политически. Это я, Публий Овидий Назон, не понимающий даже, как ты ко мне обращаешься в нашем разговоре – на «ты» или на «вы», ведь ты говоришь просто: «Назон, мне нужна помощь» или «Назон, сегодня холодно». Понятное дело, ты всегда можешь сказать: «Назончик, Назонушка, как дела?» – но это уже слишком, поэтому я, Публий Овидиевич Назонов, Публиев Овидиевич Назон, кто его разберет, на всякий случай подбираю безличные предложения, упоминая твое имя, и тем более не понимаю, как чувствуют себя люди, когда к ним обращаются полным именем, вроде ВАРВАРА, а как – при кратком обращении, вроде ВАРЯ. Так вот, я, ребенок гражданской войны, не хочу эстетизировать, не хочу любоваться насилием, поэтому планирую в голове своей большую прозу о смерти, изощряясь головой, думая, где сказать поуместнее «кровь», а где «гной». Выступая на школьной линейке, я отвожу взгляд от распечатанного текста и смотрю вниз, на ровный квадрат школьного состава, и слова из моих текстов сбиваются на слова известной патриотической песни, а затем я проваливаюсь в обезображенные и гордые глаза детей, как в неаккуратно вырытую яму, содержимое которой вяжет и пачкает. Тогда я вспоминаю твои слова, ведь мы, как обычно, сидели вместе и что-то читали, ты смотрела в экран и делала это сосредоточенно, как памятник, навсегда поставленный смотреть бог знает куда, а я со своей несобранностью постоянно отвлекался, чтобы взглянуть, высмотреть что-то в зрачках под нахмуренными бровями. Ты всегда читаешь так, будто во всех текстах тебя смущает нечто или даже злит, и иногда я позволяю себе этому улыбнуться, на что ты обращаешь внимание. Но в тот момент ты оторвалась от букв и резко сказала, что мы, наверное, ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ. Тогда была важна, наверное, не сама фраза, но наш общий смешок, ставящий в ней точку. Так вот, я стою на балкончике мавзолея, отвожу взгляд от распечатанного текста и смотрю вниз, на огромный квадрат школьного состава, и вижу этот школьный бант на волосах первоклассницы, а справа от него – мальчика, выбритого под ежик, брови у него совсем не нахмуренные, точнее, наоборот, то есть, наоборот-нахмуренные, поднимающиеся вверх, куда-то вовне одухотворенной физиономии, и вот они взмывают в воздух, в заранее расчищенное от облаков небо, его будто бы вытерли, они взмывают в небо, изгибаются крыльями, в полете умудряются чиститься посредством клюва, резко падают вниз, подбитые пулей из крупнокалиберной снайперской винтовки, например, – это оттуда, со стороны одной из башен, куда ты постоянно упираешь взгляд, чтобы высмотреть какой-нибудь патруль или небесный караул, которым заведует тот самый К., который с агрессивным бебифейсом и как минимум ножом в сапоге. Надбровная птица падает и растворяется в огромном банте первоклассницы. Сколько же глаз у вас, дорогие школьники и школьницы, your eyes are like two jewels in the sky! Тилль Линдеманн, выбегающий на площадь с огромным черным макияжем на глазах на лице на предплечьях, снимает порно и поет песню про ЛЮБИМЫЙ ГОРОД. А не с русскими ли он снимает порно, спрашиваете вы, дорогие школьники и школьницы, а также их родители, your eyes are like two jewels in the sky! Так не с русскими же, ведь он поет еще песню про ЛЮБИМЫЙ ГОРОД. Оказывается, все хорошо, раз не с русскими он снимает порно, и тогда получившееся видео транслируют прямо на уроках с помощью интерактивных досок, что закупают специально для порно с Тиллем Линдеманном, которое он снял не с русскими. Сколько же глаз у вас, дорогие школьники и школьницы, your eyes are like two jewels in the sky! Тилль Линдеманн, выбегающий на площадь с огромным черным макияжем на глазах на лице на предплечьях, запирает в подвале под храмом девушек и держит их там двадцать лет, то есть примерно столько, сколько вы здесь стоите, дорогие. А не русских ли он там держит, спрашиваете вы. Так не русских же он там держит, вам отвечают, да там ведь еще схима вроде, аскеза как бы. Как же хорошо, отвечаете вы, что не русских он там держит, дорогие школьники и школьницы, и вообще – там ведь еще схима вроде, аскеза как бы. И правильно, говорите вы, пусть это станет хорошей традицией. СКОПИНСКИЙ МАНЬЯК за руку с популярной ведущей идет в ГУМ за водкой и раздает автографы, ЧИКАТИЛО падает в яму с трупами, содержимое которой вяжет и пачкает. Рядом с ней, через калитку входит МЕССИЯ. Вспышки фотоаппаратов заливают кожу его рук и лица до пересвета: глазницы, открытый рот, ноздри заливаются белым до неразличимости. Так камера, разрывающая тела и раздающая их видеокуски по телеэкранам, не успевает привыкнуть к резкой перемене освещения. Вышеупомянутый входящий-через-калитки затерялся в толпе из школьников и школьниц, из их родителей, убийца затаил дыхание в яме, слушая стихи, что читаю я, Публий Овидий Назон, переводя торжественную речь предводителя по имени К. на священный язык поэзии. Я начинаю понимать, где именно выступаю. Это триумфальный парад Купидона, танки, ОСВОБОДИВШИЕ территорию нашей с тобой любви, давят брусчатку, огромную яму по центру, ваши eyes, которые, конечно, are like two jewels in the sky, кандидато: к против всех, вошедших в долю, школьников и школьниц, их родителей, Тилля Линдеманна, снимающего порно с кем угодно, блять, но не с русскими, слава богу, интерактивные доски, классные комнаты, видео- и фотокамеры, надбровных птиц и огромные белые банты. Из мегафонов звучали речи о том, какой должна быть настоящая любовь. Тогда будто из самой этой звучащей речи высунулось величавое лицо КУПИДОНА и отбросило тень на все происходящее. ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами сама ВЕНЕРА. И мы все ревновали, завидовали, – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал их с прелестной улыбкой – все мы так и зашептали. «Часы, часы, он показал часы» – и потом, расходясь, уже возле ОГЛУШАЮЩЕЙ ТИШИНЫ вновь вспоминали об этих часах. Окончательно разойдясь и погрузившись с головой в свои головы, мы почему-то были не в силах пересказать произошедшее.
Но это все не имеет ничего общего с тем, как ты бедрами контролируешь мои бедра, напоминая себе и мне, что сейчас мы никуда не денемся, что, если никто не произнесет за нас, раздавленных, эту невнятную молитву, мы все еще можем надеяться на последнюю нежность, что вручит оружие и выстрелит в наши головы нашими же руками.
Her.???
Прием, это X. То есть это я, X, пишу тебе письмо. Ну что, стало тихо? Замороженный конфликт работает по тому же принципу, что и пассивный доход: меньше движений и шума, больше цифр. Может, ты уже стал статистикой. Так я учусь языку твоего владыки. У нас все так же: дорога до магазина, дорога до храма, прихожу в магазин за ответом, в храм за приобретением, на улице влажно и сухо, холодно и жарко, да какая, собственно, разница – всегда хуже, чем обычно. Мертвые листья и грязная земля. Пишу тебе это письмо своими руками, своими женскими руками, которые пишут это письмо прямо сейчас, то есть которые держат шариковую ручку, карандаш, стило, клавиатуру, пишу, как пишут прозу – это процесс постоянного упрощения. Поскребу по сусекам, повысасываю из пальца, растекусь чем попало по древу, размажу сопли по бумаге. Иногда письмо, то есть уже не письмо, а письмо – не то, что отправляют, а то, что длится, иногда письмо прекращается, и в моем рту, а я пишу с голоса, чтобы ты слышал, в моем рту что-то пересекается, пресекается, я не могу даже сглотнуть, как будто встал у горла какой-то ком, не то что ком, но что-то прозрачное, овальное, неосязаемое, оно торчит и все, такой рыбий пузырь, ты его достаешь, нагреваешь зажигалкой, и он затвердевает до каменного состояния, а внутри даже нет ничего, мутно. Я достаю этот пузырь изо рта и кричу, в себя ничего не проталкивается, только вовне, то есть и кричу я как не в себя. И смотрю я на твои фотографии в своей голове: ты, муж, мужчина, Y, стоишь, например, с мертвой рыбой в руках, такой водянистый сом, лещ, карп с раскрытой глоткой, а твоя глотка перекрыта зубастым таким оскалом, и этот твой оскал, и эта глотка, ненамеренный face-swap, тупое озеро, размывающее взгляд, и формат пережатый весь, разрешение, качество, я удаляю это фото из себя, но как бы не прожимается кнопка для очищения корзины, могу только поплевывать туда издалека – до того мне противно. Следующее фото – в каком-то заброшенном здании, но так кажется только на первый взгляд, ведь никакое оно не заброшенное, оно разрушенное, ошметки вокруг, какая-то бумага, пенопласт, бетон, штукатурка, а ты стоишь с автоматом наперевес, лицо твое на этот раз скрыто не оскалом, а смайликом – там то ли фиолетовый чертик с ухмылкой, то ли желтый пупс с забинтованной головой, и эта твоя поза расхлябанная, и помещение перевернутое с ног на голову, и смайлик этот – так обычно закрывают совсем маленьких младенцев в социальных сетях, чтобы не сглазили, но они-то еще не фиолетовые и не чертики, хотя кто их, малолетних, знает – ты это все делаешь для «безопасности», и от тебя это слово слышать, как пережевывать оскорбление. Кстати, очень мне нравятся твои ласковые слова, которые я ношу теперь, как жемчужное ожерелье – матовое, мутное, как озеро и как ошметки пространств. Я как бы тварь, я гадюка, я стерва, змея – все слова, которые ты мне дарил, чтобы что? Чтобы по-настоящему быть мужчиной, чтобы не ущемлять в себе мужское, чтобы скрепить наши отношения вдавливанием всего этого ТВОЕГО на все это МОЕ, женское, чтобы напомнить мне, где мое место, чтобы выебать себя в рот. И вот я стою в этом непроглядном ожерелье, неприглядная, а ты на этом фото так и отражаешься, неотразимый, так и пребываешь, прибыл когда-то и не убыл уже, а я, пока ты воюешь, я не воюю – я воооооооюююююююю.
Так вот, надо бы рассказать подробнее, что тут у меня происходит, а происходит ровным счетом ничего, пока ты с неба сбиваешь звезды, пуговицы, шевроны. Все всегда хуже, чем обычно. Ну, допустим, Джек Уайт и Мег Уайт разбивают бутылки о головы, ломают гитары, барабанные установки, перепонки, синтезаторы, орут и разводятся прямо у меня в квартире. Она в красной футболке, он тоже в красной. Они после этого садятся за стол, мирятся, пьют кофе в монохромной обстановке, задумчиво курят Мальборо, обсуждают электрические катушки и физику, что-то идет не так, и они снова бьют посуду, натравливают друг на друга киллеров, а именно семейную пару, мужа и жену из соседнего дома, которые убивают друг друга, не выполнив заказы, что уж там говорить о деньгах. Джек Уайт и Мег Уайт подают на развод, пока играют концерт длиной в одну ноту. Откуда они могли знать, что на том самом концерте, а именно в 2007 году, в маленьком городе со странным названием, которого я уже не помню, присутствовал Данила Козловский в роли известного революционера-анархиста: быть может, они бы вложили больше страсти в эту последнюю долгую ноту, еще долго звеневшую в ушах и зависшую, как оказалось, над головой Данилы Козловского, которому затем приходилось долго ходить с вжатой в плечи головой, как будто нависла над ним не какая-то последняя лебединая нота, а тяжелый шар для боулинга в своем бессрочном падении, но он все еще мог напевать песню про dead leaves and the dirty ground, хотя онлайн-премьеру собственного сериала пришлось проигнорировать. Когда этот сериал увидел Владимир Ленин, а он именно тогда сидел в «Кабаре Вольтер» и играл в шахматы с Тристаном Тцарой, он сказал, что из всех искусств для нас важнейшим является кино, поэтому поручил своему другу Сергею снять фильм «Октябрь», разделивший мировую историю на до и после. До этого люди смотрели на экранное прибытие поезда в электротеатре и разбегались по сторонам, будто поезд действительно едет на них, а теперь, посмотрев фильм об Октябрьской революции, люди автоматически шли делать Октябрьскую революцию, будто она действительно началась. Американский журналист приезжает на место разлома, видит людей, с чем они там стоят: с вилами, копьями, факелами, дубинками, журналист пишет об этом статью и замечает, что, конечно, дело не обошлось без любви, во всем этом замешана какая-то любовная история, которая остановит междоусобицу, а междоусобица, конечно, всегда страшнее, чем конфликт международный, ведь в первом случае убивают своих, а во втором не своих, других каких-то, чужих, и лица у них неясные, и слова, и помыслы, а любят они совсем по-другому. Так вот, любовь тут явно была замешана, пишет американский журналист в конце своей статьи, которая слишком скоро перерастает в экзотичную книгу с названием, вроде ДЕСЯТЬ МИНУТ/ДНЕЙ/ЛЕТ КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР, а завершающие слова там были убедительны и про любовь, которая это все дело начала и закончила. Кстати, о начале и конце: естественно, вся эта история подняла ненормальную шумиху, и поползли слушки, откуда это все пошло, где эта история началась. Кто-то говорил про слово, кто-то ссылался на Гераклита, согласно которому именно война – это начало всего, это отец/жрец/на дуде игрец, кто-то говорил про белый венчик из роз, стоящий как бы во главе всего дела. Не знали они, что именно из моей квартиры эта сумятица и вытекла, хотя, впрочем, туда-то и потянулись все вышеупомянутые, стоило взяться за дело профессионалам. Итак, Джек Уайт и Мег Уайт снова заходят в мою квартиру, на их пальцах кольца с гравировкой NEVER MORE, они стоят по разным углам моей комнаты и смотрят на меня, ничего не говоря. Происходит ровным счетом ничего, пока Данила Козловский тоже тянется через входную дверь, уже с прямой спиной, с разжатыми плечами, он тоже стоит, ничего не говоря, и на меня смотрит. За Козловским, который все еще не вышел из роли известного анархиста-революционера, проходит Владимир Ленин вместе со своими двойниками: Никандровым, Щукиным, со всеми, кроме Стычкина – ему поручили остаться в мавзолее. Все эти люди стоят и смотрят на меня, ничего не говоря. Сергей Эйзенштейн, Тристан Тцара, Джон Рид и т. д. – они явно оставили все свои разговорчики за дверью, ведь, пока они стоят в моей квартире, они ничего не высказывают, звуков не издают и на меня смотрят. Гераклит и Александр Блок уже не нажимают на круглый звонок, что вырван с мясом, они просто стоят за дверью и молчат, зная, что я выглядываю периодически на лестничную клетку, чтобы узнать, кто там стоит. Я делаю это по два раза каждой ночью, регулярно, как принимают таблетки, ведь в моих кошмарах ночь заливает уши пустынным и странным гулом, намекающим на сон всего дома (одна мысль об этом пугает), я концентрирую все свое внимание на этом гуле и думаю, что было бы безумно страшно, окажись в подъезде ты, Y, смотрящий безмолвно в глазок, тогда я сама смотрю в этот самый глазок и невольно плачу от ужаса, ведь вижу там тебя, пририсованного к тупому и плоскому изображению соседской двери напротив. Но это сны, ведь сейчас там стоят Гераклит и Александр Блок, они заходят в квартиру, останавливаются и устанавливают свои взгляды на мне, ничего не говоря. Что-то идет не так, когда один из вышеупомянутых, имя и лицо которого я не помню, но могу заверить, что это кто-то из названных, один из них подошел ко мне, дотронулся до плеча и сказал:
<нрзб.>
И вот я стою посреди всего этого одна, как стою посреди слез, посреди слов. Говорю с людьми, которым нечего мне сказать, и мне нечего им сказать. Вот такое не-говорение, такая тишина сильно давит на голову, влетает в нее или, как сказали бы, вставляет, действует. Я не пугаюсь, ведь интоксикация этой тишиной слишком напориста, она заливается в складки, в которых вырастает страх, если оставить их без внимания. Похоже на ощущение набитого живота, вызванное сильным голодом. А если у молчания этого есть губы, то я своими губами приближаюсь к ним на смертельно опасное расстояние, впритык стою и чувствую это мятное дыхание из ничего и из ниоткуда, но эта близость, в отличие от близости с человеческими губами и человеческим дыханием, которое пахнет табачно-перечным одеколоном и гречкой, эта близость ни к чему не обязывает – ни к инертному продолжению движения, ни к отторжению. Из этой точки я и говорю, из точки солнечного затмения на нашей свадьбе говорю, то есть я, мать твоя, дочь твоя, сестра твоя, которая ужас на что решилась, я жена твоя, Клитемнестра-дрянь, готовлю вооруженное нападение, восстание на тебя, жду, пока зажгутся костры, что сообщат о твоем приближении. Ты, вдоволь наубивавшись, наверняка едешь сейчас в бричке, бэхе, мерсе, плывешь на корабле, под рукой рыжая наложница, пророчица с кричащим ртом. Я задыхаюсь, теряясь в догадках, как именно ты нас друг другу представишь! Посадишь нас, допустим, в песочницу, полную снятых с мертвых пальцев колец, накладных ногтей, тканей, пахнущих недавно живыми телами, кожаных салонов угнанных автомобилей, слоновых костей, блистательных шлемов и щитов, не только заляпанных известно чем, но и пронумерованных белой замазкой для учета инвентаря, ты посадишь нас в эту песочницу и будешь пасти. Тогда я этими руками, этими женскими руками, что пишут сейчас письмо, утоплю тебя в своих подарках, ты будешь пускать пузыри со дна, голова закружится юлой по золотому блюду. Но что, как говорится, я слышу! Ты тут как тут, но не с рыжей пророчицей, а с отсутствующей ногой, и тебя уже жалко этими руками, этими женскими руками, ну, то самое и т. д. Песочница для меня, мой загон, в котором я была бы для тебя безопасна, полон вшей с униформы. Твое лицо – сплошная новостная сводка – ничего не выражает, ты, Агамемнон, Геракл, Улисс, Протесилай, Y, подходишь ко мне, дотрагиваешься до плеча и говоришь, что тебе за страну обидно.
Тогда я целую твои обескровленные пальцы, будто моей рукой пишет мужчина.
Я по-христиански тебя прощаю, будто моей рукой пишет мужчина.
Я заглядываю в твои глаза, приблизившись так плотно, что пахнет одеколоном и гречкой, будто моей рукой пишет мужчина.
Я иду в эти глаза, как шагаю через порог, будто моей рукой пишет мужчина.
Я бегу навстречу кипящей смоле, существам с вертикальными разрезами ртов, расцарапанному лицу луны, троящимся телам, будто моей рукой пишет мужчина. И далее по тексту.
Ars 0.0 [примечания]
Именно в этой точке стоит притормозить. То, что написано выше, будто осознанно уводит куда-то в сторону, ты даже можешь спросить, что это было. Хорошо, что всегда есть возможность оставить подробный комментарий.
Her.??? Все понятно. «Героиды» точка три вопросительных знака. Эта схема знакома и усвоена. Очевидная претензия на филологичность, но в этой части все немножко ломается! Падает рамка.
То есть это я, X, пишу тебе письмо… Постоянное желание пишущей указать на факт письма. Иногда даже кажется, что тот, кто все это наваял, а именно Публий Овидий Назон, пытается экзотизировать письмо исключительно указаниями на то, что оно женское. Это нам кажется проблематичным, как будто сплошная риторическая игра, способ поднять бровь слушающего.
Мертвые листья и грязная земля… Первая строчка песни «Dead Leaves and the Dirty Ground» группы «The White Stripes». Это текст о разлуке, о том, как он, бедный, смотрит по сторонам и видит мертвые листья и грязную землю, когда она не рядом. A когда она рядом, он, соответственно, видит, как сверкают крыши и как лопаются пузырьки в газировке, и все хорошо. Но нет! Никто не встречает героя песни, он возвращается домой издалека, а там no one to wrap my arms around. Исполнители – Джек Уайт и Мег Уайт, он в красной футболке, она тоже в красной.
…так обычно закрывают совсем маленьких младенцев… Не все родители щепетильно относятся к фотографиям своих детей в интернете. 22 % россиян публиковали фото своего ребенка, которому еще не было трех лет, не закрывая его лицо. Это выяснилось в ходе опроса 500 родителей из России, его провела компания Avast. С одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы показать миру своих детей, а с другой – это может быть неприятно самому ребенку и даже опасно, считают эксперты.
Так вот, надо бы рассказать подробнее… – …устанавливают свои взгляды на мне, ничего не говоря…Собственно, я свернул эту историю, потому что она, очевидно, ни к чему не приводит. То есть да, приходит мужчина за мужчиной, останавливается в комнате женщины, пишущей письмо, и смотрит на нее, ничего не говоря. Бесконечный поток образов, постоянная попытка посильнее ударить по западающей клавише фортепиано в школьном кабинете. Остается неясным, что там делает, например, Мег Уайт? Последняя фигура сопротивления, слившаяся с пейзажем в момент, когда встала в комнате и начала смотреть на X. Без Мег какая-нибудь критическая картинка проявилась бы четче, но она все еще стоит на месте и не собирается покидать помещение. Здесь можно вспомнить роман Эльфриды Елинек «wir sind lockvögel baby!», а можно не вспоминать. В любом случае, когда в тексте появились совсем уж невнятные Гераклит и Блок, удалось найти выход из всей этой медиавязи.
…один из них подошел ко мне… А вот и выход, о котором я говорю. Нечто укусило себя за хвост.
<нрзб.> Просто не очень слышно было.
Я не пугаюсь, ведь интоксикация этой тишиной слишком напориста… У американской музыкантки Билли Айлиш есть трек под названием xanny. В треке под названием xanny есть строчка: too intoxicated to feel scared.
…из точки солнечного затмения на нашей свадьбе…В «Героидах» Овидия это частый риторический ход – вспомнить совместное прошлое и использовать его либо в качестве обоснования наступивших бед, либо наоборот. Например, если в этом прошлом все было хорошо, героиня обращает внимание на контраст с несчастным настоящим. Если в прошлом есть отрицательное знамение, дурные знаки, все это обосновывает то, что происходит сейчас. Примерно так же работает мифомоторика, например, в государственных идеологиях (см. труды Я. Ассмана). Напоминает это и то, как Вальтер Беньямин в «Судьбе и характере» сравнивает понятие судьбы с обратным судебным процессом, когда человек подвергается наказанию и только потом пытается его проинтерпретировать, найти основание для наказания среди собственных действий в прошлом.
…но не с рыжей пророчицей… О бесславная развязка троянского цикла! Что же там с прозой, которой бредил автор, упоминая ГОМЕР-МАШИНУ, вред реконструкций, когда пишешь о нем? Этот разговор кончился так же бодро, как и начался. Кто-то видел римского поэта в кафе, в кофейне, на скамейке в парке, занятого выписыванием чего-то не в столбик, лоскутного, пестрого, и тогда он, как и подобает большому младенцу в складчатой тоге, быстро прятал написанное, кокетливо закатывая глаза и бормоча, что в этом нет ничего такого, он просто балуется, мотает куском одежды туда-сюда, смотрит в окно или дальше, через деревья, а под рукой у него рисунки, каракули, белиберда. И все-таки теперь совершенно ясно, что с горем пополам существовавшего Гомера вымыло экстатичными потоками текста, уже не нужно было и упоминать его имя, ведь он вышел на сцену в нужный момент, засветив лицо и дав своеобразный кивок этому заносчивому парню на скамье. Теперь этим засвеченным лицом или его отпечатком можно было просто вертеть перед глазами читателя, как флагом, чтобы утвердить право на свое существование среди букв или пустить пыль в глаза, пока не поздно.
…ты, Агамемнон, Геракл, Улисс, Протесилай, Y…Что-то заставляет субъектку упорно называть себя X, а его – Y. Шаблон, который автор применяет к каждому из посланий «Героид», истерся и достиг такой инерции, что индивидуальное имя вымывается. Теперь это Медея, Иола, Деянира, Пенелопа, Ярославна, Ариадна, Дидона, Юдифь, Ульрика, все они (и даже больше) собрались у стола и пишут письмо, которое последним взрывом прогремит в голове Агамемнона, Геракла, Улисса, Протесилая, Ахилла, Язона, Игоря, Энея (и многих других). Это в какой-то степени радует, но ровно до тех пор, пока не вспоминаешь, чьей рукой это на самом деле все выведено.
Тогда я целую твои обескровленные… Руки, руки, постоянно они торчат из каждого угла, а в момент написания этого фрагмента куда-то повело одну из них, прочь от автора. Про такие моменты говорят обычно – ускользнула из-под носа. Сначала она взлетела вверх, к шершавому потолку, к гладкому небу, потом упала вниз, к влажным парковым тропам, к нагретому столику. Потом и вовсе отяжелела и не хотела двигаться. Про такие моменты говорят обычно – золотые руки. При этом автор уже понимал, что это не то чтобы его рука, но это что-то чужое, другое, это ползущая рука из «Семейки Аддамс», нацистская рука из «Доктора Стрейнджлава», рука живая из «Зловещих мертвецов», из сцены, в которой Эш Уильямс с остервенением борется с десницей себя, пытаясь солгать ей, изобразить обморок, чтобы превратить ее в обрубок. Автор посылал импульсы в руку, чтобы вернуть контроль, но, не встретив рефлекса и наблюдая ее повторяющиеся автоматические движения, отпустил, кажется, все свое тело и позволил ему быть. Про такие моменты говорят обычно – мужик без рук. Эти руки снова перестали двигаться на несколько секунд и вцепились, как несложно догадаться, в горло автора. Через некоторое время ему захотелось забыть эту историю, эти руки, а также написанное ими, поэтому он взял лист и написал: Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕ РУКОТВОРНЫЙ.
Ars 1.1–30
Кажется, Публий Овидий Назон посещает нас все с меньшим желанием. То есть сам Овидий, его ты различаешь по взгляду – это взгляд особо непримечательный, ничем от прочих не отличающийся, ему нельзя подражать, а повторяя его, то и дело сбиваешься на что-то другое. Так вот, сам Овидий будто бы влетает на отдельные секунды в помещение, чтобы заявить о себе – это происходит неуместно и гордо, неприлично. Иногда это даже ничего не значит, он как бы оператор всей этой истории, который непрерывно документирует процесс, но периодически направляет камеру на свое лицо или, не направляя, пытается свое лицо впихнуть в кадр. Он может ничего не рассказывать, просто крикнуть: SUM. Ну, то есть Я, то есть ЕСМЬ, ego здесь не нужно, особенность языка. Прямо сейчас можно увидеть это улыбающееся рыло, которое и выступает рамкой всего его письма. Условная «Наука любви» как роман в стихах о поэте.
Эдвард Блоджетт пишет в своей работе об Ars Amatoria так: Рассказчик Овидия – это клоун, ставший фокусником, [любовные] наставления/предписания которого выполнены в первую очередь ради привлекательности для публики. Как только толпа оказывается привлечена, задача рассказчика – начать разыгрывать/выражать самого себя [to act himself out]: делая так, он приглашает публику увидеть искусство как жизнь и, предвосхищая барочный стиль, театр как жизнь. Такая постановка для классической литературы, как мне известно, была в некоторой степени новой, и присутствие подобной фигуры в «Науке любви» придает тексту значение, которое стилистически превосходит дидактическую поэзию и любовные элегии предшественников.
Это особая зараза, которая заставляет его как бы высасывать из людей внимание на любых собраниях, праздниках, встречах, чужих днях рождения. Он говорит с тобой, будто заинтересован в тебе, но в один момент что-то ломается, и его несет. С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ, шатаясь и прислоняясь плечом к стене, он рассказывает тебе о том, что задумал сделать и никогда не сделает, он пропитывает тебя любовью к несуществующему проекту. НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ТАКОГО ОГНЯ, говоришь ты, кормишь его SUM, ну, то есть Я, то есть ЕСМЬ, ego здесь не нужно. Теперь он может со спокойной душой напиться до поиска пятого угла, и ты умиляешься его разорванному рвотой лицу, прислоненному к унитазу, или он, скорее, стоит с согнутыми ногами у раковины, собрав на ее белом краю весь свой вес. Он иногда умывается холодной водой, но постоянно держит руку под струей, которая должна как бы возобновлять кровоток в теле, черепная коробка от этой стимуляции будто запотевает изнутри. Потом он дрожит, сидя в ванне, в голове проносятся потенциальные мигалки скорой, может, еще полицейских машин по случайной метонимии света и звука, что наводит ужас, пока двери кругом мотаются вокруг своей оси так быстро, что он не успевает и клочка человека поймать в этих мышеловках. Они мотаются, эти двери, и хлопают, еще одна метонимия, и хлопки переходят в грозный и звучный грохот по обитой кожей двери – так ломятся менты. Клоун, ставший фокусником, гусеницей ползет из ванной комнаты на кухню, сокращая и выпрямляя все свое тело, выталкивая из кончиков пальцев на ногах звуковые галлюцинации, и ты ухаживаешь, несешь ему стакан за стаканом, предоставляя новый материал для acting himself out. Вот ты и собрался, пригласился на событие с ним, в котором ему нечего сказать, но он может еще немного повыгибаться гусеницей и поулюлюкать служебной сиреной, а так называемый контент, песня, текст – все это выступает предлогом для проживания на твоих глазах, для тела-иероглифа. Он просто случается и стучит. Повернешь голову назад, там окно, которое снова такой же предлог для истории, как обычно, чернота подсказывает три часа ночи, то есть это глубокое время в сутках, когда соображаешь скверно, но думается, что сейчас протекает момент, когда любое дело идет, и идет хорошо, это «просветление» прикладывает два пальца к небу, разводит их в разные стороны, приближает изображение, чтобы различимы были слова, вроде tomorrow cums today, сопровождаемые музыкой, идущей с другой стороны, снизу, что придает необходимый объем этому месседжу.
Сейчас, а именно наутро, можно сказать что-то другое. Проспавшийся Публий Овидий Назон говорит об антидидактическом характере своего письма. Меня, то есть Публия Овидия Назона, ты можешь по инерции называть пророком (vates) с поправкой на то, что я vates peritus – пророк умелый, знающий. Речь моя исходит не из божественного бреда, но из частного опыта. Я щекочу всего себя словом ПАРАДОКС, соединяя любовь и науку, язык пророчества и язык быта, я пишу инструкцию в стихах, но ничему не учу. Я диверсант, подкрадывающийся к младенческой фигуре Амура с большой головой, целую его в обшарпанные щеки, сообщая незнакомый ему вирус, мое дыханье у его щек репетативно и навязчиво, как фрикции, не успевает он осознать свою новую болезнь, как я дарю ему последние объятия, и во что это уперся нож в моей руке. Вот так я пишу, вот так вытворяю, я при Амуре своем – Тифий и Автомедонт. СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА, интенсивнее всего разыгрываемая в машине заметного Obersturmbannführer, через мгновение погибающего, а через СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ, что пахнут непривычно долгой сценой в лесу, в таком же лесу стою я – без слов, без выкрутасов. Выразительнее всего, а точнее – адекватно себе я выгляжу, когда просто молчу в кадре, выгляжу тихо-тихо, как Тихонов. Сижу в кафе и смотрю в твои ускользающие глаза, будто в небо Аустерлица, ты не сразу узнаешь меня, ведь я курю необычайную для себя цигарретку, сижу, одетый в униформ традиционного поэта, и я, конечно, традиционный поэт, выкручивающий жанры, которых касаюсь своей ханд, до крайней отметки, когда традиция вытекает из носа вместе с кусками полупереваренной еды, превращаю воду твоего стакана в кровавое вино. Что же, время писать дидактические поэмы! Не являлись мне музы, не снисходило божественное вдохновение, ведь вдохновение приходит только за работой, я не чувствовал дрожания ауры вокруг себя, ведь еще не сталкивался с инсультом, дирижабль не расширял гортань, не призывал к священной жертве Аполлон, я не Дао, не Логос, не гармония, и так далее, это уже слишком понятно. Теперь Ars Amatoria – это исключительно каталог намеков и жестов, из которых наша с тобой любовь и соткана. Книга с прозрачной обложкой, отталкивающей, как воду, всякую попытку научить и рассказать, как надо на самом деле.
Ars 1.89–170
Как бы нам взяться за анализ того, что еще не написано! Мы идем через жилые районы, через недострой, по снегу, мимо заборов. Нам нужно найти вход в промышленную зону, где, наверное, что-то еще функционирует. В Москве много промышленных зон, вроде того же Электрозавода, переделанных под арт-кластеры, что напоминает о возможности рейва на руинах любой утопии. Я изменюсь, mutabor. В контрольном пункте сидит бессменный охранник-вахтер, устало смотрящий мимо сотен угашенных рук и ног. В некоторых зданиях почему-то горят электрические огни, в воздухе резкие запахи. Затем фейсконтрольщики, похожие скорее на внушительных бандитов в черных масках, щупающие твое тело в поисках бутылки, ножа или перцового баллона. Среди осыпавшихся кирпичных стен расставлены гипсовые скульптуры, почти соцреалистические, но резко уводящие от первой ассоциации искривленностью собственных поз. Фигуры с агональной пластикой лезут в глаза случайно, из‑за угла, за поворотом. В большом зале наверху медленно стягивается толпа, по воздуху рассыпан декоративный дым, красный свет, по кругу ходят люди с благовониями, спрятанными за спиной.
Так вот, надо бы рассказать подробнее… – …устанавливают свои взгляды на мне, ничего не говоря… Какой же глупый провал. Я понятия не имею, зачем нужен этот кусок. Когда я скинул этот фрагмент тебе, мы немного поссорились, ведь ты справедливо его раскритиковала, а я несправедливо возражал, ведь это мой текст, и не зря же я его написал. Я даже придумал какую-то спонтанную причину и сказал что-то очевидное про потоки информации, про радио и Уорхола, бог знает про что еще. Ты, кроме всего прочего, сказала, что это напоминает переводную литературу, а еще, когда думаешь о самых стереотипных изводах постмодернизма, в голову приходит примерно такой текст. В какой-то момент я начал сдавать назад и говорить, что это я вообще просто так скинул, на что ты спросила, неужели тебе нужно было промолчать в ответ. Я сказал что-то дебильное, вроде: нет спасибо конечно что ответила хотя мне не нравится то что ты сказала. У нас было еще несколько реплик, но мы быстро свернулись и поняли друг друга, а я попросил прощения за то, что отреагировал слишком резко.
Зацикленный видеоарт, какие-то трубы, дельфийский дым отовсюду, гипертрофированное движение этого дыма, видеоарт транслируется на сцену, люди недоверчиво оглядываются, из динамиков начинает издаваться ломаный kick, snare, потом снова kick – барабанная часть полностью состоит из намеренно небрежным образом скопированных звуков. На костыли драм-машины запрыгивает упругий бас, забиваясь в углы заводского помещения. Разыгрывается сюжет похищения сабинянок, это из истории основания Рима: ватага Ромула решила насильно взять в жены сабинских девушек, предварительно пригласив их к себе на консуалии. Какие-то древние празднества, кони, выбегающие прямо на сцену, перепрыгивающие через провода и мониторы. Потом они, никем не ведомые, спускаются в зал и ходят кругами, зрителям приходится постоянно двигаться, чтобы давать им дорогу. В какой-то момент римляне с нелепо разукрашенными лицами берут на руки сабинских девушек, танцуют, держа их, и поют, например: мы срослись, как солдаты братских могил, телами, телами, телами / телами срослись, мы как пара плакучих ив / и дети уже не смеются над нами. Люди в зале свистят и оскорбляют похитителей.
Так вот, надо бы рассказать подробнее… – …устанавливают свои взгляды на мне, ничего не говоря…Может быть, мы поссорились только потому, что других причин для ссоры у нас нет. Голыми ногами стоим на тупых осколках, глазами упираемся в муниципальную накипь, но читаем и пишем тексты, вот тут и нашли себе свободу быть несогласными. Давай в режиме игры ты будешь «модернисткой», а я – «пост-», как будто это зависит от нас.
Декорации сменяются, теперь это абстрактные раннеримские покои. Кони убежали в город. По центру сцены стоит огромный стол, пятьдесят женихов с курчавыми бородами садятся за него, положив микрофоны рядом с тарелками. Стол этот выглядит ненормально, будто в обратной перспективе. Красный свет становится ярко-розовым, он нанизывает на себя вьющиеся испарения. Сабинянки накрывают последний ужин для своих похитителей. Кто-то из девушек тихо поет: рассвет сменил ночную мглу / мы встретили его в углу / теперь и вправе я могу. Мужчины садятся есть, вскоре хватаются за животы. Они будто замедляются, голова каждого неохотно кивает, пока бас разражается хохотом. Веселые интонации доносятся из уст сабинянок, уже не слышно, что конкретно они говорят, только отдельные отрывки. Пирующих медленно добивает тяжелый яд. Вся эта благополучная история завершается тем, как уже не сабинянки, но данаиды зарывают головы супругов в Лерне, тела погребают за городской стеной. Там было как-то так, если я ничего не перепутал. В конце выходит солист и говорит, что СЕСТРЫ УЖАС НА ЧТО РЕШИЛИСЬ, потом падает без сил. В это время среди толпы, где кто-то с вытаращенными глазами не может и пошевелиться, пока смотрит на сцену, а кто-то демонстрирует кислотные завихрения всего своего корпуса и ног как бы по отдельности, среди людей на концерте музыкальной группы со странным названием стою я, не совсем понимая, к чему обязывает рукопожатие, вокруг течет дым, скрючиваются еще сильнее гипсовые фигуры, кто-то покупает неоправданно дорогой алкоголь.
Так вот, надо бы рассказать подробнее… – …устанавливают свои взгляды на мне, ничего не говоря…Все, проехали.
Ars 1.436
Публий Овидий Назон подходил к столу, отходил от стола, снова подходил, выкуривал сигарету, потом еще одну, стряхивал пепел в коробочку, пялился в лист бумаги, дощечку, ноутбук, ложился на матрас, смотрел в потолок, шел в туалет, возвращался к столу, готовил еду, поедал еду, включал фильм, выключал на середине, периодически начинала играть музыка, потом переставала, он открывал случайно попавшуюся книгу, закрывал, потом открывал книгу, которая, казалось, сейчас нужна ему, закрывал, засыпал на месте (где-то двадцать минут, не больше), просыпался, говорил по телефону, переписывался, листал ленту, руки запотевали, он шел их мыть, смотрел в зеркало над раковиной, выщипывал брови, стриг ногти, раздевался догола, осматривал свое тело с головы до ног, горло, грудь, волосы под животом, потом он возвращался за стол. Когда Публию Овидию Назону было особенно тяжело, он брал лист бумаги и выписывал вещи, которые нужно держать перед глазами, вот эти вещи:
1. Разница между SHIT-SELLER и SCHRIFTSTELLER.
2. Нет – это всегда нет.
3. Возможность спонтанности: закричать, закривляться, застыть рядом.
4. Вымыть посуду и пол.
5. Удаляют мозг, сердце, кровь и язык. В первую очередь отнимают глаза, но забывают про волосы. Это ошибка, потому что она – слепая, обескровленная, немая – обретает теперь такую силу, что от нее приходится бежать без оглядки. Что значит этот сон?
6. Сон, сон, сны, снами. А вот, например, такой. Я захожу в знакомое место, это, скажем, мой собственный подъезд, но вижу там не привычную лестницу, а что-то другое. Такой темный прямоугольный параллелепипед, тянущийся вверх – вид пространства. По граням этого пространства тянется лестница, деревянная узкая лестница, прикрепленная к стенам. Стены мшистые, мягковатые, дряхлые, влажные, почерневшие. Лестница шириной в одну стопу сорок шестого размера. Вокруг раскиданы какие-то пахучие мешки, которые неприятно брать в руки, все завалено ящиками, тряпьем, рваниной, к углам не хочется подходить, чтобы не напороться на что-нибудь неприличное, вроде тараканов, отовсюду выглядывающих, как чернослив. И мне обязательно нужно подняться по этой лестнице вверх, я даже не знаю зачем, но пытаюсь сделать это, прижимаясь к стене. Из дверей (это все же подъезд) высовываются люди в домашней одежде, они бегают туда-сюда, везде какие-то подсвечники, лампы, висюльки, побрякушки, испачканные картины. Я неизбежно падаю вниз, на все эти ящики, тряпье, рванину, мешки с тараканами, встаю и снова поднимаюсь по лестнице, по ней бегут и соседские дети, мамы догоняют, пап нет – они дома. Я потом опять падаю, опять поднимаюсь, падаю, поднимаюсь, сверху так темно, непонятно, что мне там нужно, снова падаю, просыпаюсь.
7. Нет, даже если бы сто я имел языков и гортаней…
8. Книга, абзац или перечень, избегающие книги, абзаца, перечня, сжимающие свои тела до строки.
9. Публ. Овид. Наз., избегающий Публия Овидия Назона, великого писателя, мужчины, разжимающий, возвращающий себе свое тело.
10. Нет – это всегда нет.
11. Разница между тезисами манифеста и списком продуктов.
12. Древнеримский поэт, написавший «Науку любви», которую, как говорят, пронизывает тема контроля, такой пунктир узды, контроль как сопротивление инерции, сопротивление фразам, вроде «так было всегда», сопротивление пейоративу meretrix, сентенциям про ловлю в сеть в духе «нет женщин, тебе недоступных». Этот контроль – инструмент оптимиста будущего.
13. Кажется, будто новый век, этот гигантский пришлец, в самый момент своего появления торопится приговорить оптимиста будущего к абсолютному пессимизму, к гражданской нирване. / – Смерть утопиям! Смерть вере! Смерть любви! Смерть надежде! – гремит ружейными залпами и пушечными раскатами двадцатое столетие. / – Смирись, жалкий мечтатель! Вот я, твое долгожданное двадцатое столетие, твое «будущее»!.. / – Нет! – отвечает непокорный оптимист: – ты – только настоящее!
14. Вы нас даже не представляете.
15. Кто представляет нас, что представляет нас? Всех нас, а именно Публия Овидия Назона. Мутабор / Клуб «Клуб» / Музей «Гараж»? Это вообще место, журнал, сообщество? Какое сообщество? Кто скрывается за словом «нас»? Что за «мы»? Мы, которые сто языков и гортаней? Книга, абзац, перечень – это мы? Список продуктов? Наверное, мы можем показать на какого-нибудь оптимиста будущего пальцем и заявить: «Это я»? На Патрика Бейтмана или Тайлера Дердена? Штирлица/Мюллера? Что нас объединяет?
Ars [запоздалое предисловие]
Мало кто знает, что Овидий написал две версии «Ars Amatoria». Первая – та, которая всем нам известна, а вторая называлась так: «Ars Amatoria: Издание второе, дополненное». Второе издание Публий Овидий Назон писал в стол, но не кокетливо «в стол», как обычно говорят, намекая на скорое прочтение плохо припрятанного текста, а в стол по-настоящему. Он не показывал отрывков друзьям, не рассчитывал на публикацию через много лет после смены действующей власти. Не было такого, чтобы он умирал, завещая лучшему другу сжечь этот текст, а друг ослушался и передал его известному издателю. Сумку с рукописью не находил на поле боя другой писатель, выдав потом это произведение за свое, а что самое главное, не было другого писателя, который написал бы это ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ и выдал его за настоящий текст Публия Овидия Назона. Всего этого не было, вторую версию написал сам древнеримский поэт, и написал в стол, и вот она перед вами. Писал он ее со скрипом, действительно сообразно личному опыту, постоянно совершая атаки на самого себя, так что эту версию уместнее было бы назвать диверсией. С другой стороны, он был так охвачен своей безответственностью перед этим текстом, что мог позволить себе проживать ни дня без строчки, и писал он даже в самые безнадежные по содержанию периоды некоторые вещи, вроде:
Ученик никого, оттираю от кожи мертвую кожную пыль, и это не последнее, что я знаю о любви и о теле.
или
Зубы разжеваны, проглочено горло.
или
Не знаю, что еще можно сказать, тут и так все ясно.
Вот такие вещи писал в своем втором издании «Науки любви» Овидий. Не знаю, что еще можно сказать, тут и так все ясно.
Ars 1.491–504
ВВЕДЕНИЕ: Вверх по Хохловскому переулку, мимо седьмого строения, девятого, тринадцатого, пятнадцатого, по переулку, где уже припрятались дежурно два автозака. Наверняка нам нужно одно и то же место. У входа в клуб «Клуб» молодые люди курят и громко говорят, мы проходим внутрь, показываем паспорта охране, видим тусклое помещение, разделенное на зоны: бар и столы вокруг, зал позади занавеса, сцена и стулья перед ней, книжный магазин, туалеты и коридор около. Люди, сидящие внутри, направляют взгляды в разные стороны, взгляды не пересекаются, шум ковыряется в глотке и бьется в груди.
КУПЛЕТ: На сцене ставят спектакль, именно ставят, это процесс становления спектакля, то есть не было прежде никаких репетиций, актеры видят текст впервые, не знают еще, как двигаться, как играть, нужно ли это играть, чьи реплики они читают. Да, именно так, они ставят спектакль по «Американскому дневнику» Никиты Михайловского. Пока самое начало: Никита летит в Америку из СССР. Фоном идут приглушенные звуки: щелчки, постукивания, пение как бы шепотом. Актриса произносит текст: Спать в самолетах и поездах плохо, снились мне махаоны огромные, как они меня крыльями по лицу бьют и смотреть мешают, а крылья у них ровно с дверь и вот машут у меня прямо перед лицом и смотреть мешают и сами гудят, гудят… <…> Так вот, я думал, чепуха это все – дневники, записки. Нечего мне записывать, мыслей у меня особенных нет, да и не встречал я ничего такого, что бы стоило записывать, а если и встречал, так думаю, запишешь и все испортишь, пусть лучше так все будет. Это как с кино – тебе один его рассказывает – вроде класс, а пошел посмотрел – фигня, или наоборот. Но хуже, когда в первом случае: ты уже так все себе представишь, и все так красиво выходит, а как увидишь, так как будто тебя обокрали и еще дерьма тебе в карманы наложили. Так и дневники эти. Этот текст читается очень медленно, между предложениями следуют долгие перерывы, каждый, скажем, в полчаса, не меньше. У актрисы слипаются глаза, она успевает выйти к бару, купить себе что-нибудь, выйти на перекур, надеть пальто, снять пальто и все такое прочее. Гости, наблюдающие постановку, заинтересованы в происходящем, но усердно пытаются сделать вид, что это не так, поэтому они или шикают и показывают жесты, когда со сцены что-то звучит, или просто отворачиваются, или закрывают лица руками, хотя все еще подглядывают сквозь щели между пальцев, торчат там, так бы и понатыкать им чем-нибудь, козой какой-нибудь под любопытные их ресницы! Зал пересекают огни, мимо летят самолеты.
ПРИПЕВ: Сердце стучит в ушах, желчь бежит к перепонкам – это синие люди в наши квартиры бегут. А мы с тобой разные такие, ничем не скрепить нас, один браслет на меня, другой на тебя, и наручники ломаются. Я кошка, я на тебя шиплю и морщусь, ты собака, ты на меня лаешь. Зубы разжеваны, проглочено горло – это одиночные камеры тают на языке. Снимай меня четко и пристально, а в кадр не входи. Мы чатимся заявлениями в прокуратуру. Люблю тебя – не могу, нам вместе не быть никак.
КУПЛЕТ: Неподалеку от бара, в самом углу сидит человек, похожий на чиновника. Это человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с припухшими веками, из‑за которых сияют крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то в нем очень странное; во взгляде его светится как будто даже восторженность, – пожалуй, присутствует и смысл, и ум, – но в то же время мелькает как будто и безумие. Лицо выбрито, по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начинает выступать сизая щетина. Он беспокойно ерошит волосы и подпирает иногда, в тоске, обеими руками голову, положа продранные локти на залитый и липкий стол. В какой-то момент он замечает нас и подзывает к себе, а мы почему-то откликаемся и идем к нему поближе. Он начинает свою речь.
РЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА В УГЛУ [строго документально]: Кого-то ты мне напоминаешь, служил или как-с? В фильме играл каком? Я вот сидеть тут изволю-с периодически, изволяю-с, ну, изваливаю, выказываю волю сидеть тут-с, интересно мне, что тут происходит. Вот на сцену, например, посмотри, посмотрите-с. Отсюда плохо видно, но что-то слышно. Актерство там, шиканье, всем занять свои места, суки, а-ха-ха! Я и сам актером всегда хотел быть, мне и жена говорит, мол, ну! артист! Да, я бы сам актером был и актера бы сыграл, у актеров и тех своя драма-с. Я бы Никитой Михайловским притворился, понял? Вам и не снилось, так бы и выразил, туда-сюда. Он маленький там еще, как кот в мешке. То ли умирает, то ли живет, где-то существовать желает. Так вот, никто не знает, что с ним потом было! Я вообще в литературах ничего не понимаю, ну, знаю там – Толстой! Вот не понимаю ничего, но уважаю и колено бы преклонил русскому писателю, а Никита и сам тем еще писателем был. Он у себя в литературе в начале самом летит в самолете в Юнайтэд Стэйтз-с и не хочет писать, но пишет! И по делу! Вот и актер не должен хотеть играть, но пусть играет, я поэтому и не хочу, но пока не играю. Дети, я не играю! А че ты сел-то сюда?
