Дилетант. Приключения дилетанта
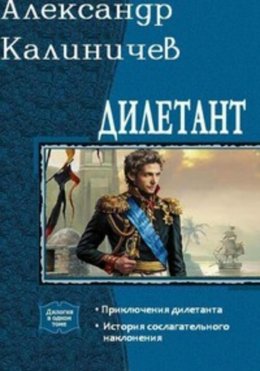
Предисловие
Большую часть жизни считал (ну, по крайней мере, ту, когда вообще чего-то считают), так вот – большую часть жизни считал что предисловие и аннотация – это одно и то же. Оказалось – нет: аннотация, это краткое содержание чего-нибудь, а вот предисловие, это часть, предшествующая основному тексту, в котором излагаются разъяснения и замечания.
Ну, так вот, предисловие.
Сама идея была достаточно проста – захотелось где-то наследить. Нет, не оставить след (от большинства из нас никаких следов не останется, разве что памятник на могилке, да и то, максимум на пару поколений потомков), но вставить свои хоть пять копеек, попробовать заставить внуков (хотя бы своих) заинтересоваться историей. Историей, как повествованием о цепи взаимосвязанных событий, причинно обусловленных и приводящих к определенным последствиям, чаще всего непредвиденным (это, кстати, по Геродоту). Моему поколению стыдно и до глубины горько, когда нынешние школяры, свободно обращающиеся со всевозможными гаджетами, в которых мы как раз ни бельмеса, не могут даже назвать дату Октябрьской революции, или внятно объяснить, кто такой Ленин, хотя его памятники стоят в каждом российском городе. Большинство понятия не имеет кто такие рюриковичи, или какую фамилию носили российские императоры.
Вот, обидно, однако. …, впрочем, оно, может быть, и бог бы с ними, с императорами, но вот как без знания того что было, заглянуть в то, что будет?
Да никак!
А главное, и построить это «будет», тоже никак.
Поэтому то, что здесь написано, является попыткой познакомить тех, кто всё же будет читать, с людьми, действительно оставившими свой след в русской истории (ведь многие дейстующие лица МОЕЙ ИСТОРИИ действительно жили на рубеже XVIII – XIX веков), а заодно и переосмыслить определённый период отечественной истории.
Моё поколение, которое сейчас именуют поколением Х, любовь к истории получила, читая Пикуля и Яна1, так может через альтернативную историю заинтересуется реальной историей поколение Z?
Ну, а что – «Приключения Нильса» Сельмы Лагерлеф писались, как учебник географии.
…
А может это просто автор так уходит от реальности?
1 Валенти́н Са́ввич Пи́куль (13 июля 1928, Ленинград – 16 июля 1990, Рига) – советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.
Васи́лий Григо́рьевич Ян (настоящая фамилия – Янчеве́цкий; 23 декабря 1874 (4 января 1875), Киев – 5 августа 1954, Звенигород) – русский советский писатель, автор исторических романов.
Дилетант. История сослагательного наклонения
Чтобы в будущем не думать о прошлом,
надо было в прошлом подумать о будущем.
Пролог
Не люблю ездить далеко один. Как дальнобойщики неделями одни в дороге? Целый день едешь, едешь, а перед глазами только одна серая лента дороги! С ума сойти можно… Привычка, наверное.
Я-то сам на дальние расстояния езжу не часто, и всегда в таких случаях стараюсь найти попутчика – хоть есть с кем пообщаться. Но вот в этот раз как-то не сложилось, попутчика не нашлось, ни туда, ни обратно.
Поездка была, собственно, грустная – на похороны старого друга. Когда-то, в эпоху ещё курсантской юности, мы с ним были закадычными друзьями. Потом приказы и время раскидали нас по просторам СССР, и, если первые годы мы ещё переписывались, пусть и два-три письма в год, но всё же, то по обретению семей, званий, должностей и связанных со всем этим забот, переписка прекратилась. Встретились через тридцать лет и три года. Встреча не была случайной – я искал его. Попав в город, где мы когда-то учились, естественно пришёл к училищу, которого уже не было, но кое-что ещё осталось, и увидел его портрет. Оказывается, он закончил службу в нашем же училище заведующим кафедрой тактики. Неожиданно. Молодец! Ну и, естественно, найти его было уже не сложно. Встретились. Попили водки… Н-да… А вот позавчера его хоронили. … Болезнь Альцгеймера, и не выговорить то сразу. Всё же, смерть забирает лучших из нас. От того ещё больнее прощаться. Его дочь на похоронах говорила, что последний год он уже никого не узнавал. … А я до сих пор помню каждое слово из нашего последнего разговора. Невольно проваливаюсь в философские мысли, чтобы избавиться от гнетущих воспоминаний.
Э-эх, друг мой Колька! … Вот, начало уходить уже и моё поколение. Поколение, которое эти яйцеголовые янки назвали поколением Х. … «Поколение Х».., что они понимают в нас! Да в России мы были самым счастливым поколением! … Были … до 90-х, а потом стали потерянным поколением. … А всё Ельцин с Горбачёвым…
Размышляя над ролью Горбачёва и Ельцина в истории России, невольно приходишь к выводу, что это история глупости и предательства. И если Горбачёвщина, – это больше всё-таки некомпетентность и глупость, то вот Ельцовщина – это предательство. Так свою страну не предавал ни один царь, император или генсек. Даже Пётр III. Даже Лжедмитрий.
–Ну, мне так кажется. … Это что? Синдром Герострата? Хоть как, хоть вот так, но влезть в историю?
– А может Высший Разум специально наделил этим крестом Ельцина? Есть же версия, что Иуда предал Христа именно по прямому приказу Христа. Взвалил на себя крест предателя во имя спасения человечества. Может и Ельцин вот так разбазаривая великую страну, взвалил на себя крест предателя, чтобы люди через 20 – 25 лет поняли, что общество, в которое они так стремились в начале 90-х, общество потребления, – это тупик. Это общество не имеет будущего.
– Опять брюзжание дряхлого старика. Трава была зеленее, сахар слаще, девки…
– А что девки? Девки и сейчас есть…
– Задумайся лучше о своем месте в этом мире. Осталось ведь не так уж и много. Ты стар. Ты смердишь гнилью времени. Тебе здесь уже нет места.
– Н-да, смержу гнилью времени? Надо же! … Или смердю? … Почему гнилью? … Гниль времени! А такое может быть?
А ещё я не люблю ездить ночью. Возраст уже непацанский, плоховато со зрением, да и вообще… Но вот еду же.
– Надо было в Пензе ночевать. Чего поехал? Теперь до Тамбова, что ли тянуть? Это же почти триста километров!… Нет, надо искать мотель где-нибудь возле Каменки. …Что там по приёмнику?
Радио FM сообщило, что в Польше опять сносят памятники нашим солдатам. Под закон о декоммунизации попало 500 памятников воинам Красной армии.
– Вот суки, братья славяне! … Да и остальные тоже. … Вообще, почти все, кого мы тогда освободили, в результате повернулись к нам задницей. Эх, прав оказался Достоевский – не будет у России таких ярых ненавистников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными. Будут трубить на весь свет, что они де образованные, а Россия – страшный варварский колос, завтракающий младенцами, а обедающий девственницами. …
– Поставь музыку, что ли.
На ощупь достал из бардачка первый попавшийся диск и вставил в магнитолу. Из динамиков громко так раздалось: «Солнце, май, Арбат, любовь. Выше нет карьеры. Капли датского короля пейте кавалеры, капли датского короля пейте кавалеры…».
Окуджава. … Надо же, диск года два лежит в машине и почти столько же я его не слышал.
Я к Булату отношусь хорошо, песни его слушаю с удовольствием, а вот как писатель мне он, мягко говоря, не глянулся – прочитал его роман «Путешествие дилетантов» и был разочарован. Не знаю, написал ли ещё он что-нибудь кроме этого, ну, в смысле прозы, но этот «Дилетант» у него на мой взгляд не айс. … А вот песни у него хорошие.
«В склянке темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела гордо и неторопливо…».
Впереди появились фары встречной машины, и я переключился «на ближний». Фары появились и пропали – значит, встречная машина пошла под гору.
«Исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь, как в туман, от пролога к эпилогу…».
Фары появились внезапно и совсем не там, где их можно было ожидать! … Яркий слепящий свет на всё лобовое стекло!
Хорошо, хоть в машине один…
Глава 1
Не зарекайтесь, люди, от чумы,
Сумы, тюрьмы и участи Мумы…
А. Кортнев
Исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь как в туман от пролога к эпилогу1.
– Какой роман? Сочинял?… Когда?
– Вставай уже, на работу проспишь. – Голос жены раздался почти над ухом.
– Голова-то как болит… Какой я там роман сочинял? …Стоп. На какую работу? Я же только вчера из Самары выехал. А как здесь оказалась жена?
И тут я открыл глаза.
Над головой потолок. Доски. Потолок из побеленных досок.
А где жена? Я же внятно слышал её голос… Комната. Светло. Явно уже день.
На стенах бумажные обои в какой-то цветочек, причём создаётся впечатление, что эти цветочки рисовал ребёнок. Так, продолжим осмотр – лежу я на кровати, надо мной в углу какие-то иконы, да собственно я лежу под иконами.
– Положили меня в русской рубашке Под иконами умирать.2
– Что? Серьёзно? Умирать положили?… Свет фар встречного автомобиля, большие буквы – MAN. … Я попал в аварию!
Кровать, на которой лежу видимо деревянная, по крайней мере, я вижу деревянную заднюю спинку, простую, без каких-либо финтифлюшек.
Ах, да, окно. Окно небольшое, двустворчатое, а вот ручки такие я никогда не видел. Если это они так сделаны под старину, то как-то не вяжутся с, мягко говоря, скромностью (если не бедностью) комнаты.
– Где это я? … Музей какой, что ли? … Похоже на комнату в музее Паустовского.
– Но это в Тарусе. Ты в Тарусу никак не мог попасть.
– А жена? Где жена? Ведь я ясно слышал её голос. Это что было в бреду?
На стуле рядом с кроватью сидит и что-то шьёт какая-то тётка в....
А как это называется? … Надо же, как аутентичненько работники музея одеваются.
Тётка, почувствовав, что на неё смотрят, подняла на меня глаза.
Женщине лет…, я никогда не угадывал возраст женщин. Понимая, что передо мной сельская жительница, я бы ей дал лет 50.
Во взгляде женщины мелькнуло удивление, тут же радость, она вскликнула что-то типа – Ах! – и выбежала из комнаты, крича:
– Барин, барин опамятовался!
– Это я что?…Где барин?…Это кто барин?
– Если барин это я, то где я? … Вчера я ехал… а куда я ехал? Или не вчера? Или не я?
– Давай спокойно, без эмоций проанализируем ситуацию. Ты ехал, то есть я ехал, домой из Самары, проехал через Пензу, причём через саму Пензу, а не по окружной. Выехал из Самары поздновато, позже, чем рассчитывал, в Пензе был, уже смеркалось. Пока заправился, пока перекусил, стало темно. И была ж мысль плюнуть на всё и заночевать в мотеле… Нет, поехал, блин, на свою голову. Трасса вполне приличная, прямая, покрытие сухое, время ещё не позднее. Километров через пятнадцать, то есть минут через 8 – 10 после плаката «Доброго пути» увидел на встречу фары, последнее что помню – большие буквы MAN…
– И где тогда я нахожусь?
Пытаюсь поднять правую руку, слабость, но поднять до лица удаётся. Рука тонкая, исхудалая и… не моя. Но к этому почему-то я отношусь спокойно. Видимо, я не до конца осмысливаю случившееся.
Так, дальше. Почему не чувствую ног?
Голова как чугунная. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы приподняться с подушки.
Пытаюсь поднять одеяло, вернее перину. И лежу на перине, и укрыт периной. Ткань какая-то плотная. Лён? Удаётся, с трудом, но удаётся откинуть эту гору. Подо мной тоже льняная простыня. На мне рубашка, ха, ночная? Я такое никогда не носил… Из-под рубахи торчат два неровных обрубка…
А? …Это что?…Это я?… Это у меня?
Увиденное так меня шокировало, что какое-то время я просто не мог думать.
Я – калека! Бл… и-ин! … Оторвали Ваньке встаньку!
Смена мизансцены отвлекла меня от дальнейшего осознания своего положения.
В комнату вбежал колоритный такой, здоровенный мужик. Именно вбежал, а не вошёл. Бородатый, волосы взлохмочены. Что-то детское, какой-то щенячий восторг, какая-то отчаянная радость отразилось в его светлых глазах. Это никак не вязалось с его видом.
Всё это длилось мгновенье.
Он упал перед кроватью на колени, обхватил меня своими ручищами и… зарыдал.
Вот это да!
Как-то сейчас я не ожидал такого пассажа. Всего минут пять-десять я в сознании нахожусь, мне бы в спокойствии осмыслить случившееся, а тут…
Кто это? Почему так убивается?
Но мизансцена вновь изменилась, в комнату вошла женщина. Нет, не та, что я увидел, придя в себя. В комнату вошла … Царица. Именно так, именно такая ассоциация у меня возникла – властное, породистое лицо, осанка… Да всё, буквально всё в этой женщине говорило о том, что она привыкла только повелевать. Однако в её глазах я тоже увидел неподдельную радость.
– Надо же, как меня здесь любят…
– Да нет, не тебя, а того, кого они видят перед собой.
– Но ведь они видят меня.
– Ну, наконец-то, Александр Фёдорович, Вы пришли в себя. А то мы уже отчаялись, господин поручик – Сказала женщина приятным голосом и положила руку мне на голову. Рука полная, сильная и прохладная. Очень приятное ощущение. Температура-то у меня наверняка есть, раз такие раны, значит и воспалительный процесс идёт. Поэтому прикосновение холодной руки было приятно.
– Ну, полно, тебе Степан, полно. Ступай, распорядись, что бы для Александра Фёдоровича воду приготовили умыться, да поесть, что-нибудь более существенное, чем бульон.
Мужик поднялся с колен, вытер рукавом заплаканные глаза и вышел из комнаты со словами – Дык это мы, матушка, мигом спроворим.
Так я и не понял, кто этот человек. Если женщина назвала его по имени, а он её «матушкой», значит она явно старше его, но внешне по возрасту я бы не сказал, … значит по статусу?…
А кто же она? … Так, а Александр Фёдорович…, это кто? … Это я? Но меня не так зовут.
Женщина подвинула к кровати стул и села. Опять положила руку мне на голову.
– А жар-то ещё есть. … Да, как и не быть при таких-то ранах. Слава Богу, опамятовались. – И она перекрестилась на икону.
– Что со мной случилось? – Ё…, голос еле-еле слышно. Кое-как выговорил три слова. Горло сухое, звуки изо рта приходиться выталкивать. – И, если можно, дайте попить, … пожалуйста.
– Да, да, конечно. – Она поднялась, подошла к столику справа от кровати (а я его и не заметил) и налила в стакан из кувшина воды (а стакан какой интересный!), затем наклонилась надо мной, просунула левую руку под мою голову, приподняла её и стала поить. Движения её были привычные, видимо делала она это не раз.
– На Вашу долю выпало тяжкое испытание. Те раны, что Вы получили, как говорит Нестор Максимович, должны были Вас убить. А Вы, мой мальчик, слава Богу, выжили. Нестор Максимович Максимȯвич 3, – это врач которого я с собой привезла. – Она опять перекрестилась. – В Вас попало ядро во время штурма Измаила4.
– Оба-на! Измаила! … Как Измаила? … Это же 18 век. Я в 18 веке?!!! Измаил брали, кажется, в декабре толи 89-го, толи 90-го. … Блин, ну не помню точно. … 1790!!!… Попало ядро. Нифигасе! Нехилый я парень был, раз выжил. Ядром видимо ноги и оторвало. Как же он, ну, то есть я, выжил-то, при зачаточном уровне полевой хирургии.
– А что ты знаешь о полевой хирургии 18 века? Да ничего.
-Так, стало быть, что? Как я мог оказаться в 18 веке?
– А стало быть, парень, ты там под Пензой преставился и твою сущность куда-то вселенский разум зафиндюрил.
– Зачем? Кто зафиндюрил? Какой смысл зафиндюривать куда-то кусок мяса, который я сейчас представляю?
– Да …, а может у вселенского разума есть свои физические законы, и человеческая сущность, как часть вселенной, пусть микроскопическая, но часть, просто вливается после физической смерти материального тела в общую энергетическую составляющую, а потом её…
– И что потом? … Нет, это теория ещё сыровата…
– А может я попусту сошёл с ума? Давно уже в голове навязчивые философствования и диалоги. Это Альцгеймер?! Или ещё нет? … Эх, Колька, Колька…
– Какое сегодня число? – Слова, после того как попил, вышли чуть легче.
– 18 марта, мой друг. (Надо же, – день Парижской Коммууны5) Вы были в беспамятстве три с лишним месяца!
– Ого, три с лишним месяца! Н-да!
– А где я нахожусь?
Её глаза стали грустными, и где-то в глубине, в уголках, я заметил, наполнялись слезами.
– Бедный мальчик. Тяжело тебе пришлось. – Она опять положила руку мне на голову. – В своём имении, в Алексеевском.
Эта информация пока ничего не даёт. Этих Алексеевских в России может быть не одна дюжина, если не сотня, … если я, конечно, в своей России.
– А как я попал сюда?
– Это всё Степан. Он же был с тобой и в Измаиле и вёз тебя через всю Малороссию. Ну и я немного поспособствовала, кода Александра Васильевич мне отписал, что крестник мой тяжело ранен.
Ага, Степан значит типа дядьки, который воспитывал барчука с детства и был ему и папкой, и мамкой, и нянькой, и старшим братом. … А это женщина, значит, крёстная. … Стоп. Прозвучало что-то важное… АлександрА Васильевич…, какой Александр Васильевич? … Суворов6? Ну да, сейчас Суворов будет писать про какого-то поручика. Да нас, небось, погибла там не одна дюжина, а уж ранена так вообще не одна сотня.
В комнату вошёл Степан.
– Ваше сиятельство, позвольте умыть Лександра Фёдорыча?
– Сиятельство? Ого! … Стало быть, княгиня или графиня, к баронессам вроде бы должны обращаться по-другому. Это если как в моём настоящем прошлом… Прошлом настоящего… Я запутался.
– Опять же, очень вольное допущение, всё может оказаться и сложнее, и проще…
Женщина вышла. Степан занёс лавку, поставил перед кроватью и вновь вышел, но через секунду вернулся с деревянным…
Ведро? … тазик?
Тут я хотя бы смог его получше рассмотреть – волосы русые, нос крупный, кисти рук как совковые лопаты. Рост определить я не смог, трудно это сделать в лежачем положении, но, заходя в двери, он пригибался. Одет в…, а как это называется?
– Степан, кто это был? – обратился я к нему полушёпотом.
– Так известно кто, – в голосе его почувствовалось удивление, – Крёстная Ваша, княгиня Екатерина Романовна Дашкова7.
Княгиня! Дашкова!
При всей моей тёмности, про Дашкову я знаю. … Ну, кое-что знаю.
Знаю, что она была подругой Екатерины II, участницей дворцового переворота 1762 года, а потом единственной женщиной-директором Российской академии наук. … Конечно, Дашковой Суворов мог писать о ранении её крестника.
Пока я размышлял над складывающейся ситуацией, Степан закончил приготовления к моему туалету. Аккуратно с меня была снята…, наверное, всё-таки, это ночная рубаха, и я смог немного увидеть принадлежащее мне тело.
– Гм…н-да, зрелище так себе.
– А что ты хотел увидеть? Три месяца без движения, питание – только видимо жиденький бульончик. Кожа и кости. Вот пролежней нет – это хорошо. Обрубки ног уже зарубцевались, рубцы, сколько смог рассмотреть, какие-то толстые, синие. Правой ноги нет почти по самое колено, левой осталось малость побольше. Хорошо, что колени целы, всё-таки легче будет протезы придумать.
-Бл… и-ин, ещё одно!..
Степан начал протирать мокрым…, наверное, это рушник называется, мою левую руку – трёх пальцев – мизинца, безымянного и среднего и части на ней не было… Ну, после ног это уже воспринялось как-то вяло.
В процессе санитарных процедур я выяснил, что здесь мы находимся уже три недели, а добирались из Измаила «почитай» месяц. И благодарить надо их высокоблагородие генерал-майора Кутузова и их благородие «дохтура» Спиридонова.
Во как! Самого Кутузова. Не меньше. Наверное, крёстная и здесь протекцию оказала.
Оказывается, нет. Вернее, всё так, да не так. Екатерина Романовна Кутузову может быть обо мне и писала (надо будет как-нибудь у неё об этом разузнать), но «Михайла Ларионович» был, после взятия Измаила, назначен комендантом крепости и по его приказу унтер и два егеря вместе со Степаном меня «тарабанили» почитай через всю Малороссию до дому.
– А как еще должен был поступить комендант в отношении раненого офицера?
– А я и не знал, что именно Кутузов был назначен комендантом Измаила. Мне казалось почему-то, что при штурме Измаила ему глаз то и выбило. Значит, нет. А тогда где ж? Или это было в моей реальности? … А Спиридонов видимо тот врач, что меня лечил в Измаиле. … Ага, лечил… Ноги оттяпал, зараза.
– А ты чего хотел? Чтобы он тебе аппарат Елизарова установил? Да и когда ему с тобой было валандаться? Там раненых, небось, было больше чем у дурака махорки. Ноги, по-видимому, ядром размозжило и их отняли в госпитале. Если бы сразу оторвало, вряд ли бравый поручик дожил до операционного стола.
Всё это Степан мне поведал сам, без расспросов, выполняя туалетные процедуры.
– Как бы у Степана спросить об обстановке вообще?
– Нет, лучше доктора. Дашкова, сказала, что привезла с собой доктора. Ему будет проще втереть про амнезию. Надеюсь, этот термин уже существует, и он его знает.
– А где, доктор-то? Почему не спешит к больному?
– Степан, а где доктор?
– Дохтур то? Так знамо, где, в Шаблыкино учёрась поехали. Тамошняя барыня опростаться8 должна. Учёрась от них староста приезжал.
Я ни черта не понял.
– Опростаться?
– Переводчика бы с русского на понятный. Ладно. Сам справлюсь. Итак, Шаблыкино…
Степан в это время унёс принадлежности, которыми приводил меня в божеский вид.
Шаблыкино!? Вот это надо серьёзно и срочно обмыслить. Я аж закрыл глаза. … Дело в том, что я, тот я, из 21 века, родился в селе Навля Шаблыкинского района Орловской области. И родился я 18 марта. А село Навля в 18 веке называлось Алексеевское. Кто и зачем его потом переименовал ни в 20, ни тем более в 21 веке уже не знали и, почему-то никаких записей в архивах не сохранилось по этому поводу. Известно было, что в 1785 году была построена церковь на средства помещика здешнего, отставного капитана Фёдора Петровича Ржевского.
– Предположим, что это всё же реальность, а не бред.
– Прошлое реальности?… Кхем. Стало быть, я Ржевский? Раз я Александр Фёдорович, значит сын. А где же дражайший папаша? А мать? Как спросить? Это что ж тогда получается?…
Какая-то мысль где-то вертится в голове, вот чувствую, что это может объяснить случившееся, а поймать, услышать её не могу.
Ладно, отложим.
Вернулся Степан с подносом, на котором стояла какая-то посуда.
– Не извольте гневаться, Александр Фёдорович, дохтур велел Вас только куриным бульоном кормить. Покедова барин слаб, грит, пища должна быть лёгкой. Дохтур человек честный, он всяко лучше меня знает своё рукомесло.
– Рукомесло?…
– Ремесло, наверное.
– Ну что ты, Степан. – Я сделал, как мне думается, соответствующее выражение лица. – Только хлеба немного можно?
Степан сжалился, без каких-либо внешних усилий, как ребёнка приподнял и усадил меня, прислонив к спинке кровати, предварительно обложив подушками. И начал кормить, поднося корту с начало хлеб, а потом ложку с куриным бульоном. Моя попытка взять в руку хотя бы хлеб успехом не увенчалась.
– Спасибо, Степан, довольно. Как это со мной случилось?
– Так, сам-то я не видел, а солдатики рассказывали, что аккурат перед воротами Вам и прилетело турчанское ядро. Да ещё говóрили, ка-ак подбросило почитай под самые небеса, да озимь и ударило. Думали, что вы помёрли. Дык, и правду сказать, на Вас живого места не было, всё в кровиши. Там перед воротами много полегло, от Вашей полуроты почитай никого и не осталось. – Он помолчал, о чём-то на секунду задумавшись. – А когда ужо похороньщики начали собирать, Вы вроде как застонали, ну оне меня и позвали, а уже в лазарет мы Вас вместе отнесли. А там…
– Всё Степан, спасибо, ступай, я посплю немного, устал. – Вяло сказал я, уже засыпая и проваливаясь в темноту, как в омут.
Глава 2 (1791 год, март)
Снежная королева дала Каю буквы П, Ж, А и О,
и заставила собирать слово СЧАСТЬЕ
Свет пробивается сквозь....
– Блин, как же это называется? … Занавески, шторы?… Ранний-ранний рассвет.
– Однако нас не слабо приложило.
– Оп, уже думаю про нас двоих, хотя я вроде бы здесь один.
– ОДИН!!! М-М-М...
– Дикая тоска, такая дикая, что впору в петлю.
-Вдох, выдох, вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Десять глубоких вдохов и выдохов.
– Успокойся, изменить ничего нельзя. Всё, ты умер. У-ме-р! Прими как данность. Все умирают. Все! Вот и твоя очередь пришла. Просто пришла твоя очередь. Да и пожил ты вполне. … Ну, может быть и не вполне, но умереть в 65 уже вроде бы и не стыдно. Тем более, как и хотел – ещё вполне самостоятельным, без маразма, не отягощая жизнь близких своими болезнями. … Всё, паника прошла?
– Да. Всё с начала.… По всей вероятности, в своей реальности (а эта тогда реальность чья?) я погиб – помню яркий свет – фары приближающейся встречной машины, помню, как кручу руль, давлю со всей дури на педаль тормоза, а в голове мысль – хорошо, что в машине один. …
– ОДИ-И-ИН!!!
– Поручику тоже здорово досталось, но всё же жизненно важные органы остались в более-менее целом состоянии. Ему, конечно, капитально не повезло (или повезло – шутка ли – попасть под ядро). Наверняка впереди всех бежал.
-А как иначе – героем ведь хотел стать, небось.
– Что думал в этот момент поручик, не знаю. И, по-видимому, не узнаю никогда. Судя по всему, от болевого шока он умер. Не мудрено – мало того, что ему оторвало обе ноги, так ещё и откинуло назад и хорошенько грякнуло об мёрзлую землю. Вот тут-то, по-видимому где-то в тонких материях мы с ним и пересеклись. … Куда же попал я? … Да уж, попал так попал! Это, по-видимому, параллельная, или перпендикулярная, или … ну в общем, другая реальность.
– А почему ты так думаешь? Может это просто тебя так назад во времени забросило?
– Может, …но …, не знаю. Вроде бы Энштейн доказал, что это невозможно, или … наоборот – он доказал, что это возможно1? … На ум приходит только какая-то теория множественности пространств и измерений (кажется так…или не так?) вроде бы какого-то немца (хотя, скорее еврея), толи Гильберна, толи Гильберта2, а может и вовсе Шмидта. Так вот, у этого пространства (хотя правильнее будет, наверное, просто – пространство) не три, и даже не четыре, а бесконечное множество измерений. А главное, что, согласно этой теории, пространство обладает неограниченной ёмкостью – всё прошлое и будущее умещается в одной точке пространства, точки пространства колеблются, как атомы в кристалле и могут вроде бы меняться местами…
-… Ты просто строишь из себя непойми что. Умником заделался. Кончай уже, а?
– … Тогда получается, что героический поручик валяется в реанимации где-нибудь в Пензе 21 века? Нет, то есть, если он в реанимации то, скорее всего в Пензе, отъехал я от неё километров 15, но…, судя по моим воспоминаниям, от моей тушки вряд ли что целого должно было остаться. Хотя… Но куда-то же поручик делся… ну, то есть его сущность, душа, если хочешь, куда-то ведь делась?… Так, об этом подумаем позже, а то голова уже пухнет.... Да, а зовут-то меня, обалдеть – Ржевский Александр Фёдорович, да, да – поручик Ржевский.
– Ты меня не слушаешь?!
И смертельная тоска. Именно, смертельная, от которой хочется выть и биться головой о стену. Если «всё» – это земля на крышке гроба, а остальное можно исправить, то в моём случае нынешнее положение и есть «всё».
Но не мысль о смерти меня ТАМ была так убийственна, а осознание того что всё что я любил, чем дорожил там … нет не умерло, а… исчезло. И исчезло навсегда.
Я больше НИКОГДА не увижу жену, дочь, внучек. НИКОГДА!!! А мать? Старушке 90, ей осталось-то всего-ничего. А тут смерть сына. У-у-у…
– Всё, кончай истерику. Будь мужиком. …
– Кто виноват, я или дальнобойщик? В принципе, уже не важно. Один из нас или заснул, или отвлёкся не вовремя. Бывает, знаете ли – приёмник переключить, диск поменять, сотовый зазвонил – вроде доли секунды, а в ненужное время в ненужном месте и…1 миллион с четвертью по всему миру! В год! … «Звонок в дверь. Мужик открывает дверь, а на пороге смерть стоит. Только не в чёрном балахоне, а вся в ленточках, бантиках, с шариками надувными и кастрюлей на голове вместо капюшона. – Ты кто? – спрашивает мужик.– Я – твоя смерть.– Боже, какая нелепая смерть!».
-Н-да, в гости к богу не бывает опозданий. Так, с тобой всё понятно – погиб в автомобильной катастрофе.
– Теперь мой, … кто он мне? Реципиент? Нет, реципиент, это который получает. Альтер-эго? Нет, альтер эго у меня всегда был, я с ним постоянно спорю.
– Скорее – донор.
– Так вот, мой донор в декабре вроде бы 1790 года (надо как-то число и год уточнить) пошёл на штурм… Звучит-то как – «пошёл на штурм»… Нет, у него хоть не так глупо, как у меня. А если разобраться, так для офицера вообще прекрасная смерть (ну вот что в ней может быть прекрасного?). В бою, ведя за собой солдат. … И где-то в тонких материях мироздания наши «ego» и поменялись. Лежит ли поручик Ржевский Александр Фёдорович в пензенской реанимации или нет, я, по-видимому, никогда не узнаю. А вот то, что майор Советской Армии в отставке находится в 18 веке в селе Алексеевском какого-то уезда, а может волости, Орловской, наверное, губернии – это, как будут говорить в Одессе, картина маслом.
– Так, что мы имеем?
– Разделим информацию на две части. Правая часть – плюсы, левая – минусы. Минусы: – я безногий калека, я ничего, или почти ничего не знаю о времени и месте куда попал и…, и на первый взгляд всё. Всего два минуса, но правда, всем минусам минусы, первый вообще все плюсы, если они будут, перечеркнёт. Плюсы: – я жив. Тоже, между прочим, ничего. Я молод. Рука, которую я рассматривал, принадлежит явно молодому человеку. Я не беден. Ну, раз уж барином называют, наверное, какие-то материальные ресурсы имеются. … Однако светает. … Да, ещё кто-то легонько сопит в комнате.
От размышлений я вернулся к действительности.
Сквозь, будем считать, занавески пробивается свет. Едва-едва. Но не из-за плотности занавесок, а из-за того, что утро еще и не наступило. Ночь только-только начала сдавать свои позиции. В комнате толком еще ничего и не видно.
– Что меня отвлекло? … Ах да, сопение. Так, сопение раздаётся откуда-то снизу от двери. Не мужчина, тогда это был бы скорее храп. Женщина? (Действительно, не могли же они больного одного оставить, тем более барина). Скорее – мальчишка. Да, наверное, мальчишка, спит у двери на полу. Ну, пусть спит. Мне пока ничего не нужно. Даже позывы внизу живота к мелкому туалету вполне терпимы. … Так, думаем дальше. Значит мы здесь. Ну и зачем мы здесь?
– Да может и не зачем.
Почему-то в голову пришёл анекдот:
«Умер Мужик. Ну и появляется перед архангелом. Архангел говорит:
– Ты кто?
– Да вот, – говорит мужик, – помер я.
– Что помер понятно, а фамилия-то как?
– Петров я.
– Ага, Петров, говоришь. – Говорит архангел, и начинает листать толстенную книгу. – Сейчас посмотрим куда тебя....
– Слышь, мил друг, а можешь на вопрос один ответить?
– Ну, смотря на какой, – Отвечает архангел. – Задавай.
– Вот для чего я жил? В чём смысл того, что я корячился, старался денег побольше заработать, должность повыше заиметь?
– На этот вопрос ответить можно. – А сам книгу листает. – Петров, Петров, ага, вот, нашел…– Помнишь, тебе было 42 года, и ты с коллегой по работе был в командировке в Симферополе?
– Смутно припоминаю…
– Там вы 15 октября обедали в столовой. Взяли рассольник, тефтели с гречкой и компот из сухофруктов.
– Да, вроде было такое.
– За соседним столиком сидела девушка, которая попросила тебя подать ей солонку, что ты и сделал.
– Да, вроде бы припоминаю.
– Ну вот…»
– И что?
– А то. Не надо искать философский камень. А то найдёшь и окажется, что всё, для чего ты родился – это соль кому-нибудь подать. … Смысл жизни – в жизни.
– И как мы в этой жизни будем жить? То, что я здесь считай калека, меня как-то в отчаянье не ввергает. Фиговенькие, конечно, стартовые условия, но масса примеров из моего будущего внушает определённую надежду. Смогу ли я сделать себе новые ноги и научится ходить? Сам-то сделать качественные протезы явно не смогу, но технологии и мастера 18 века думаю, позволяют на это надеяться. …
– А что ты знаешь про технологии и мастеров? Ни-че-го-шеньки.
– Но ведь не электроника же. Читал когда-то, что именно в 18 веке то ли в Италии, то ли во Франции, то ли в Швейцарии жил мастер, сделавший несколько кукол-автоматов, кажется три – писаря, рисовальщика и музыканта, которые что-то там писали, рисовали и играли. Причём эти куклы дожили до 21 века.
– Ну вот.
– Протезы же, я думаю, попроще будут. Как его звали-то? … Надо что-то делать с памятью. Надо вспомнить. И не только этого механика. Кстати, он часовщиком был. Точно – часовщиком. Значит швейцарец. Скорее всего, швейцарец.
– Хорошо, а дальше-то что? Ну сделал ты протезы себе, научился ходить и даже бегать как Писториус3, и даже на скрипке играть, как Манами Ито3, а дальше? Дальше-то что?
– Гм, на данный момент я обладаю уникальными знаниями о будущем.
– Да? О будущем чего? Ты исходишь из предпосылки, что это или прошлое твоего мира, или мир другой, но абсолютно идентичный твоему. А если всё не так? Из чего ты решил, что это 18 век, Россия и твоя родная деревня? Даже то, что ты Ржевский, не факт. Доктора ты не дождался, уснул. Впрочем, он мог и не приехать, вдруг роды сложные.
– Ладно, исходим из того что это мой мир, и я провалился (или поменялся) во времени. Как мне здесь жить? Давай рассмотрим варианты.
– Давай.
– Живём себе тихонько в имении, по мелочи обустраиваем быт согласно своих привычек – ну там санузел, водопровод, развиваем помаленьку без фанатизма отдельно взятый колхоз и радуемся жизни. Лет пятьдесят можно ещё прожить. Даже можно жениться и детей нарожать… ну, в смысле наделать.
– Так, а в эти пятьдесят лет много чего происходить должно вне твоей деревни. Если уж только по самому крупному, то: Наполеон, Бородино, сгоревшая Москва – раз, декабристы – два. Это самое крупное. Ну и по мелочи там: войны всякие, смерть Екатерины, которая пока не великая, … или уже Великая? … Павел I, дворцовый переворот, Александр I, Николай I. Дальше, пожалуй, не доживёшь. … Можно остаться в стороне?
– Наверное, можно. Реальный бы Александр Фёдорович Ржевский вряд ли куда встрял. Но мне как-то это, как будут говорить в Одессе, не комильфо. Уж больно за Москву обидно. Декабристы, уж бог с ними, и без меня как-нибудь Забайкалье освоят, а вот Наполеон в Москве нам не нужен. … В туалет хочется…
– Э-эй, есть тут кто! – О, голос сегодня пободрей, не совсем, как у умирающего.
Сопение на полу прекратилось, и над краем кровати появилась чья-то взлохмаченная голова.
– Да, барин, я здесь.
– А ты кто?
– Так, Филька я.
– Филька? – Не ошибся, значит, пацан. – А позови-ка … – Филька? Скорее всего – Филимон.– Позови-ка, друг мой Филимон, Степана.
Я счёл неловким просить мальчика таскать за мной все это. … Наверное «это» называется судном. Да мне и перед Степаном было неудобно, но всё-таки взрослый человек.
Степан появился через минуту.
– Утро доброе, Лександра Фёдорыч. – забавно это у него получается «ЛександраФёдорыч».
– Доброе, Степанушка, доброе. Тут такое дело…
А я со «Степанушкой» не перебрал? Мне ведь теперь не 65 лет.
– Да я ужо понял. – Ударение Степан сделал на последний слог. – Щас всё сотвóрим. Не впервóй. Я ведь ешо за Вами маненькими ходил.
Вся процедура заняла минут пятнадцать. Блин, как меня всё это… напрягает. Абсолютная беспомощность. Таким я был, наверное, только когда родился. Надо быстрее как-то становится более самостоятельным, а значит и независимым.
Во время туалета Степан поведал мне, что «дохтур» вернулся, что барыня Киреевская разрешилась мальчиком, и что Нестор Максимович посмотрят меня немедля, как только сообщат им, что я проснулся.
– Передай Нестору Максимовичу, Степан, что я прошу его осмотреть меня после завтрака.
– Так Лександра Фёдорыч, оне как раз и хотели осмотреть Вас и решить, чем теперь кормить можно.
– А-а, ну тогда ладно, пусть будет посему. Только рано ещё, он, наверное, ещё спит. Поздно вчера приехал?
– Да ужо тёмно было. Но оне уже встали.
– Тогда можешь сказать, что я проснулся. Только дай сначала напиться.
Действительно, чего тяну? Вот сейчас, надеюсь, мы (я и моё альтер э́го) получим больше информации.
Оно и поесть бы не помешало, но я же понимаю, что после такого длительного поста не всякая пища для ослабленного организма может быть во благо.
Минут через пять в комнату вошёл мужчина, поджарый, среднего роста. На голове парик – это первый парик, который я увидел, очнувшись в этой реальности. Одет… камзол? сюртук? … из того, что было на нём надето уверенно могу назвать только нашейный платок и чулки. На вид, вошедшему, было лет… лет…, ну, дет шестьдесят, наверное.
Перекрестившись на икону, он широко улыбнулся и сказал, слегка заикаясь. – Д-доброе утро, Александр Фёдорович, как Ваше са-амочувствие?
– Доброе, Нестор Максимович, доброе. По крайней мере, я ещё жив. А самочувствие моё соответствует внешнему виду. Откровенно говоря, бывали времена, мне кажется, когда я чувствовал себя лучше. Присаживайтесь, пожалуйста.
– Сп-пасибо. То, что Вы изволите шутить, говорит об определённом п-прогрессе Вашего состояния. И… раз уж мне п-представляться не надо, п-позвольте всё же мне Вас осмотреть?
– Всецело к Вашим услугам – тут уже я сделал соответствующую мину.
Доктор положил руку мне на голову, вероятно проверяя, нет ли у меня…, пожалуй слово «температура» здесь не совсем уместно, правильнее наверное – жȧра.
– Жара сегодня нет, Нестор Максимович. Вчера был небольшой.
– Это х-хорошо. А что-нибудь беспокоит?
– Сейчас беспокоят фантомные боли в ногах и…
– Фантомные боли?
– Нестор Максимович, Вы хирург?
Доктор замялся, видимо подбирая уклончивый ответ.
– Я, если честно, больше п-по женским болезням…
– Ага, я тоже не гинеколог, но посмотреть могу. А вот он, наверное, и есть гинеколог. Ведь его везли, скорее всего, не к раненому поручику. Его везли к умирающему. А нужен он был для помощи, ехавшей к этому умирающему, женщине.
– Милейший Нестор Максимович, поверте, своим вопросом я ни в коей мере не хотел Вас смутить, или усомниться в Вашем профессионализме. Но сейчас не боли в ногах меня беспокоят и даже не то, что их, в смысле – ног, почти нет.
Моя тирада явно озадачила моего визави.
– А что же?
– Скажите, Вам известно, нет, не ЧТО со мной, а как со мной ЭТО произошло?
– Ну-у. В общих чертах. В Вас п-попало ядро.
– Милейший Нестор Максимович, я думаю, что, если бы в меня попало ядро, мы бы с Вами сейчас не разговаривали. Моими собеседниками сейчас были бы либо ангелы, либо… ну настолько, я думаю, ещё не нагрешил. Так вот. Я предпологаю, что ядро ударило со мной рядом, или где-то в непосредственной близости и, отрикошетировав, размозжило ноги и подбросило в воздух, после чего я ударился о землю. Другого правдоподобного объяснения, случившегося со мной, я не нахожу. Ударившись о землю я, видимо, хорошенько приложился и головой. В результате этого в голове образовалась гематома, которая и не давала мне прийти в себя, пока частично не рассосалась.
– Вы где-то получали медицинское образование?
– Господь с Вами, Нестор Максимович. Я полнейший дилетант. Там слышал что-то, там, что-то читал. – Я сделал паузу и добавил, – Наверное.
– Что ж, п-правдоподобно, хотя я считаю кому, в данном случае, защитной реакцией организма на травму. Но и Ваша версия…
– Позвольте я закончу? Гематома рассосалась, по-видимому, ещё не до конца. Только этим я могу объяснить беспокоящую меня сейчас частичную амнезию. – Я внимательно следил за выражением лица доктора. Может зря я загнул про амнезию? Может и термина ещё такого нет? Ну, греческий он-то наверняка изучал. Или это по латыни?
– Амнезию? – Доктор был явно удивлён.
– Да, амнезию. Я ничегошеньки не помню до случившегося со мной. Когда я вчера очнулся, я не мог вспомнить, даже как меня зовут. Я не помню даже который сейчас год.
– Интересно. Я читал о подобном, но самому сталкиваться мне не приходилось. Вообще не помните ничего?
– Так, главное не переиграть.
– Помню, что фамилия моя Ржевский, вроде бы, но я не уверен. Отца вроде бы зовут Фёдор Петрович, кажется он отставной капитан. Как зовут мать, я не помню. Вроде бы река у нас в деревне есть…, кажется, Навля называется. Но я не уверен даже в этих воспоминаниях. – Говоря всё это, я внимательно смотрел на реакцию доктора. Слушает с профессиональным любопытством, но сейчас без удивления.
– Да, Вы Ржевский Александр Фёдорович, отца Вашего действительно звали Фёдор Петрович. Он, к сожалению, умер три года назад. А матушка Ваша Зинаида Васильевна умерла в 71 году, во время эпидемии холеры в Москве, Вам тогда только 2 годочка было, поэтому, видимо, и не помните её имя. Она, кстати, шаблыкинскому помещику Василию Николаевичу Киреевскому была родной тёткой по отцовской линии. А год сейчас 1791 от Рождества Христова, 19 марта.
– Значит, я всё правильно угадал. … А доктор-то даже заикаться перестал.
– Видимо заикается, когда волнуется.
-А чего ему волноваться?
– Скорее всего, из-за склада характера – всегда волнуется при встрече с незнакомым человеком, а когда дело касается профессиональной деятельности, сразу успокаивается. Значит, дело свое знает. Да и стала бы Дашкова брать с собой бестолкового врача.
– А зачем она его вообще брала?
– Ну-у,… всё-таки к тяжело раненному ехала, пусть и безнадёжному. А вдруг… Но видимо и самой ей нездоровится.
– Сколько ей лет? Лет пятьдесят? Климакс?
– Вероятно.
– А какие ещё воспоминания у Вас есть? Детство? Обычно воспоминания детства самые яркие. Или знаковые события? Производство в офицеры, например, или сражения? Впрочем, по рассказам Екатерины Романовны, это было Ваше первое сражение.
Вот как! В первом же бою, твою ж танковую дивизию!
Мне за поручика как-то стало особенно обидно.
– Увы, нет, Нестор Максимович, пока ничего не вспоминается. Может со временем. Я ведь в сознании нахожусь-то с натяжкой второй день.
– Да, да, конечно. Время всё лечит. Вероятно, Ваши умозаключения правильны. И действительно, при рассасывании, как Вы сказали, гематомы память к Вам вернётся. Я, к сожалению, не являюсь в этой области медицины специалистом.
– Но, я надеюсь, Вы мне поможете?
– С радостью, но чем же?
– Милейший Нестор Максимович, мне нужны воспоминания, любые воспоминания. Где родился, где учился. Я не помню, сколько мне лет, с кем я дружил.
– Но помилуйте, Александр Фёдорович, я в-впервые Вас увидел п-пять дней назад, когда сюда приехал. А узнал о Вас н-неделей раньше. Вот Екатерина Романовна Вам м-может помочь. Она была п-подругой Вашей матушки. – Он опять начал волноваться.
– Ещё один момент, Нестор Максимович, желательно, чтобы здесь моя прислуга об амнезии ничего не знала. Народ тёмный, начнут говорить, что барин умом тронулся, потом с ними трудно будет.
Дашкова пришла ко мне через минут двадцать после нашего разговора с доктором.
– Это правда, что мне сказал доктор Максимович? – Глаза её и так смотревшие на меня с какой-то потаённой… жалостью-нежностью, тут вообще были наполнены слезами.
– Простите меня, Екатерина Романовна, но я действительно ничего не помню, что со мной было до ранения.
Княгиня к моей амнезии отнеслась с пониманием.
– Видно, Господь забрал Вашу память, дабы Вы меньше страдали, мой мальчик. Оно может и к лучшему.
Она мне и поведала родословную Ржевских, да и о моём житье-бытье немного рассказала. Немного, потому как много я ещё не нажил.
Блин, оказывается мы Рюриковичи. Родословную свою ведём от смоленских князей. Один мой пращур был удельным князем города Ржева, а другой был убит на Куликовом поле. В роду были в основном военные и дипломаты. В общем, предки не подкачали. Ни за одного стыдно не было. Хотя, быть может, про тех, за кого стыдно, мне не рассказывали. Оказалось даже предводитель дворянства нашей Орловской губернии мой родственник – двоюродный брат моего отца, Александр Ильич Ржевский. Папенька же мой карьеры ни в армии, ни при дворе не сделал, так как характер имел независимый. И во всём имел своё мнение, которое, как правило, с мнением начальства не совпадало.
И ещё одна мысль мелькнула в голове – вот сколько славных Ржевских жило в России, а народ будет помнить только поручика, героя анекдотов.
Маменька же моя, Зинаида Васильевна Ржевская, в девичестве Киреевская, была тоже из достаточно знатного рода. Там тоже с военными и дипломатами было всё в порядке. У меня создалось впечатление, что дворянство России это либо военные, либо дипломаты.
Ну, хоть бы один Ржевский был учёным или писателем! … Н-да.
Что же касается меня любимого, то я, оказывается, не полный бездарь и солдафон, а закончил Сухопутный шляхетский корпус и знаю три языка – немецкий, французский и латынь.
Угу, вот латынь поручику очень пригодилась при штурме! Впрочем, сложно сказать, что может пригодится человеку, когда в него летит пушечное ядро.
То, что крестьяне и дворня будут коситься на мои странности, я могу не опасаться, так как в имении видели меня редко. Последний раз три года назад, когда я ненадолго приезжал после окончания корпуса на похороны отца.
Кроме того, Дашкова поведала, что погостит у меня еще неделю, чтобы окончательно убедиться в том, что я иду на поправку, а потом уедет в Москву, а уже из Москвы вернётся в Петербург.
Ну что ж, надо жить, хоть бы из любопытства.
1Физика-теоретика, одного из основателей современной теоретической физики, почетного доктора около 20 ведущих университетов мира, Альберта Эйнштейна (14 марта 1879 – 18 апреля 1955) заслуженно считают гением своего времени. Любителям же непознанного во всем мире не дают покоя недвусмысленные заявления ученого. Например, о том, что дыры и даже целые коридоры во времени существуют. Впрочем, он сам признавался, что очень часто ошибался.
2Дави́д Ги́льберт (23 января 1862 – 14 февраля 1943) – немецкий математик-универсал, внёс значительный вклад в развитие многих областей математики. Ги́льбертово простра́нство – обобщение евклидова пространства, допускающее бесконечную размерность, и полное по метрике, порождённой скалярным произведением.
3О́скар Писто́риус (22 ноября 1986, Йоханнесбург, ЮАР) – бегун на короткие дистанции из ЮАР с ампутацией обеих стоп.
Манами Ито – японская девушка, потеряла руку в автокатастрофе, медсестра, скрипач и паралимпийская пловчиха. Она заняла четвертое место в 100-метровке брассом в 2008 году в Пекине на Паралимпийских играх и восьмое в 2012 году на Паралимпийских играх в Лондоне.
Глава 3 (1791 год март)
Рожденный ползать – летать не может
М. Горький
Рожденный ползать – везде пролезет
М. Жванецкий
На третий день моего воскрешения в теле поручика Ржевского мы сидели с Максимȯвичем в…, наверное, гостиной. А как ещё назвать эту, сравнительно большую, комнату? Причём, комната эта была отделана уже с претензией на некоторую… нет, не на роскошь, а на … скорее, на респектабельность. Стены были обиты каким-то материалом, может быть даже шёлком, нежно голубого цвета. По углам стояло два канделябра или как их… Ну, в общем, две такие штуки, куда свечи ставят. Имелся довольно приличный диван и четыре в тон ему кресла. В одно из которых меня и усадил Степан, предварительно обложив подушками. Да, еще был стол. В моё время его бы назвали журнальным. По сравнению с моей комнатой, эта уже больше походила на комнату в барском доме. Но всё равно, я сделал вывод, что Ржевские скорее Дубровские, чем Троекуровы.
Было в комнате и зеркало. Небольшое такое зеркало в простой деревянной раме висело под углом к стене, и я, наконец, увидел внешность моего донора.
– М-да, уж… Видок тот ещё. Впалые щёки, лицо серое, измождённое.
– Зато вот лысины твоей нет – волосы у парня вон какие густые, а мясо нарастёт.
От созерцания себя нового меня отвлёк Нестор Максимович.
– Дорогой Александр Фёдорович, Вы так интересно изъясняетесь, что я просто теряюсь в догадках, откуда это? Некоторые слова я, не сказать, что никогда не слыхал, но как-то их слыхал в других смыслах, что ли. И Ваши обращения ко мне, к Екатерине Романовне, к дворовым, наконец, для меня они как бы необычны. Мне казалось, что офицеры, тем более боевые офицеры, а не придворные шаркуны, коим Вы безусловно являетесь,… – Тут он понял двусмысленность последних слов, заволновался, покраснел и опять начал заикаться. – То есть, я хотел с-сказать, что Вы б-безусловно боевой офицер, так вот, мне к-казалось, что они говорят к-как-то иначе. Это что, последствия контузия и п-потери памяти? – Он по-прежнему избегает говорить «амнезии».
Гм… Отвечать ведь что-то надо. Подумаешь, говорю я не так. И что? Ты бы вообще офигел, если бы услышал молодёжный сленг начала 21 века. Кто из нас двоих врач-то? Ты? Вот бы сам правдоподобные версии и придумывал.
Я пожал плечами.
– Милейший, Нестор Максимович, русский язык настолько многогранен и необычен, что даже мы, русские, привыкшие к нему с самого детства, иногда оказываемся в затруднении, пытаясь правильно передать свою мысль. Вот Вам пара примеров. Перед нами стол. На столе кувшин и нож. Что они делают? Кувшин стоит, а нож лежит. Если мы воткнем нож в столешницу, нож будет стоять. То есть, стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы готовые к использованию? Нет, нож-то готов был, когда лежал. Теперь на стол запрыгивает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то вмещается в логику "вертикальный-горизонтальный", то сидение – это новое свойство. Вот мы сидим в креслах. Сидим мы на заду. А если на стол сядет птичка? Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на заду. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если из птички сделать чучело, то оно на столе будет уже стоять. Может показаться, что сидение – атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и зада не имеет. Так что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит. – Вот я ему мозги забил. Впрочем, этой тирадой я только пытался оттянуть время и побольше его запутать в словесной акробатике. – Я к чему это говорю? Безусловно, среда, в которой человек вращается, накладывает свой отпечаток и на словарный запас и не лексику человека. Наверное, офицеры в действующей армии выражаются проще и лаконичнее. Ведь в сражении команды должны быть чёткими, короткими, всем понятными, исключающими любое двусмыслие. Иначе нельзя. Иначе не поймут. А не понимание в бою командира может статься гибельным для солдат. – Я помолчал пару секунд и дал ему ещё один посыл. – По словам Екатерины Романовны, я учился в шляхетском корпусе, то есть, как понимаю, все мои знания там в меня и вкладывались. Вот, видимо, оттуда и моя лексика.
Корявенько, конечно, ну как уж получилось. Чай он не Мюллер меня колоть. Правда и я, не Штирлиц.
– Да, да, конечно. – Задумчиво пробормотал доктор. – Всё это чрезвычайно любопытно. И по поводу нашего языка Вы правы. Очень глубокое замечание… Да, любопытно… Любопытно. После контузии Вы не помните имя собственной матери, но так логично и остроумно рассуждаете об особенностях русского языка.
Вот, уже и не заикается!
– Доктор, это говорит лишь о том, что мы чертовски мало знаем о нашем мозге, его способностях и потенциале.
– Вынужден с Вами согласиться, Александр Фёдорович. Добавлю, что мы пока очень мало знаем вообще об окружающем нас, а о природе человека, так ничтожно мало. А уж что касается головы, то мы не знаем по существу ничего. В бытность мою студиозом Страсбургского университета рассказывали мне такой случай. То ли в Бретани, то ли в Провансе один человек во время охоты упал с коня и ударился головой о камень. Когда его товарищи подбежали к нему, он был без сознания, голова была в крови, и он странно дёргался, как будто в агонии. И, естественно, они подумали, что он умирает. Через некоторое небольшое время судороги прекратились, и человек затих, но дышал. Его полили водой. Сперва это не дало результата, но потом он открыл глаза и пришёл в себя. Странным было то, что он никого вокруг себя не узнавал. Ещё более странным оказалось, кода он заговорил. Он говорил на непонятном его товарищам языке. Его отвезли в, находящейся неподалёку, монастырь. Монахи позаботились о нём и стали его лечить до тех пор, пока за ним не приехали его родственники. Рана головы зажила довольно скоро, но знание родного языка так к нему и не возвращалось. Он по-прежнему говорил на непонятном всем языке. Приор монастыря заинтересовался этим делом и пригласил из соседнего аббатства монаха, который зело разбирался в языках и знал их превеликое множество, может десять, может даже двадцать. И что оказалось. Оказалось, что тот человек разговаривает на древнеперсидском, да на таком древнем, что даже этот монах его едва понимал. Когда приехали родственники, человек уже знал с десяток слов по-французски и мог как-нибудь объясняться. Родственников он тоже не узнавал1. Вначале мы приняли это историю за шутку, но позже я её прочитал в «Журналь де Саван»»2, кажется за 1769 год. Не находите, что эта история и Ваша очень похожи?
Нет, ну умничка доктор, вот всё сам и объяснил.
– Да, очень похоже. Слава Богу, я хоть язык родной не забыл. А что стало с тем человеком потом?
– Я не помню точно, кажется, он так и не вспомнил свою жизнь до падения с лошади, хотя язык со временем выучил.
– Вы пугаете меня, Нестор Максимович. Это что, я так и не вспомню своё прошлое?
– Ну, ну. Дорогой Александр Фёдорович, во-первых, не надо отчаиваться, вы молоды и всё у вас ещё впереди. Во-вторых, – Он на несколько секунд замолчал, видимо размышляя, говорить мне это или не говорить. – В жизни, поверти, бываю такое, что иногда хочется всё забыть, потому, как воспоминания причиняют только боль.
Ох, доктор, как Вы правы. Но хочу ли я забыть? Воспоминания о жене, о дочери, о внучках, мысль о матери, как она пережила мою гибель, причиняют такую боль, что эти четыре дня, просыпаясь по ночам, я готов лезть на стенку. А хочу ли я это забыть? Время лечит? Только вот лечиться я не хочу.
Ночью мне приснилась жена. Как будто мы с ней едем к новому месту службы. Я выхожу из поезда зачем-то, а поезд, вдруг трогается. Я бегу за ним и не могу догнать. Вроде бы вот они, поручни рабочего тамбура, а дотянуться не могу. Поезд уходит. Последнее что я вижу – заплаканные глаза жены. И просыпаюсь. Подушка мокрая. От слёз?
На следующий день я упросил доктора Максимовича вынести меня на свежий воздух. Во-первых, мне осточертело сидеть в четырёх стенах, чувствовал себя я вполне сносно, а во-вторых очень хотелось посмотреть на место, где через полтора столетия я появлюсь на свет.
Степан укутал меня в тулуп и, как младенца, вынес на крыльцо, где стояло заранее принесённое кресло.
То, что я увидел, меня сильно не удивило, чего-то подобного я и ожидал. Барский дом одноэтажный, деревянный, на фундаменте из красного кирпича, обшит досками. Доски были когда-то покрашены, но вот в какой цвет я так и не определил. Дворовые постройки были, по-видимому, за домом, так как я их не видел. Напротив дома стояла церковь. Тоже деревянная. Насколько я знал, её в 1943 году фашисты сожгут.
Слева от церкви видны были крестьянские хаты. Все деревянные. Все из почерневших от времени брёвен. Фундаментов я не увидел. Все, как одна крытые соломой. С моего места разглядеть их внимательно было сложно. Казалось, что это одно длинное убогое строение, так близко друг к другу они стояли. Но может это и не совсем так, просто ракурс, с которого я всё это видел, создавал такое впечатление. Правда, видны были печные трубы. Это выделяло жилые постройки от хозяйственных. Печные трубы, это уже плюс. Топят, значит, уже не по-чёрному.
Между церковью и избами в лощине виднелась река. Я просто знал, что это река. Сейчас её можно было определить только по кустам да деревьям по берегам. Всё ещё было в снегу. Но снег уже был тёмный, набухающий, мартовский. Светило солнце. На мой взгляд, температура была уже плюсовой – градуса три.
За рекой тоже видны были постройки. Это, стало быть, Локонка, а справа, вон там, Смородиновка. Где-то вот там, на Завершенке или в Грачёвке живут мои пра-пра-прадедушка и пра-пра-прабабушка.
Картинка так себе, … неотрадная. Видно, что бедность, возведённая в надцатую степень.
Ночью опять наваливается тоска.
– Зачем всё это? Зачем я жив? Как мои там, в той моей жизни? Или их ещё не существует?
– Думай о другом. Думай о другом. Думай о другом. Думай о другом. Давай подумаем о себе. Как жить-то дальше.
– Первое, конечно, надо стать на… в общем, сделать протезы и научиться ходить. Далее, нужна команда. Что бы что-то сделать, хотя бы этот колхоз поднять, нужна команда.
– Где её взять?
– О! Надо думать.… Для начала нужно, конечно, найти мастера, чтобы он сделал протезы ног. Есть ли такие мастера сейчас? Вряд ли. Впрочем, мне нужен просто мужик с золотыми руками. В России? Никого не помню. Нартов и Ползунов вроде уже умерли. Кулибин, вроде тоже. Черепановы3, кажется, будут позже. Ладно, попробуем остановиться на мастере из Швейцарии.
– Напрягай память, как его звали?
– Вот сейчас уже чётко вспоминаю, что про эти механические куклы-автоматы читал в Технике молодёжи. Там ещё какая-то драматическая история была с ними в Испании… А звали этого часовщика… толи… там как-то два вроде имени.
– Ну, напрягись, вспомни.
– Кажется…Пьер… Пьер Жак. Как-то так. Ещё что-то было… Пьер Жак… Да, Пьер – имя, Жак – фамилия, и ещё что-то вроде Роу… Дроу? Дро! Точно – Пьер Жак-Дро4! Вот его и будем искать, и уговаривать перебраться в Россию. Эх, самому бы, да коли сам бы мог, так и проблемы этой не было бы. … А дальше? Что дальше? Как приводить хозяйство в порядок? Ведь увиденная мною днём моя деревня меня… мягко говоря, не сильно воодушевила. Быт родной деревни и уклад жизни моих (а как иначе? Теперь уже моих, я за них отвечаю!) крестьян надо менять. На всё крепостное право замахиваться не будем, а вот коммунизм в отдельно взятой деревне построить попробуем. ....
– Для этого нужна команда. Где её взять? … Где взять людей понимающих в агрономии, в животноводстве, да нормального бухгалтера, где взять? А главное, где взять на это всё денег? Наполеон, кажется, говорил, вернее, ещё скажет, что для войны нужны три вещи: во-первых – деньги, во-вторых – деньги и в-третьих – деньги. Так вот, для любой реформы они нужны не меньше.
Сразу вспомнилось житейская мудрость. Как заработать денег? Берете стул, кладете под него доллар, садитесь на стул. Задача: взять этот доллар. Решение: встаете со стула и поднимаете доллар. Смысл упражнения: чтобы заработать денег, надо поднять задницу.
– А сам? Что я могу сам? … Ну, руками пока ничего. В бытность свою зампотехом батальона, я много чего умел. И руками, и головой. А сейчас? Моё умение водить танк, автомобиль, разобрать и перебрать дизель или коробку передач, здесь и сейчас не нужны никому, и даже мне. И не понадобятся ещё через… по крайней мене, лет сто с хвостиком. Здесь я в любой области даже не дилетант, а полнейший профан. Я даже писать по-нынешнему не умею. … О! Следующая задача – научиться читать и писать на русском языке этого времени, с ятями, с… как их? Пока не важно. В общем – стать грамотным. Следующее – выучить какой-нибудь иностранный язык.
– Какой ещё какой-нибудь? Здесь все дворяне говорят по-французски. Это сейчас модно.
– Вот. Значит, нужен учитель. Я дворянин и офицер. Значит должен уметь танцевать, фехтовать и стрелять. А ещё скакать на лошади. А ещё уметь кланяться и… Офигеть. И когда я всему этому научусь? … И так, нужна команда – люди, объединённые одной целью, одной идеей. Очень важно! Вся моя команда должна состоять не только из единомышленников, но и из друзей. То есть, члены команды должны относиться друг к другу с симпатией. В любой организации, команде, союзе, партии, есть лидер. Для того чтобы при смене лидера команда не развалилась между её членами не должно быть конфликта интересов. В большой команде это невозможно. Вон у Сталина была, вернее, будет сильная, эффективная команда. Со смертью Сталина все перегрызлись, как пауки в банке. Команда, связанной одной целью, распадается, как только эта цель достигнута. И члены команды, как диадохи Александра Македонского, из единомышленников, превращаются в непримиримых врагов. Идеальная команда должна работать и после ухода лидера. Только вот что-то исторических примеров не припоминается. Если только не брать в расчёт финансовые кланы. Но там свой бог. Там свои побудительные причины.
– Вот сделай ты команду сам, из тех же крепостных?
– Берём пацанов десяти – двенадцати лет, учим их, естественно освобождаем от крепостной зависимости, и через них – их руками и мозгами двигаем потихоньку промышленную и социальную революцию в отдельно взятой деревне, а потом, может быть, и стране.
– Сколько ты их будешь учить? Тебя учили десять лет в школе и четыре года в военном училище, а потом ещё всю жизнь.
– А что? Долго, конечно, но быстро только кролики размножаются.
– Ладно. Поставим вопрос по-другому – чему их учить? Вернее, чему ты их можешь научить? Что ты знаешь настолько хорошо, что можешь научить крестьянских детей 18 века? Да, учился ты в советской школе и в советском военном училище, и знания в нас вкладывали, именно – вкладывали, обширные и глубокие, но… насколько они актуальны сейчас? Ботанику ты изучал, что такое пестик и тычинка знаешь, но ведь это ещё не агрономия. Ты знаешь устройство двигателя внутреннего сгорания, можешь рассчитать редуктор и что?
– Ну, умение рассчитать редуктор может и пригодиться. Запрудить если Навлю, да мельницу поставить? Я ещё и химию неплохо знал в школе, да и в училище с интересом взрывчатые вещества изучал. Физику и школьную, и вузовскую тоже неплохо помню.
– Только давай так – науку двигать нужно аккуратно. Все открытия, сделанные в России, быстренько оказываются за бугром и патенты на них получают другие люди.
– Интересно, а как дело с патентами обстоит сейчас? Вообще такое понятие есть?
– Не отвлекайся. Наука наукой, но главное в любом деле, умение организовать. В данном случае, умение организовать крепостных крестьян 18 века на строительство капитализма в отдельно взятом имении. Ты организовывать умеешь? Это ведь не рыбалку с друзьями организовать.
– Чтобы понять смогу или не смогу, надо хотя бы попробовать. Выигрыш в лотерее начинается с покупки лотерейного билета.
На медни у меня состоялось знакомство с моим управляющим.
А как ты хотел, вся эта карусель вокруг вертелась сама по себе? Было руководство, было, и представлял его естественно немец, Краубнер Карл Иванович.
Вот Карл Иванович и просветил меня в том, что крестьяне мои делятся на барщинных, оброчных и дворовых, что, отбывая барщину, крестьянин собственными орудиями обрабатывал мою землю, разумеется, бесплатно, по закону – три дня в неделю. А вот находясь на оброке, крестьянин занимается различным ремеслом или извозом, а часть заработка – оброк, он выплачивает мне. Барщина более выгодна, а оброк для крестьянина легче.
Карл Иванович Краубнер, мой управляющий…, вернее, управляющий моим имением…, или моего имения… тфу ты.... В общим, управляющий имением Ржевских оказался человеком очень интересным.
Вообще-то фамилия его была Граубнер, но так как букву «г» он произносил мягче, чем это делают русские, слышалось Краубнер. Он был родом из Штутгарта. На вид ему было лет шестьдесят. Он был невысок, поджар и всё время двигался. Этакий живчик, подумалось мне.
Родители его умерли от какой-то эпидемии, когда мальцу было лет 5, поэтому воспитание и образование он получил в монастыре Хирзау, вернее в сиротском доме при местной лютеранской общине. Помыкался в подмастерьях, записался в армию к Фридриху II. В Россию он попал, как военнопленный после Кунерсдорфского сражения5в 1759 году, когда ему было 20 лет. После окончания войны бывший военнопленный рассудил, что в разорённой войной Швабии его никто и ни что не ждёт, и остался в России.
Весь прикол, как будут говорить когда-нибудь в Одессе, заключался в том, что в плен он попал как раз к моему батюшке, а тот, выйдя в отставку после бездарно выигранной войны.... Вернее, не так… После того, как покойный муж нынешней Императрицы, отдал все плоды победы Фридриху, мой отец вышел в отставку и предложил расторопному неметчику место управляющего в своём имении.
И вот уже почти 30 лет Карл Граубнер, ставший Карлом Ивановичем Краубнером, верно служит нашей семье. Здесь он женился на понравившейся ему дочке отцовского егеря Марьяне, которой отец тут же дал вольную. Здесь же и принял православие, разагитированный местным попиком отцом Ануфрием…
Сюр6 – когда я впервые услышал имя местного батюшки, чуть не засмеялся –«Обходя окрестности Онежского озера, отец Онуфрий обнаружил обнажённую Ольгу…».
Здесь у него и сын родился, который сейчас учится в Московском университете на «дохтура».
Больше ему с детьми не повезло, да и вообще пошла чёрная полоса – когда сыну было только три года, жена умерла во время родов, и ребёнок тоже умер. Было это, аккурат, в 1771 году.
– Карл Иванович, м-м-м, Вы были дружны с моим отцом?
Он задумался…
– Пожалуй да, дружен, но .... Насколько может быть дружен … э-э-э… – Он замялся, подбирая слова. Видимо «слуга» ему говорить не хотелось.
– Работодатель со своим служащим?
– Можно, навернон, и так сказать.
– Карл Иванович, раз Вы были другом моего отца, то надеюсь… – Что ж ему сказать? От этого человека я буду зависеть, по крайней мере, до тех пор, пока не научусь ходить. Сейчас все мои (будем уж считать, что мои) ресурсы в его руках. Нет, в его порядочности я не сомневаюсь. Вот весь его вид говорит, что он лучше в убыток себе сделает, лишь бы о нём чего не подумали… Да и в будущем без его опыта, знания хозяйства и местных реалий, не обойтись. – Надеюсь, мы тоже станем друзьями.
Глаза у старика повлажнели.
– Александр Фёдорович … дык … Я ж ещё мальцом Вас на руках нянчил.
– А как я Вас тогда называл.
– Каливаныч. – И засмеялся…
1Реально описанный случай
2 «Журналь де Саван» -старейший научно-литературный журнал Европы. Дата основания: 5 января 1665 г.
3Нартов, Ползунов, Кулибин, Черепановы – русские механики.
Андре́й Константи́нович На́ртов (1693—1756) – русский учёный, механик и скульптор, изобретатель токарно-винторезного станка с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колёс.
Ива́н Ива́нович Ползуно́в (14 марта 1728, Екатеринбург – 27 мая 1766, Барнаул) – российский изобретатель–теплотехник, создатель первой в России паросиловой установки.
Ива́н Петро́вич Кули́бин (10 [21] апреля 1735, Подновье, Нижегородский уезд – 30 июля [11 августа] 1818, Нижний Новгород) – русский механик-изобретатель из мещан, прозванный «нижегородским Архимедом».
Ефи́м Алексе́евич и Миро́н Ефи́мович Черепа́новы (отец Ефим (1774—1842) и сын Мирон (1803—1849), иногда ошибочно упоминаемые как «братья Черепановы»– русские промышленные инженеры-изобретатели. Известны тем, что построили первый паровоз и железную дорогу в России. Были родом из крепостных рабочих
4Пьер Жаке-Дроз, известный пионер часового искусства, родился в 1721 году в швейцарском городе Ла-Шо-де-Фон. Он стал искусным создателем анимированных часов с поющими птицами и фонтанами, музыкальных часов, а также гениальным мастером по созданию автоматических механизмов.
5Кунерсдорфское сражение 12 августа 1759 года – одно из наиболее прославленных сражений Семилетней войны (1756—1763).
6Сюр (жарг.), тоже, что и сюрреали́зм – направление в авангардистском искусстве XX в., объявившее своею задачей бесконтрольное воспроизведение сознания и особенно подсознания и – как следствие – породившее причудливо-искаженные сочетания и сращения реальных и нереальных предметов.
Глава 4 (1791 год июнь)
Помни, чтобы жить и радоваться,
надо всего две вещи: во-первых – жить,
а во-вторых – радоваться.
Шаг правой ногой, постановка правого костыля вперед так, чтобы протез, правая нога и правый костыль выстроились в одну линию. Шаг левой ногой с его постановкой на уровень правого костыля, постановка левого костыля вперед так, чтобы правая нога, левая нога и левый костыль выстроились в одну линию. И по-новой, на 4 такта…
Я уже вполне бодренько ковыляю на костылях. Ну, не то что бы совсем бодренько, но Степан, по крайней мере, перестал за меня бояться и опекать каждый шаг.
Конец июня в меру жаркий и сухой. Лето вообще обещает быть хорошим, настолько хорошим, насколько оно может быть в средней полосе России. Каждый день я совершаю прогулки, если моё шкандыбание на костылях можно назвать прогулками, по селу.
Всюду, куда бы я не направлялся, меня сопровождают, либо сам Степан, либо его племянник Филька. Хожу я обычно до кузни, там немного отдыхаю, смотрю за работой кузнеца, пью у него квас и отправляюсь обратно. Вечером дохожу только до церкви и обратно.
Медленно, чертовски медленно приходит умение ходить на протезах. Я, конечно, понимаю, что искусственные ноги, как бы хорошо и качественно небыли они сделаны, родные мне никогда не заменят, но как хочется стать обычным человеком. Воистину, мы замечаем блага только тогда, когда их теряем. Ведь как это здорово, просто идти!
Ещё в курсантские времена, когда нас выгоняли (а как ещё сказать? Сами мы бы вжисть бы не пошли) на марш-броски или кроссы, я старался занять мозги какой-нибудь мыслью. Бежишь себе, а голова сфокусирована не на том, когда же это кончиться, а на чём-нибудь приятном – на отпуске, на девушках… чаще на девушках. И бежать как-то легче. Вот и сейчас, переставляя ноги, удерживая равновесие я стараюсь думать о другом.
– Так, что у нас на сей момент в мире делается? Что нам подсказывает наша, прости Госплди, память? ....
– Центр мира сейчас конечно Европа. В Европе мы имеем … так сверху вниз: Норвегия, … она кажется сейчас голландская, дальше – Швеция с Финляндией. Финляндию мы у них ещё не оттяпали. Польша, или Речь Посполитая, но её, кажется, уже раза два разделили, …Или раз? … Но что-то ещё должно остаться. Австрия, которая сейчас империя, Швейцария уже нейтральная, … или нет? В Италии куча всякого, там сейчас чёрт ногу сломит, надо уточнять. Так, на запад пошли. Куча немецких лоскутных земель, всякие Бельгии, Люксембурги – чёрт его знает, есть ли? Франция, Испания, Португалия – эти на месте, ну, и Англия, куда ж без неё? Балкан по существу нет, вернее есть, но это всё Турция, вернее Османская империя, там же и Греция. … Н-да … Надо данные обновлять… …
– Что я могу изменить в этом мире, чтобы то будущее, которое после меня наступит, не воняло так кровью и дерьмом? И надо ли делать? Не будет ли хуже?
– В 18 веке власть ешё первична, а капитал вторичен. Есть власть, будут и деньги. В 21 же веке, даже если отбросить конспирологические теории заговора и всемирного закулисья, капитал вышел на первое место – есть деньги, будет и власть. Эта картина сложилась в мире где-то к середине 20 века, а может и чуть раньше. Можно что-нибудь сделать, чтобы её поменять? Вряд ли. Ротшильды, Барухи и Дюпоны уже есть. ....
Шаг, нога, вернее протез, наступает на камень, и я чуть не падаю. С трудом удерживаю равновесие. Филька меня сопровождающий, засмотрелся на девок, которые мне кланялись, и вряд ли бы успевал меня подхватить. Вот бы была картина маслом, если бы его барин растянулся на дороге.
– Смотри под ноги, балбес.
– Так о чём это мы? … Ах, да, о капиталистах. Так вот, если бороться с мафией нельзя, то надо эту мафию возглавить.
– Во всех консптралогических теориях всегда мелькали только еврейские и англосаксонские фамилии. А если в них появятся русские?
– Октябрьскую революцию в России готовили все – Ротшильды, Рокфеллеры, Вильгельм II, Ллойд Джордж и иже с ними. А будь силён капитал в России, да настолько, что нефтяные поля и нефтеперегонные заводы Грозного и Баку принадлежали бы не Нобелям, а Губониным, к примеру? (или Губонину там и так что-то принадлежало?) Да кроме этого и нефть в Дакоте и Оклахоме?
– Что бы что-то решить, надо знать подноготную существующей сейчас финансовой системы, причём мировой, ну или хотя бы европейской. Впрочем, это, наверное, сейчас одно и то же. А что ты знаешь сам об этом? Какие ключевые фигуры?
– Что-то слышал о Даниеле Ициге. Он вроде бы финансировал Фридриха II. Жив ли ещё?
– А получится ли это в России? В России нет, и не будет самовоспроизводящейся элиты по типу англосаксонской. Как только русская элита окончательно сформировывается, она тут же начинает деградировать. … Загадочная русская душа – русский бардак в рамках одной головы.
– А это ещё к чему в голову пришло?
– А вон уже и кузница показалась.
Шаг правой ногой, постановка правого костыля вперед. Шаг левой ногой, постановка левого костыля вперед.
У большой, по местным меркам, хаты стайка детишек лет пяти-шести играют в пыли. На меня уже не обращают внимание. Привыкли. А по началу вставали как вкопанные и таращились своими глазёнками – диво дивное, барин на тумбах идёт и под мышками у него какие-то рогатульки.
Как сделать резьбу без плашки или метчика? Как сделать саму плашку или метчик? Нет, с помощью токарно-винторезного станка я знаю как, а вот с помощью кувалды, клещей и напильника? А как сделать хорошие протезы?
Протез, на первый взгляд, изделие не сильно высокотехнологичное. Действительно, чего там умного-то? В моём детстве на нашей улице жил дядя Коля Говоров, ему под Варшавой в 45 оторвало ногу, так он ходил на протезе из металлической трубки. Но вот в Москве я как-то на дороге увидел инвалида, который ходил между машинами и ему охотно подавали деньги – от самого таза у него шёл протез, причём это уже была достаточно сложная конструкция. Парень этот, а это был ещё совсем молодой человек, ходил на этом протезе абсолютно нормально, не хромая и без костылей. Картинка была, надо сказать, та ещё – для того что бы лучше подавали протез не был задрапирован и создавалось впечатление, что между машин ходит гибрид человека и робота.
Естественно, мне хотелось ходить, да не просто ходить, а ходить и не хромать, поэтому требовался протез сложный, с шарнирной стопой. Первоначально я рассчитывал, что такой механизм мне сделает швейцарец этот – Дро, ну тот, который кукол движущихся делал, или ещё кто-нибудь кого пришлёт Екатерина Романовна. Уезжая, княгиня Дашкова обещала мне поискать сведений про этого Дро, или найти в столице мастера для изготовления протезов. Причём мастера, как я просил, понимающего толк в механике.
Но разрешилось всё проще.
Когда я поделился проблемой со своим управляющим, то он предложил мне попробовать решить её через местного кузнеца, который, как заверял Карл Иванович, может сделать буквально всё. Этакий местный Левша.
Кузнеца и звали Кузьмой. Вот как! Ведь Кузьма происходит, кажется, от греческого Космоса, что и означало кузнеца. Впрочем, моего кузнеца в деревне звали Кузяха.
Кузяха у меня появился сразу же на следующий день после разговора с Краубнером. Это был невысокий коренастый мужик средних лет с … окладистой, наверное, так это можно назвать, бородой не очень аккуратно постриженной.
О бородах надо сказать отдельно. Все мужики в деревне носят бороды. Разные бороды – жиденькие бородки, солидные окладистые, русые и чёрные, ухоженные и неухоженные. Исключение составляют только Краубнер, Максимович, впрочем, он не местный житель, ну и я – меня бреет Степан.
Здесь борода вовсе не дань моде, а просто итог полнейшего отсутствия каких-либо бритвенных принадлежностей.
Кузяха бороду имел вполне достойную, в меру ухоженную, но, на первый мой взгляд, впечатление умного и сметливого мастера не производил. Но это только на первый взгляд. Он сразу уловил суть задачи и сам сделал вывод, что главная проблема в изготовлении мне новых ног заключается в том, что стопа должна была быть сделана из специального железа, которое подпружинивало бы при ходьбе.
Протезы он делал месяц. Когда я увидел плоды его труда, то вначале подумал, что вряд ли смогу на них ходить, уж больно топорно сие выглядело. А уж когда попробовал встать на них, поддерживаемый, вернее висящий на плечах Степана и Кузяхи, то и вовсе решил, что эта затея гиблая. Но потихоньку культи ног начали привыкать. Сначала я только сидел в протезах, давая возможность привыкнуть обрубкам ног к контакту с кожей ремней креплений. Потом стал вставать на пять, потом десять минут. Ну и потихоньку, потихоньку… Вот уже почти два месяца хожу, если можно так сказать.
До кузницы ещё метров пятьдесят идти.
Одновременно с протезами я начал решать вопрос и с обучением крестьянских детей. Ну не то чтобы я решил из них создать команду своих помощников, а скорее исходя из того, что с чего-то преобразования в своём имении начинать надо. От каких-либо кардинальных изменений или новаторских прожектов по здравому рассуждению пришлось отказаться… Пока. Надо сначала понять, как здесь живут, а там видно будет.
По моей просьбе Краубнер подобрал дюжину (я сказал «дюжину», он и прислал двенадцать) ребятишек от десяти до четырнадцати лет. Причём одиннадцать были пацанами, а двенадцатая была девочка – внучка Паши Цурочкиной (то, что она внучка именно Паши и именно Цурочкиной, про которую я и слухом не слыхивал, сказала мне моя ключница Наталья) Шура. Мать её позапрошлой зимой умерла от чахотки (пошла бельё полоскать на речку, да в воду провалилась. Занемогла, занемогла, да и … Видимо умерла от воспаления лёгких), а отца ещё раньше деревом придавило.
Я просил Карла Ивановича, чтобы ребятишек он отбирал потолковей и добровольцев – тех, кто сам захочет учиться.
Вот он и отобрал! Почти все они оказались сиротами.
Первый мой урок состоялся 19 апреля – аккурат через месяц после моего…, а что,… наверное, после моего воскрешения.
Под класс я вначале определил мою гостиную, но потом решено было занятия проводить в людской – есть такая комната в доме. Причём решал это не я, а Степан, который после первого нашего занятия долго ворчал, что не гоже таскать в барский дом деревенскую пацанву. Пришлось пойти на компромисс.
– Всё что нас окружает, имеет своё название. Вот это – Я показал на стол, за которым сидели ребятишки – Называется столом. Это стул. Это окно. Всё, всё имеет своё название. К этому мы привыкаем с самого нашего рождения и знаем, как называется потому, что так это называли наши пращуры. И когда мы говорим друг с другом, то знаем, что то, что мы говорим, может себе представить и наш товарищ. Но это когда мы друг с другом разговариваем, а вот если нам надо сообщить в соседнюю деревню какую-нибудь новость? Ну, скажем, мне нужно что-то сообщить шаблыкинскому помещику. Как быть? Сам-то я туда не дойду. Можно, конечно, передать со Степаном или с кем-нибудь из вас. Но, а вдруг вы забудете, что я говорил, или что-то перепутаете? Тогда что?
– Тогда нас выдерут. – Подал голос белобрысый малец, кажется внук Мунюхи – той старухи, чья хатёнка стояла возле погоста. Мать его умерла родами, а отец в прошлом году утонул. Вот как в нашей Навле можно утонуть? Вот наверняка ж пьяный был. А пацан теперь сирота.
– И что потом? Ну, выдерут, а ведь информация, которую я передавал шаблыкинскому помещику, до него не дошла. Мне от того что вас выдрали, легче-то не станет. Так вот, люди для этих целей придумали письмо. То есть, слова стали записывать на чём-нибудь определёнными рисунками.
– На чём чём-нибудь? – Опять этот белобрысый.
– Ну, вначале это было на глине. Делали из глины такие…э-э-э… пластинки… тонкие кирпичики, на них писали, а потом эти кирпичики обжигали. Но это было очень и очень давно. Наши с вами пращуры писали на бересте. А древние китайцы придумали бумагу. Кто такие китайцы, я потом вам расскажу. Так вот. Э-э-э… О чём это я? Да, так вот. Рисовали слова. Прямо так и рисовали. Ну, например, надо передать, что корова идёт – рисовали корову и ноги. Но ведь не каждый умеет рисовать. Другой нарисует, что не поймёшь, то ли корова, то ли лошадь. Чтобы упростить рисование слов, были придуманы буквы. То есть, каждое слово состоит из звуков. Та же корова состоит из шести звуков сиречь букв: К, О, Р, О, В и А. Ко-ро-ва.
– А чем же это проще? Корову одну нарисовать, а букв целых шесть. – О как, значит считать умеет. А это уже Черняя сын, Кузька, кажется. Вот же, блин, твою танковую дивизию. Но отвечать-то надо.
– Рисунок коровы тоже не из одной чёрточки состоит… Э-э-э… В общем, когда вы научитесь читать и писать, поймёте сами, что так удобнее. И так. Начнём изучать буквы. И, пожалуй, начнём с коровы.
Интересно, кто мне сказал, что у меня есть педагогические способности? Макаренко, блин. Проще было батюшку припахать. Пусть бы нёс в паству светлое, доброе, вечное, а лучше ещё и полезное… … Ему это и по штату положено.
Про батюшку отдельная песня. Отец Ануфрий, настоятель нашей церкви, фигура колоритнейшая – поп, как их рисовали в той моей жизни на антирелигиозных плакатах – маленький, толстенький, хитренький, но при ближайшем знакомстве оказался человеком не глупым и добрым. Лет ему было э-э-э…, в общим, муж сей был уже в летах.
Он пришёл ко мне после отъезда Дашковой и Максимовича. Как я позднее понял, княгини он отчего-то побаивался (или, может быть, сторонился).
И начал с того, что все мы, рабы божьи, должны смиренно принимать все, что Господом ниспослано, что моё увечье, это испытание силы духа моего и веры моей, и, что в церковь надо бы придти, да исповедаться, глядишь, Всевышний смилуется и поможет. Видимо так он хотел меня подбодрить.
Ну, с той частью тезиса, что это испытание силы духа, я, пожалуй, даже согласился…
– Мне, Батюшка, мнится сие несколько иначе. Бог, когда создал Адама и Еву, создал детей себе. Де-тей! А не рабов. Поэтому говорить, что «я раб божий», не совсем корректно. Бог отец наш, а мы все его дети. Мне чтобы разговаривать с отцом моим небесным не надо никуда ходить. Он всегда со мной.
– Александр Фёдорович, в святом писании сказано…
– Простите, Батюшка, что перебиваю. Все писания писали люди. Писали, переписывали, переводили на другие языки, опять переписывали. Текст библии, которую Вы держите в руках, переводился только на наш язык, по меньшей мере, дважды, а переписывался и вообще не знаю сколько раз. … Вот скажите, Батюшка, как совместить тот факт, что бог есть добро и любовь, с тем, что в мире существует зло? Ведь бог не мог создать зло – он всеблаг. Значит, оно возникло вне его воли, как-то само, а бог не может его уничтожить?
Отец Ануфрий, улыбнулся, прищурил один глаз и с хитринкой такой на меня посмотрел, мол, мал ты ещё вьюнош меня на таких вещах ловить.
– Нет, Александр Фёдорович, Господь наш зла не создавал, но он создал человека, которому дал часть себя – душу, то есть свободу, возможность выбирать, творить, думать, чувствовать добро. А вот сам человек, хотя образ и подобие Господа, он не равен ему, то есть несовершенен. Поэтому людям свойственно ошибаться, неверно распоряжаться своей свободой. … Что сделали первые люди, получив свободу? – Вопрос как бы ко мне не относился, и я промолчал. Батюшка видимо тоже решил меня не экзаменовать, и ответил сам. – Нарушили заповедь Господа о невкушении плодов с дерева познания добра и зла. … Вы же знаете, что Бог, обустроив вселенную, создал человека и поселил его в особом саду – Раю, в «Эдеме на востоке». – Это «вы же знаете» вызвало у меня подозрение, что о моей амнезии уже знают не только Дашкова и Максимович. … Н-да. … Между тем, он продолжил. – Человеку надлежало «возделывать и хранить» этот сад. Но Диавол, будучи клеветником и завистником, возжелав навредить человеку и разрушить Богочеловеческий союз, подступил к жене, и, заведя разговор, вложил в её сердце коварную мысль: «знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». С грехопадением зло вошло в мир, и теперь люди должны сами преодолеть это созданное ими зло и вернуть себе Эдем, а Бог нас только тихонько направляет.
А Батюшка-то, не так прост. Уел.
– Спасибо, что разъяснили, Батюшка. А то эта мысль мне не давала покоя давно. Получается, что не Бог нам посылает зло для испытания духа нашего, а мы сами, вопреки воли Божией, творим всё то зло, что есть на земле? Таким образом, весь путь человечества обретает смысл – люди идут от зла к добру, преодолевая в себе греховность. Цель – Царство Божие на Земле.
– Истинно так. Грех и зло существуют, но существуют не как Божьи творения, а как то, что создано не Богом и как то, что мешает видеть Божье творение, заслоняет его собой.
Наша беседа продолжалась около часа. Расстались мы с ним хорошо. Он меня уважает, пока не знаю за что, и я его уважаю, за то, что он пошёл к умирающей старухе в Глинки (это ещё оказывается одна моя деревня) зимой в мороз пешком (это мне моя ключница Наталья рассказала) и чуть сам не замёрз.
Сейчас отец Ануфрий снабжает меня книгами. Книги все конечно религиозные, но хоть бы по ним разобраться с современной грамматикой.
Вот познакомился с Екклесиастом… или Екклесиа́стой? Как правильно? Я вообще раньше думал, что Екклесиаст – это какой-то древнегреческий философ. Гм, оказывается – это книга, ветхозаветная книга, а автор её чуть ли ни сам царь Соломон.
«И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех их».
Попасть в нужное время в нужное место, вот так! В прошлой жизни у меня было всё наоборот – я очень часто попадал в ненужное время в не то место. Да и сюда попал…
– Шаг правой ногой, шаг левой ногой.
– Ну, вот и кузня.
Присев на лавку у стены, я стал расстёгивать ремни правого протеза – что-то беспокоило культю при ходьбе.
Деревенская кузница, или, как говорили все, кузня была обыкновенным бревенчатым сараем с большими двустворчатыми дверьми-воротами, только крытым не соломой, а досками. Из открытых по причине летней поры дверей-ворот доносилось мерное постукивание.
Интересно, а где он берёт железо?
Кузяха меня не видел, но через минуту стук прекратился, кузнец вышел наружу и с поклоном со мной поздоровался. Так было всегда. Ну, вот как он угадывал мой приход, ведь ни Филька, ни я, ни даже Степан, когда меня сопровождал, в кузню не заходили, единственное окно было с другой стороны, а двери сбоку?
– И тебе здравствовать, Кузьма – Я всегда называл его полным именем, а не деревенским прозвищем – Как жена, ребятишки?
– Всё слава Богу, Лександр Фёдорович. – Этот обмен любезностями уже вошёл в ритуал. – Как протёзы? Ремни не натирают? – Он почему-то всегда говорит «протёзы».
– Натирают, но что делать, надо привыкать. Новых ног уже не вырастит…
– Да уж, … ну ничего, ничего, как попривыкните, мы получше сварганим. Квасу?
– Пожалуй, будь добр.
Напившись квасу, я приступил к главной теме моего, если можно так сказать, визита.
– Кузьма, ты грамотный? – По растерянному взгляду кузнеца я понял, что сия фраза поставила его в тупик. – Ну, читать-писать умеешь?
– Так, знамо дело, малёхо могём.
– А где научился?
– Так, знамо дело, батюшка с нами грамоту проходил – я же служкой при храме состоял, когда малой был.
– А чем вы писали?
– Так перьями писали, гусиными. Батюшка и сейчас ими пишет, когда кто родится, али помрёт.
– Ага, то есть ты в теме.
– Я где?
– Э-э-э.... ну, то есть ты имеешь представление о процессе написания букв на бумаге?
Кузяху заклинило. Нет, он не был туповатым или тугодумом, как раз наоборот – ум имел хваткий, даже острый, просто эта тема лежала не в плоскости его обыденных интересов. Я думаю, что если он и читает Псалтырь своим ребятишкам зимними вечерами, то писать ему просто некому, и письмо находится на последнем месте его жизненных интересов. А вот мои интересы столкнулись с тем, что писать я как раз и не могу.
Третьего дня (о, уже стал фразы строить, как здесь принято – третьего дня, значит – позавчера) я получил письмо от Максимовича. Надо писать ответ, а чем? Гусиными перьями?! … Я попробовал – хуже, чем у меня же в первом классе – на пару фраз письменного текста 8 клякс. А ещё эти яти! Где их ставить? Нужно изобретать металлическое перо, то есть, изобретать перьевую ручку. Ну что в ней такого гениального и технологичного? Ща изобретём!
Ага, аж два раза!
Кузяха долго рассматривал мой рисунок, мял бороду.
– Нет, Лександр Фёдорович, не сделаю я такого. Здесь тонкая работы нужна. Я такое не смогу.
Шаг правой ногой, шаг левой ногой.
Шкандыбаем обратно.
Отрицательный результат, тоже результат. Будем искать ювелира.
У первой от кузни избы сидит на завалинке бабка. Старая, старая. Сидит, опираясь на клюку, и смотрит на меня слезящимися глазами. Скорее всего, она меня не видит.
Что-то как-то грустно стало. И эта бабка, и девки, идущие от речки, и эти пацана, копошащиеся в пыли – это моя жизнь! Теперь моя жизнь.
Где-то читал про гипотезу, что человеческий мозг, умирая, в конвульсии генерирует видения, определяемые подсознанием. У человека верующего эти видения могут предстать в виде рая или ада, или чего угодно другого, что он ожидает увидеть после смерти. И видение это, хоть, наверное, и длится всего секунду, в искаженном преломлении конвульсирующего мозга может восприниматься как вечность…, или как вот эта жизнь?
– Помнишь, в интернете как-то появился ролик про обезьянку без трёх конечностей? У неё осталась цела только правая передняя лапка, но она умудрилась на ней ходить. На одной! А ты человек! Иди и не ной!
– Шаг правой ногой, шаг левой ногой.
С детишками я занимался каждый день часа по три. Постепенно и я и они в этот ритм втянулись и нам …, ну мне, по крайней мере, сей процесс начал уже нравиться. Причём процесс обучения шёл обоюдно. Через неделю занятий я про всех уже всё знал. Причём, «про всех» – это именно про всю деревню.
Надо отметить, что Краубнер, подобрал действительно толковых пацанов, а девочка оказалась просто …, даже слов не подберу – ребёнок через две недели после начала изучения алфавита уже читала Евангелие (кроме церковных других книг у меня пока нет).
-А за какое время ты сам научился читать?
– Не помню.
– А за какое время вообще учатся читать?
– Не знаю.
– Левый костыль вперёд, шаг, правый костыль вперёд, шаг.
– Так, голуби мои, напишите в верхнем правом углу листа свою… Э-э-э… – А фамилий-то у них нет. – Своё имя и прозвище… Написали? Нарисуйте на бумаге круг и поставьте точку.
Вот так, нет фамилий в привычном мне понимании.
– А где точку ставить?
– Где хотите.
Дисциплинированные люди помещают точку в центр круга. Более беззаботные люди ставят точку где-нибудь в кругу, но не в центре. Чем ближе точка к краю, тем рискованней человек. Редко, но все же случается, люди помещают точку на линию. Интересно… как будто нет другого места на листе! Это люди, предпочитающие сами устанавливать правила. Сильные личности помещают точку вне круга, где-нибудь на странице. Очень немногие переворачивают страницу и ставят точку на другой стороне бумаги. Это может быть признаком гения. …
– Что же имеем мы? … Та-а-ак. Оба-на! Аж два гения!? Кто это? Ага, Шурочка (это ожидаемо, девочка проявляла недюжие способности) и … Чеботок? А где он сидит? Да нет, не рядом с Шуркой. Гм… Прежде ничем таким-эдаким не отличался. Любопытно. Сильных личностей … одна. Кто это? Егор Мунюхин. Ну, это тоже ожидаемо. А вот, что на линии поставили точки пять человек, это интересно… Кто? Так… – Иваняка, Мирошка, Черняй, Селютка, Калина.
– Александр Фёдорович, а можно вопрос? – О! Неформальный лидер уже проявился.
– Валяй.
– А для чего это мы рисовали?
– Не скажу. Вернее, скажу, но тогда и тому, кто мне докажет, что я вас учил зря, … или наоборот, не зря.
– Это как?
– Потом поймёте. А сейчас я хочу рассказать вам одну историю. И очень хочу, чтобы вы её запомнили. … Однажды осёл одного крестьянина провалился в глубокий колодец. Кто такой осёл, вы знаете. Я его вам на рисунке показывал.
– Эта такая маленькая лошадь с заячьими ушами?
– Да. … Ну, так вот. Пока хозяин думал, как ему поступить, несчастное животное начало издавать жалобные звуки. Наконец крестьянин принял решение, что осёл уже старый, а колодец нужно было все равно закапывать в любом случае. И показалось ему, что не стоит тратить тех усилий ради того, чтобы вытаскивать оттуда старого осла. Он пригласил своих односельчан помочь ему закопать колодец. Все дружно взялись за лопаты и принялись энергично забрасывать землю в колодец. Осёл сразу же понял, к чему идет дело, и начал издавать страшный визг. Затем, к всеобщему удивлению, визг прекратился. После нескольких очередных порций земли, брошенных в колодец, крестьянин решил проверить и посмотреть, как там внизу. И он был крайне изумлен тем, что он там увидел. С каждой новой лопатой земли, падавшей ему на спину, ослик проделывал что-то совершенно невероятное – он отряхивался и становился поверх сброшенной земли. Пока соседи продолжали забрасывать землю в колодец, животное каждый раз отряхивалось и становилось поверх упавшей сверху земли. Очень скоро все удивились, потому что увидели, как ослик поднялся наверх, перепрыгнул через край колодца и умчался вдаль, как угорелый! … В жизни вас будет встречать много всякой грязи, и жизнь будет посылать вам всё новую и новую порцию. Но всякий раз, когда на вас упадет новая порция земли, встряхнитесь и поднимайтесь наверх, и только так вы сможете выбраться из жизненного колодца. … Если не останавливаться и не сдаваться, то можно выбраться из самого глубокого колодца. Отряхнитесь и поднимайтесь наверх!
Глава 5 (1791 год июль)
Друзей не нужно иметь, с ними нужно дружить!
Вошедший молодой человек учтиво, но без подобострастия, мне поклонился, и представился – Меня зовут Николай Штиглиц1, я привёз Вам письмо от Нестора Максимовича Максимȯвича. – И подал мне, свёрнутые в рулон бумаги.
Штиглиц, Штирлиц – немец? … Среднего роста, плотный, глаза карие, крупный нос, выбритый подбородок, про такие подбородки говорят – волевой.
Говорил вошедший с акцентом, … но акцент был какой-то интересный. В русском языке согласные можно произносить твердо и мягко, немецкие согласные в отличие от русского языка всегда произносятся твердо. Это придаёт немецкой речи резкость, русская же речь звучит плавно и несколько напевно. Штиглиц говорил с явным немецким акцентом, но … как-то не так.
Прибалт?
Во время одной из наших бесед с Максимȯвичем я упомянул о том, что эффективнее лекарства вводить сразу под кожу больному, то есть делать внутримышечные инъекции, но для этих целей необходимо специальное устройство. Я сказал, что таким способом лечат больных в Китае. Про Китай я конечно придумал в надежде на то, что Нестор Максимович ничего не знает о китайской медицине. Оказалось, что так и есть …, ну или почти, так и есть – в медицинском сообществе всё же ходили какие-то разговоры о китайских способах врачевания, но и только. Зато о шприце, вернее инъекторе, Максимȯвич знал. Что-то такое, оказывается, изобрёл ещё Паскаль в прошлом веке,прошлом – естественно семнадцатом. Но, как всегда, или, как очень часто бывало, современники не оценили, а потомки забыли. Максимȯвич хоть и помнил об этом, но значения никакого не придавал. Когда мы стали развивать эту тему, он вспомнил, что Гиппократ использовал для этих же целей полую трубку, к которой приделал мочевой пузырь свиньи, да и сейчас понятие об этом есть и некоторые врачи используют для инъекций птичье перо. Он долго и задумчиво рассматривал мой рисунок шприца и попросил взять его с собой.
Вот приезд этого молодого человека я и принял за продолжение нашей той беседы. Шприц устройство не технологичное …, вернее, технологии конца восемнадцатого века уже позволяют его изготовить. Я решил, что мой визитёр, наверное, механик, как здесь называют всех, кто может сделать из металла своими руками что-то сложнее подковы, но я ошибся.
Предложив гостю присесть и распорядившись, что бы нам накрыли обед (время как раз к нему подходило), я прочёл письмо Максимȯвича, предварительно извинившись перед моим визави.
Это было не первое его письмо, и я уже привык и к почерку, и к манере строить предложения, и к ятям с ижицами, правда, сам так толком и не умею их правильно ставить в словах.
Нестор Максимович писал мне, что просит принять и побеседовать с сим негоциантом, который, по его мнению, может быть мне полезен в моих делах.
Гм, действительно, в последнем письме ему я жаловался на то, что хоть и имею кучу идей по преобразованию быта моего имения, но не имею толковых и грамотных исполнителей. Но не это главная проблема, главная – у меня нет человека, который смог бы организовать реализацию моих идей, так как сам я физически неполноценен (я так и написал – «физически неполноценен»). И вот мой дорогой доктор озаботился этим вопросом и предлагает мне рассмотреть на это роль этого молодого человека.
– Николай … э – э – э, прошу прощения, Как Вас по батюшке?
Штиглиц на мгновение замялся (или запнулся, или задумался).
– Моего отца зовут Лазарь.
Н-да. … Вопрос о национальности сразу отпадает – никогда не слышал про немцев с именем Лазарь. Правда, и не припомню немцев Николаев.
– Стало быть, Вы – Николай Лазаревич, … несколько …, э – э – э …
– Согласен, громоздко для русского языка, поэтому, называйте мня просто по имени.
– Ну что ж, в таком случае и Вас тоже прошу меня называть по имени. Согласитесь, что доверительность в разговоре всегда способствует доверительности в отношениях.
Штиглиц молча согласился, просто и открыто улыбнувшись.
– Вы из германских земель? У Вас немецкий акцент.
– Да, из Арользена2, мой отец казначей князя Фридриха Карла Августа3.
Честно сказать, ни про Арользен (ладно хоть с Германией угадал), ни про князя Фридриха Карла Августа я никогда не слышал. Впрочем, Карлов, Фридрихов и Августов в человеческой истории было достаточно.
– Простите за любопытство, но что могло привлечь сына казначея целого княжества в российской провинции?
– Немецкая провинция тоже имеет свои прелести. – В голосе послышалась лёгкая ирония. – В нашей семье шестеро детей, я старший. Наше же, как Вы изволили сказать, целое княжество – клочок земли на западе тоже далеко не бесконечных германских земель. Здесь же, в России, другие масштабы и другие возможности. Мы с отцом посчитали, что здесь у вас есть больше шансов для меня реализовать свои знания и способности.
– Давно Вы в России?
– Три года. Я занимаюсь винными откупами в Херсонской губернии.
– Простите за любопытство ещё раз, но чем Вас заинтриговал господин Максимȯвич, что Вы решили навестить меня, проделав не малый путь в нашу глушь? Ни я, ни мои соседи, насколько я знаю, винокурением не занимаются.
Штиглиц, мне показалось, был несколько озадачен.
– А что Вы, Александр, знаете о винном откупе?
– Ну, …гм, да … оказывается ничего.
– Откуп, если строго трактовать этот термин, есть система сбора налогов, при которой государство за определённую плату передаёт право их сбора частным лицам, то есть откупщикам. Императрица Екатерина учредила в 765 году комиссию для рассмотрения винных и соляных сборов, высказавшуюся исключительно в пользу откупа. С 767 года откупы введены в империи повсеместно с отдачею их с торгов на 4 года. Вино мы частью получали от казны, частью можем иметь своё, но с 81 года по «уставу о вине» вино для нас заготавливает казенная палата с казенных заводов или сзаводовчастных людей, смотря по тому, что выгоднее. – Интересно, говорит он хоть и с акцентом, но предложения строит грамотно. Это он за три года так в русском языке поднаторел?! – Служба откупщиков признана государственной, поэтому мы называемся – «коронные поверенные служители». С учреждением казенных палат в 1775 году местное заведование питейным делом поручено нам. Это, что касаемо моей деятельности… А на Ваш вопрос … – Штиглиц немного задумался. – Я обратился к господину Максимȯвичу по поводу головных болей, которые меня одно время беспокоили. Надо признать, Нестор Максимович мне очень помог. Во время одного из визитов к нему я увидел странный прибор – стеклянную трубку с поршнем внутри и заканчивающуюся полой иглой, которым доктор вводил лекарства прямо под кожу больному. Нестор Максимович объяснил мне, что сей прибор, он называл его – инъектор, придумали Вы, причём, обратил внимание, что Вы не врач. Мне стало интересно, как человек, к медицине не имеющий отношения, сие мог придумать? А тут у меня появилась оказия – здесь недалеко – в двадцати пяти верстах, в Карачеве появилось у меня одно дело, вот я и попросил доктора рекомендовать меня Вам. Нестор Максимович, в свою очередь, ещё больше подогрел моё любопытство, когда сказал, что у Вас есть несколько прожектов, и Вы ищите пути их воплощения.
– Любопытно, значит, Максимȯвич сделал-таки шприц! А мне вот не написал.
– И что? Скорее всего, этот инъектор проходит, так сказать, испытания, и Нестор Максимович не совсем уверен в успехе. Уж в его порядочности грех сомневаться.
– Что ж, спасибо за визит. В нашей глуши любой гость – событие, а уж в моём положении так дар свыше. О моих прожектах поговорим чуть позже, с Вашего позволения, а сейчас не изволите ли отобедать? Нам накрыли стол в саду. Прошу не побрезговать.
Я встал и, опираясь на палку, сделал жест, приглашая Штиглица следовать за мной. Он с любопытством смотрел на мои передвижения, но ничего не говорил.
Я уже достаточно хорошо передвигаюсь на протезах. Не так хорошо, как хотелось бы, но всё-таки уже без костылей, хотя палкой для уверенности в ходьбе пользоваться приходиться.
Штиглиц прогостил у меня три дня.
В первый день мы с ним проговорили чуть ли не до петухов. Я изголодался по нормальному общению. После отъезда Максимȯвича мне не с кем было нормально поговорить. Мой управляющий рассказывал мне о проблемах имения, видах на урожай, Степан – о деревенских слухах. Всё это было интересно … для общего развития, но вводило меня в такую тоску, что я начал понимать Обломова. Мои разговоры с отцом Ануфрием не шли далее религиозных тем. Батюшка всё пытался направить меня, по его мнению, на путь истинный, я же, в свою очередь, старался выработать у него более критический взгляд и на религию, и на церковь.
Приезжал ко мне пару раз сосед мой и дальний родственник – шаблыкинский помещик Киреевский Василий Николаевич, муж, безусловно, достойный, но все его интересы тоже не выходят за рамки охоты (в которой я, кстати, ничего не смыслю) и сплетен о соседях, которых я тоже не знаю.
И вот, действительно интересный человек. К моим проектам по преобразованию имения он отнёсся внимательно, но без … азарта, что ли?… А вот идея об организации какого-нибудь технологичного производства его заинтересовала.
Вариантов было несколько.
– Ещё Леонардо да Винчи использовал в своих изобретениях опоры качения. Есть его рисунок устройства, состоящего из двух колец, внутреннего и внешнего, посреди которых размещены вращающиеся шарики. Это устройство он называл подшипник. Лет десять назад в Англии построили ветряк, в опоре которого установлено такое устройство – две чугунных дорожки качения, между которыми находится 40 чугунных шаров. Такие устройства, установленные в колёсах, блоках, везде, где что-то крутится, способны сделать настоящую техническую революцию и двинуть прогресс вперёд семимильными шагами.
Тирада по поводу технической революции и семимильных шагов прогресса была, может быть, чересчур – Штиглиц ведь не инженер, но он, мне кажется, проникся.
Что требуется для начала производства? Да пустяк – маленький чугунолитейный заводик, мастерские, мастера литейщики и деньги, деньги, деньги…
– Чем сейчас освещают помещения в тёмное время? У крестьян обычно используются светцы, в которых горят лучины. У горожан-ремесленников – железные подсвечники, в которые вставляются сальные свечи. У тех, кто побогаче – уже используются восковые свечи. Реже в быту применяются лампы-масленки. У бедных слоёв, кроме сальных свечей, издавна используются плошки и жировки, наполненные жиром, в которых плавает зажженный фитиль. В «Журналь де Саван», кажется за 1765 год, я читал про парижского аптекаря Квинке, который приспособил над светильней стеклянный цилиндр. Кроме того, в «Новых Ежемесячных сочинениях» за прошлый год, я прочитал «Известия о втором путешествии доктора и коллежского советника Лерха в Персию». Вот, что он пишет: – Я раскрыл заранее принесённую шпаргалку в виде потрёпанного журнала, который мне любезно прислал месяца два назад Нестор Максимович. – «Нефть не скоро начинает гореть, она тёмно-бурого цвета, и когда её перегоняют, то делается светло-жёлтою. Белая нефть несколько мутна, но по перегонке так светла делается, как спирт, и сия загорается весьма скоро и светит зело ярко.» Я попытался пофантазировать на эту тему и придумал вот такой светильник. – Я показал Штиглицу рисунок самой простой керосиновой лампы. – Светильник на основе сгорания керосина – так называют продукта перегонки нефти, то, что Лерх называет белой нефтью. Конструкция керосиновой лампы примерно та же, что и конструкция лампы масляной: в емкость заливается керосин, опускается фитиль, другой конец фитиля зажат поднимающим механизмом в горелке, сконструированной так, чтобы воздух подтекал снизу. Разве что горелка в керосиновой лампе находится выше резервуара с горючим, так как керосин легче масла и легко впитывается фитилем. Сверху горелки устанавливается ламповое стекло – для обеспечения тяги и для защиты пламени от ветра.
Вот керосиновая лампа заинтересовала Штиглица уже серьёзно. Он не инженер, но он делец. И как настоящий делец имеет чутьё на то, что может быть выгодным. И если выгода от подшипников ему неочевидна, то здесь, видимо, он почувствовал что-то, что может стать весьма прибыльным.
Для внедрения в жизнь сего хай-тека тоже нужно самую малость – нефтеперегонный заводик, стеклодувный заводик, мастера и деньги, деньги и опять деньги.
Деньги?
Гм, деньги. Оказывается, указом Её Императорского Величества от 17 ноября 1775 года во всех губернских городах учреждены Приказы общественного призрения, получившие право приема вкладов под проценты и выдачи краткосрочных ссуд под залог недвижимости.
Правда, ключевое слово здесь для меня – краткосрочных.
Есть ещё вариант. В 1786 году на базе Петербургского и Московского заемных банков для дворянства учреждён Государственный заемный банк для выдачи долгосрочных ссуд под залог определенных видов недвижимости дворянам и городам. Этот банк организован для содействия дворянскому землевладению, «дабы всякий хозяин», как сказано было в манифесте по поводу учреждения банка, «Был в состоянии удержать свои земли, улучшить их и основать навсегда непременный доход своему дому».
А вот рисунок пера Штиглиц рассматривал долго. Если подшипник и керосиновая лампа всё-таки, какая ни есть, но физика – теория трения качения, теория горения, то простое перо для письма понятно для любого, кто умеет писать.
Штиглиц уехал вчера. Через пару часов после его отъезда полил дождь. Хороший такой летний дождь с грозой. Захватил его, видимо, в дороге. Вряд ли он успел до Карачева доехать – двадцать пять вёрст, всё-таки. Наверное, в Вельяминово был в это время. … И льёт до сих пор.
– Утро уже не раннее, а в комнате пасмурно, как и на улице…
– На какой улице? Нет здесь никаких улиц.
– Вставать не хочется.
Я отдал Штиглицу рисунки пера, подшипника и керосиновой лампы. Хотел ещё и чертёж велосипеда, но передумал – он и так на меня смотрит как на какую-то диковинку, хотя я всё время старался подчеркнуть, что все эти прожекты не мои изобретения, а плоды когда-то где-то чего-то прочитанного. Только не помню где и когда.
И ещё очень старался следить за словами. Перлы типа «не парся», «забей», «твою танковую дивизию» были бы странны. Особенно про «танковую дивизию». Я тут, было дело, сорвался на уроке со своими пацанами и выдал про танковую дивизию, потом пришлось объяснять, что имел в виду «танькину дивизию» – ну присказка у меня такая. Теперь в деревне новое ругательство, сам слышал – мужик погоняет лошадёнку и орёт: «Но, пошла, твою танькину дивизию».
Сможет ли Штиглиц претворить мои прожекты в материальное воплощение? … Поживём – увидим. Особенных преференций я не жду. Этот хай-тек через пятьдесят-сто лет и так войдёт в обыденную жизнь, хотя сделать все эти вещи и сейчас не так сложно. Меня от оптимизма удерживает только то, что и картофель уже в мире известен, и в Россию уже давно завезён, а у меня в имении никто о нём не знает, даже Карл Иванович. Нда, каждому овощу – свой срок.
А вот насчёт долгосрочной ссуды надо подумать.
Проблема в том, что ехать надо в Петербург. Нет, можно и в Москву, но в Питере есть Дашкова, и на её протекцию можно надеяться. В Москве я просто мелкопоместный дворянин, а в Питере – я крестник директора академии…
– А ты не преувеличиваешь возможности Екатерины Романовны?
– Нет, не преувеличиваю – я их просто не знаю, но в любом случае, авторитет княгини выше, чем поручика, даже если это сам поручик Ржевский.
– Надо вставать. Дождь, вроде бы, кончается. По крайней мере, капли под окном стали реже стучать.
– Ладно, ещё минутку.
Вчера вечером, уже когда шёл дождь, опять занимался со своими пацанами. Три дня пребывания у меня Штиглица были для них выходными.
На каникулы я их не отпускал. Нет, я понимаю, что лето год кормит, что им в семьях помогать надо, тем более, что семьи их состоят в основном из бабок, в лучшем случае с дедами. Но два часа вечером погоды не сделают. Кроме того, я их кормлю. Весной, пока не начались работы, мы занимались до обеда два-три часа, пока я не уставал (или пока мне не надоедало), потом они у меня обедали – кухарка моя Матрёна (по-деревенски – Мотря) накрывала для них там же, где и занимались – в людской. Теперь, летом мы занимаемся под вечер, а потом они у меня, или вернее, у Мотри, ужинают (Мотря говорит – вечерят).
Учу я их без какой-либо системы, потому как сам никаких систем не знаю. Просто учу грамоте, счёту и всему на что есть у меня в этот момент настроение.
– Вот что я вам расскажу, соколики мои. Далеко, далеко на востоке есть такая страна – Китай. Очень древняя страна, её история насчитывает четыре тысячи лет. Так вот, жил в этой стране великий стратег Сунь Бинь4. Нечего смеяться, наши имена для них тоже смешно звучат. Этот Сунь Бинь придумал такую штуку – стратагему, по-нашему будет военная хитрость. Эта стратагема звучит так: «Если становится очевидно, что выбранный курс ведёт к поражению, следует отступить и перегруппироваться. Когда проигрываешь, остается только три варианта выбора: сдаться, добиться компромисса или сбежать. Первое – это полное поражение, второе – поражение наполовину, и только бегство поражением не является. До тех пор, пока ты не разбит, у тебя ещё остается шанс…». – По глазам вижу – ничего не понимают. – Пожалуй, я немного о нём расскажу. Сунь Бинь был советником одного военачальника, по-нашему скажем, воеводы. Этот воевода часто любил биться об заклад с …князем, чьи лошади лучше и регулярно проигрывал. Однажды за ним последовал Сунь Бинь. Он знал, что лошади его воеводы уступают лошадям князя. Но и лошади воеводы, и лошади князя делились на три категории: хорошие, средние и плохие. Когда вновь начались скачки с тремя последовательными заездами на трех лошадях различных разрядов, Сунь Бинь посоветовал воеводе, чтобы тот сначала выставил плохую лошадь против хорошей лошади князя, хорошую лошадь против средней княжеской лошади и, наконец, среднюю лошадь против плохой княжеской лошади. Воевода последовал этому совету и в результате один лишь раз потерпел поражение – его слабая лошадь проиграла хорошей княжеской; однако он два раза выиграл, поскольку хорошая лошадь победила среднюю княжескую, а его средняя лошадь пришла впереди плохой княжеской. Победив в двух заездах из трех, воевода выиграл в бегах и получил хороший куш.
– Хитрый дядька. – Вставил свой пятак Егор.
– И так, голуби мои, приступим к очередному этапу вашего обучения.
– Так мы голуби или соколики? – Это я просто проигнорировал.
– А учить я вас буду вот чему. Жизнь, она, в общем-то, штука простая, но бывает, загоняет в самые тёмные углы, где и жить-то невозможно, а просто надо выжить. И ситуации бывают такие, что только быстрые, причём очень быстрые и решительные действия могут спасти эту самую вашу жизнью. Поэтому мы начнём учиться…э-э-э… наносить ущерб противнику максимально быстро и максимально эффективно.
– Понятно, будем учиться драться.
– Я, когда-нибудь, Егор, выполню своё обещание и прикажу тебе всыпать на конюшне, что бы ты старших не перебивал.
– И Вам станет легче?
– Может быть. Но твоей заднице точно не будет хорошо.
Послышалось ехидное хихиканье.
– Всё, прекратили балаган. Нет, мы не драться будем учиться. Будем учиться убивать. Убивать врага. Я подчёркиваю, врага. Мир не совершенен. Люди для своих корыстных целей порой способны на самые мерзкие поступки. Поэтому я хочу вас научить действовать в ситуациях, когда вам или вашему окружению будет грозить смертельная опасность… … Человек, существо сложное. Бывает, его всего уже изрубили, а он всё равно жив остаётся. Как я, например. А бывает, один раз рукой ударили, и то не очень сильно, а человек богу душу отдал. Почему так? Дело в том, что в первом случае, как не рубили человека, а жизненно важные органы не задели. А во втором, как раз на оборот. Один, не сильный, но достаточно точный удар попал в нужную точку, и у вашего врага остановилось сердце. В силу своего возраста и статуса вы пока не можете иметь оружие. Под словом статус, я подразумеваю опять же ваш юный возраст и социальное положение. Вы не дворяне, и шпаги и пистолеты вы иметь не можете. Стало быть, что? … Стало быть, вы должны научиться убивать голыми руками.
– А зачем нам это на голубятне?
– Почему на голубятне?
– Ну, Вы же нас голубями называете, значит, живём мы на голубятне. А что нам тут с Вами может угрожать?
Ага, у Чапая все чапаевцы. Нет, это конечно хорошо, что они так в меня верят, но… может правда, сказать Степану, что бы он выпорол этого неформального лидера? Сколько разумное, вечное и доброе ни сей, а без прополки дурости ничего не взойдет.
– Здесь со мной вам ничего не угрожает, но со мной вы будете не всегда. Поэтому запомните первое правило самбо. – Молчат, не переспрашивают. – Кто понял, что я сказал? – Молчат – Самбо, это самооборона без оружия (Харлампиев, надеюсь, меня простит за плагиат). Так вот. Первое правило самбо – старайся не попадать в ситуации, когда тебе грозит смертельная опасность. Второе правило – если видишь, что тебе угрожает смертельная опасность, беги. Беги от неё. Это не трусость. Это мудрость. И третье правило – если не можешь убежать по какой-либо причине – бей первым и бей наверняка. А теперь записывайте…
На мой непросвещенный взгляд, если учить тому, что интересно ученикам, то для них учёба перестаёт быть нудной обязаловкой и становится чем-то вроде игры. А ещё, учу своих (вот, вот – уже своих) ребятишек комплексно. Вот они пишут под диктовку и как бы пишут диктант, хотя проверять их я уже не проверяю. И не потому, что пишут без ошибок. С ошибками пишут (разве, что Шураисключение – у девочки просто врождённая грамотность), сами же потом себя и проверят, когда урок учить будут. Учебников-то у нас нет, и мои школяры учат уроки по собственным конспектам.
– Болевые точки на теле человека. Темя. Запишите в скобках: часть поверхности головы, лежащая между лобной и затылочной областями. Темя является самым незащищенным участком в верхней части головы. Если нанести по нему сильный и резкий удар, то человек может умереть. Потрогайте, где у вас находится темя. – Все дисциплинированно начали чесать свои головы. – Пишем далее. Висок. Под виском проходит артерия мозговой мембраны. Что это такое, потом объясню. Удар в эту область может привести к сотрясению мозга, а это либо потеря сознания, либо смерть.
– А какой висок? Левый или правый?
– Любой. Записали? А теперь потрите свои виски. Дальше, что у нас идёт по логике?
– Глаза.
Н-да, по логике действительно глаза, а я сам хотел сказать нос.
– Правильно, глаза. Если ударить человека в область глаз, это не просто острая боль, жертва может совсем потерять зрение. А если ткнуть в глаз большим пальцем, то можно достать до самого мозга и нанести ему необратимые повреждения. Потёрли глаза. Следующая точка…
– Нос?
– Нос. Удар в нос – это сильная боль. Это может дезориентировать человека, вызвать кровотечение. Носовую кость очень легко сломать. Потрогали себя за нос. Именно за нос, а не за переносицу. Переносица тоже, кстати, болезненная точка. Она связана со зрительным нервом. Если «знаючи» ткнуть в эту точку пальцем, это может обернуться летальным исходом.
– Чем, чем?
– Смертью. Летальный исход, это когда душа улетела. Следующая точка находится чуть ниже места сочленения челюсти с ухом. Направленный туда боковой удар приводит к поражению шейного отдела позвоночника, и противник падает. Про позвоночник я вам рассказывал прошлый раз, когда объяснял строение человека. Нашли эту точку у себя на лице? Далее … э – э – э … Кадык. Пишите, пишите. Даже легкий удар в эту область способен привести к удушью или рвоте. Если ударить сильно, это может привести к потере сознания или смерти. Потрогали себя за кадык. Его ещё называют «адамово яблоко». По Библии Адам вкусил запретный райский плод, поперхнулся, и он застрял в горле. Кадык есть и у женщин, Шура, просто он менее заметен.
– Это все?
Ага, уже устали писать.
– Нет. Это только те, что находятся в верхней части тела. Об остальных завтра поговорим. А теперь, я хотел бы, что бы вы запомнили одну историю: «Один ученик спросил своего наставника: – Учитель, что бы ты сказал, если бы узнал о моем падении? – Вставай! – А на следующий раз? – Снова вставай! – И сколько это может продолжаться: все падать и подниматься? – Падай и поднимайся, покуда жив! Ведь те, кто упал и не поднялся, мертвы».
Что-то подобное я им уже рассказывал … Точно, рассказывал про осла в колодце… Да, ну и что? Я же их ещё воспитываю. Воспитываю, чтобы никогда не сдавались.
Всё, всё, встаю.
– Филимо-о-н! … Филимон, твою танькину дивизию!
– Да тута я, тута, Лександр Фёдрч.
– Помоги, дружок, протезы пристегнуть.
__________________________________________________________________
1Николай и Людвиг Штиглицы поселились в России в конце XVIII века. Николай Штиглиц, будучи херсонским купцом, имел контору в Одессе, занимался откупами. Людвиг Иванович Штиглиц (1777—1842), российский придворный банкир, «за оказанные правительству услуги и усердие к распространению торговли» был в 1826 г. возведен в баронское Российской империи достоинство.
2Бад-Арользен (до 1997 года Арользен[1], нем. Bad Arolsen) – город в Германии, в земле Гессен.
3Карл Август Фридрих Вальдек-Пирмонтский (нем. Karl August Friedrich zu Waldeck-Pyrmont; 24 сентября 1704 (1704-09-24), Ганау – 29 августа 1763, Арользен) – князь Вальдек-Пирмонтский и командующий голландской армии в ходе Войны за австрийское наследство, фельдмаршал (20 марта 1746).
4Сунь Бинь – видный китайский стратег и военный теоретик периода Сражающихся царств (403—221 годы до н. э.).
Глава 6 (1791 август)
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая.
А.С. Пушкин
– Интересно, когда Пушкин писал про свою кибитку удалую, у него колёса также скрипели?
– Пушкин писал про зимнюю кибитку – там ямщик в тулупе и красном кушаке, стало быть, там кибитка была на санях, и скрипел там только снег.
– Тогда надо было зимой ехать.
– Зимой холодно. День короткий.
– Нда, … день короткий, волки злые … едем, едем в Москву.
Когда встал вопрос о моей поездки в Питер, Степан, всегда спокойный, даже чуть флегматичный, обрадовался – он, оказывается столько со мной прежним наездился, а тут полгода на одном месте… Спросил только, как поедем – в долгую или на перекладных?
– А как батюшка ездил?
– Так по-разному – и так, и так.
– А как быстрее?
– Так известное дело, на перекладных-то скорее будет, дён за семь доедем.
– !!!!
– Но, в долгую дешевше.
Оказалось, что «в долгую», это на своих лошадях – скорость небольшая, лошадям отдыхать надобно, а «на перекладных» – это в Карачеве, где была первая ямская станция, надобно купить подорожную, и потом можно менять лошадей уже на каждой такой же станции. А без подорожной никак нельзя – на первой же городской заставе задержит караульный офицер.
Всё, всё, в Питер мы пока не поедем – Москва поближе, вот в неё родимую и отправимся. Там тоже, чай, отделение Заёмного банка. И поедем на своих.
– И вот еду, вернее, тащусь третий день по необъятным просторам моей Родины. Где же, блин, Онегин летел здесь в пыли на почтовых? Грязь непролазная. Несмотря на то, что лето относительно сухое, дорога через брянские и калужские леса идёт по заболоченным участкам, других просто нет – вот почему, наверное, Наполеон здесь на Москву и не пошёл, вернее, не пойдёт – да он просто до неё не дойдёт. … Эх, знал бы …
– И что, не поехал бы?
– Э-э-эх, много вещей в жизни приходиться делать помимо своей охоты.
Вот мы и едем. Мы – это, естественно, я, так же естественно, Степан и Филька, который Филимон. Н-да, едем … Как там будущий великий поэт скажет – «Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют, на станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают».
А что это там впереди?
Дорога спускается в небольшую лощину. Спуск достаточно пологий, но вот в самом низу, по-видимому, протекает ручей и через него лежит какой-то настил из брёвен. Возле этого настила стоит пара лошадей и почти завалившаяся на бок такая же, как моя, кибитка. Вокруг бегают-суетятся два человека – один бородатый пожилой крепыш, явно водитель транспортного средства, другой худощавый, скорее даже субтильный, юноша, вероятно, его … пассажир? … Или, как это сейчас называется, … седок?
Подъезжаем к ним. Ясное дело – авария. Водитель транспортного средства не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие… Нет, ну что за маразм – как можно совершить происшествие? Короче – кучер (или ямщик?), что-то не учёл и его рыдван слетел с брёвен. В итоге задняя ось кибитки оказалась безнадёжно сломанной.
Надо помогать. И не только потому, что в дороге всем надо помогать, но и потому, что мы просто не разъедемся.
Сижу, наблюдаю за возней и переругиванием Степана и встречного кучера. Вдвоём они пытаются поставить кибитку на брёвна, Филька придерживает лошадей. Субтильный юноша в процесс не вмешивается, справедливо пологая, что будет только мешать. В других условиях я бы помог, но сейчас проку от меня никакого. Только протезы пристёгивать и то время надо.
Молодой человек решился подойти ко мне. Здороваемся. Явные семитские черты …, или французские? Узкое длинное лицо, шикарный такой нос, не нос, а НОС, с большой буквы, черные кудрявые волосы. Рост – где-то под метр шестьдесят – шестьдесят пять. Одет скромно, но опрятно.
– Разрешите представиться, милостивый государь, меня зовут Габриэль Рухомовский1, еду по частному делу в Орловскую губернию к помещику Ржевскому.
Немая сцена…
Вот до чего ж тесен мир!
– В таком случае, сударь, будем считать, что Вы уже приехали.
– Вы про это досадное происшествие? Пожалуй, оно задержит меня на какое-то время, но ехать мне ещё до места полтораста вёрст.
– Простите, сударь, Вы меня не поняли. Вернее, я не совсем точно объяснился. Дело в том, что я и есть, как Вы изволили выразиться, помещик Ржевский из Орловской губернии.
– А с чего ты взял, что он едет к тебе? Ты что, единственный Ржевский на всю губернию? Нет.
– Но вот что-то мне подсказывает, что этот Габриэль едет ко мне.
Так и оказалось.
Габриэль был сыном ювелира из Вильно Герши Рухомовского. Папаша был человеком религиозным, причём, как я понял, фанатично религиозным, исповедовал хасиди́зм2, был даже учеником рабби3 Исраэля бен Элиэзера4.
Я про этого рабби естественно никогда не слыхал, но когда Габриэль говорил про то, что отец был его учеником, в его голосе слышались неподдельное почтение и гордость.
Жили Рухомовские вполне достойно, работа ювелира приносила хороший доход, Габриэль, единственный ребёнок в семье, учился в хедере5, впрочем, в дальнейшем он хотел стать стряпчим, но отец противился (но это уже детали взаимоотношения отцов и детей). В общем, жизнь в Вильно была для Габриэля, как я понял, лучшим периодом. Но когда Виленский Гаон Элияху бен Шломо Залман6 стал бороться с хасиди́змом для Герши Рухомовского всё изменилось – мало того, что рушились идеалы, так ещё и заказы уменьшались. И, как обычно это бывает, беда не приходит одна – он серьёзно заболел. Болел он долго, сбережения семьи таяли, необходимо было радикально менять жизненный уклад. Но это же всегда страшно. Не многие люди, обременённые возрастом и семьями, решаются на резкие шаги, вот молодому человеку на такой поступок решиться проще. Это, а ещё приглашение дядя, младшего брата отца, который жил в Новомещанской слободе на севере Москвы, и подвигло юного Габриэля податься с кусочком пергамента в кошельке – талисманом с благословением на хороший заработок, написанным праведным раввином, разбирающимся в тайнах Каббалы, в холодную Россию.
С Нестором Максимовичем Амбодик-Максимȯвичем, Габриэль познакомился в Петербурге, куда дядя его отправлял по делам. Там, в Петербурге он и принял заказ на изготовление инъектора для доктора.
– Почему Нестор Максимович дал заказ этому юнцу, да ещё в Москву?
– Ну, наверное, у доктора были свои резоны. При встрече расскажет, а вот почему он его к тебе направил, то в письме от него было прописано.
По мнению доктора, «сей молодой человек обладает несомненными способностями и зело нестандартным (явно доктор у меня нахватался) разумением» и может быть мне полезен в изготовлении протезов.
Вот так! Значит, сей вьюнош шприц изготавливал. Гм, однако…
– Габриэль, а из чего Вы делали иглы для инъектора доктора Максимȯвича?
– Из сплава золота с цинком.
Это ж, сколько тогда всё стоит?!
Степан и кучер (а может ямщик) Габриэля наконец-то справились с невезучей (причём, в буквальном смысле) кибиткой и вытащили её из лощины на сухое место. Теперь предстоял этап ремонта задней оси. Нет, можно конечно и умыть руки – кибитка ямская, пусть ямщик и ремонтирует, мы и так помогли, но…
– Степан, а может мы пообедаем? Время уже к полудню. Давай, наверное, вон на той полянке расположимся.
Степан и сам был не прочь – устал ведь ковыряться в грязи. Да и обмыться и просохнуть ему надо.
– Филимон, дружок, помоги протезы пристегнуть, а потом накрой пообедать, а твой дядя пусть помоется да отдохнёт. Да, ямщика тоже покормите.
Филька привычно помог мне с протезами, и я вышел, наконец, из своей кибитки. На весь этот процесс Габриэль смотрел широко раскрытыми глазами.
– Мне Нестор Максимович говорил, что у Вас для меня есть интересная работа, говорил, что нужно будет сделать какие-то интересные протезы. А Вы их сами, выходит, сделали.
В голосе его слышалось разочарование.
Ему ведь пообещали самостоятельную работу, пообещали, что она будет хорошо оплачена (я говорил, Нестору Максимовичу, что человек, сделавший мне протезы, в обиде не останется, да я и Кузяху не обидел), он проехал двести вёрст от Москвы, … а работа оказывается сделанной.
– Габриэль, Вы не расстраивайтесь, у меня для Вас много интересной работы. А эти протезы только проба пера. – Ну, про перо он точно ничего не понял, а вот я понял, что для юноши интересно решение технических задач. Видимо это понял и Нестор Максимович, раз уговорил его ехать ко мне. – Мы сейчас с Вами пообедаем и обсудим, как нам поступить дальше. У меня для Вас есть несколько интересных, на мой взгляд, технических вопросов, решение которых может быть выгодным как для Вас, так и для меня. – Габриэль смотрел с интересом и надеждой. – А как Вы стали механиком?
– Я? Механиком? Ну что Вы, какой я механик? Я даже не ювелир ещё, а только ученик. … Я же вам говорил, что сначала я хотел стать стряпчим, но папа сказал, что стряпчими должны становиться дети стряпчих, а дети ювелиров таки должны становиться ювелирами.
– Габриэль, дружок я Вам скажу одну умную вещь, Вы только не обижайтесь: Ваш папа таки был абсолютно прав. Я его полностью поддерживаю, только немножко дополню. Настоящий еврей должен идти дальше своего отца. Я предлагаю Вам стать ювелиром-универсалом, а именно, ювелиром-механиком. Вот послушайте одну притчу: «Один механик умер и попал в ад. В скором времени его перестал устраивать уровень комфорта в аду, и он принялся за усовершенствования. Вскоре он механизировал подачу топлива к котлам, построил водопровод, канализацию и тому подобное. Господь как-то поинтересовался у Сатаны: – Ну как там у Вас дела? – Дела идут просто великолепно. У нас теперь есть водопровод, канализация, мои черти гадят теперь не где попало, а где положено, подача угля к котлам механизирована и черт знает, что еще этот механик установит в ближайшее время. – ЧТО? У Вас есть механик! ?! Слушай, тут какая-то ошибка. Механики не должны попадать в ад. Сейчас же пришли его ко мне. – Ни за что! Мне понравилось иметь механика в аду. – Немедленно пришли его ко мне наверх или я буду с тобой судиться! – Ага, и где ты собрался найти стряпчего, если они все в аду?»… Какой напрашивается вывод из этой притчи?
– Какой? И на что я не должен обижаться? – Наивный еврейский юноша был неподражаем. Похоже, он принял этот анекдот всерьёз.
– Это у меня присказка такая. А вывод напрашивается простой. Механики всегда попадают в рай, а если по какой-то случайности они попадут в ад, то и там прекрасно устроятся. … Шучу, шучу. Просто мне кажется – быть механиком интереснее. А если ты ещё и ювелир, то вдвойне интересней. – …
– Господи, коряво-то как вербую…
– Вербовкауеш?
– Да, я вербую этого мальчишку в свои друзья. Мне нужна команда, а из него может получиться мой единомышленник, … я думаю. Он ещё молод, житейскими догмами незашорен. Может немного чересчур религиозен, но это можно поправить. … Но главное, он определённо имеет способности.
– А анекдот этот к чему приплёл? Религиозный человек может его воспринять как раз наоборот.
– Ну…, согласен, не совсем умно.
– Опять же, команду как-то странно ты набираешь.
– А как её набирают? Что, есть инструкции, наставления, методики?
– Ну-у, может и есть.
– А вот что с этим Габриэлем делать? Брать с собой в Москву или дать ему несколько идей и пусть едет в деревню?
– Глупость. Какие идеи ты дашь? А вот в Москве он тебе пригодится, ведь, по его словам, он там уже четыре года живёт…
Теперь едем вчетвером.
Габриэль на идею поездки обратно в Москву прореагировал в начале настороженно, но после того, как я сказал, что там мне потребуется его помощь, даже обрадовался.
