Можно ли сделать из советского завода мирового лидера металлургии? Короткий ответ – «Да!»
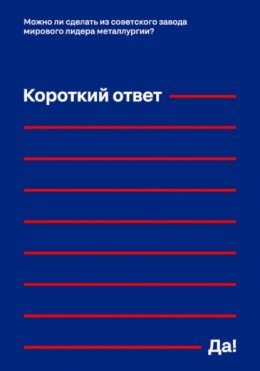
Можно ли сделать из советского завода мирового лидера металлургии?
Короткий ответ – «Да!»
2-е издание
Череповец
ИД «Череповецъ»
2025
Авторы: Соколов-Митрич Д. В., Рохлин А. Л., Пищикова Е. В., Ивантер А. Е., Догадина И. А., Челноков Б. В.
Авторы идеи: Гусева Л. А., Мишанина А. Ю.
Сотни книг написаны про ударные советские предприятия и человека труда. Тысячи книг рассказывают про «успешный успех» звездных компаний и предпринимателей. Мы не претендуем ни на то, ни на другое. «Короткий ответ – „Да!“» – это одна из немногих историй, которые произошли в уникальную эпоху и едва ли когда-нибудь еще повторятся.
Как мощный гигант советской металлургии не растерялся в совершенно новой для себя реальности, искал и обрел себя в рыночных условиях, и не просто выжил, а всего за 15 лет стал самой эффективной металлургической компанией в мире. Но вот секрет успеха от компании «Северсталь» универсален: достигать выдающихся результатов на фоне любых тектонических сдвигов, будь то смена формации, глобальные кризисы или санкционные удары, можно только с опорой на самый мощный источник энергии – на человека. Высвободить его энергию, вдохновить, заинтересовать, научить, дать возможность действовать…
Эта книга – про изменения и про людей, которые способны создавать перемены и управлять ими. Историю предприятия рассказывают сами участники этих уникальных событий, в том числе ее главный герой – глава «Северстали» Алексей Мордашов. Для кого эта книга? Только для сотрудников компании и соседей по отрасли? Короткий ответ: нет. Для широкой аудитории, для тех, кто хочет на своем предпринимательском, а может быть, и личном пути обрести ту самую движущую силу? Короткий ответ: да!
ISBN 978-5-94022-241-5
© ПАО «Северсталь», 2025, с изменениями
Предисловие
Приступая к предисловию этой книги, мы вдруг поняли, что какое-то важное понимание стиля жизни Череповецкого металлургического комбината мы взяли с потолка. С потолка городского кинотеатра «Комсомолец», который был открыт в 1957 году. Здание запроектировано было с привычной пышностью общественных пространств сталинского ампира: напольная мозаика, дубовые двери, люстры, расписной потолок. Кто традиционно плавает в облаках на такого рода живописных плафонах? Нимфы, музы и другие симпатичные обитатели полубожественных пространств. На советском потолке, разумеется, планировалось разместить образы советских девушек. Кого-то из пантеона кинобогинь?
Первые зрители были уверены, что художники – а расписывали потолок московские монументалисты Николай Ильин и Лев Веркман – изобразили актрис. Реальных или воображаемых. А молодые живописцы взяли моделями череповчанок – двух девушек-штукатуров, которые рядом с ними ровняли стены.
Главная нимфа, Ольга Васильевна Шукалова, говорит: «Хотели было ехать за натурщицами в Москву, но мы им приглянулись. И вот мы с мастерками трудимся, а они делают наброски. После смены надевали красивые платья и уже специально позировали. А ведь у меня тогда уже было двое детей».
И Ольга Васильевна стала в городе известной персоной – ее узнавали на улицах, здоровались. Потому что она плавала в небе перед каждым киносеансом, являя собой локальный случай обожествления маляра-штукатура.
К чему это лирическое отступление? К тому, что Череповец – город, в котором реально получилось создать особое отношение к людям труда. Остров Че. Здесь в кинотеатре или ресторане посетители могли встать, если в зал входили знаменитые сталевары или доменщики – особенно в те годы, когда те уже начали получать золотые звезды Героев Социалистического Труда.
Далеко не на всей территории Советского Союза такого рода отношение к рабочему статусу было искренним – чаще всего оно носило формальный характер, проходило по ведомству идео-
логического величания. А в Череповце стало реальной частью городского характера.
Комбинат Череповцу поначалу давался непросто. Строительство крупного завода для снабжения Северо-Запада России собственным металлом стало возможным после открытия в 1930–
1933 годах кольских железных руд и печорских углей. Но суровые климатические условия делали нецелесообразным строительство комбината в непосредственной близости от залежей руды и угля. В июне 1940-го постановлением Совнаркома СССР было решено расположить предприятие около Череповца – на перекрестке потоков руды, угля и готовой продукции, в месте пересечения железнодорожной линии Вологда – Ленинград с Мариинской водной системой. Несмотря на всю логичность этого решения, многие не верили в его успех – никто и никогда не строил предприятия так далеко от ресурсов. А потом была война, которая отсрочила строительство на долгих семь лет… Когда в 1955 году проходил первый выпуск чугуна, директор предприятия Семен Резников говорил: «Основная особенность Череповецкого завода – удаленность и от источников угля, и от источников руды, но, несмотря на это, завод будет рентабельным предприятием, так как на нем предусмотрены самые совершенные технологические процессы, новейшее оборудование и автоматизация».
Самое интересное, что это заклинание первого директора в итоге осуществилось – просто не сразу. Это стало возможным благодаря людям, имена которых навсегда вписаны в историю комбината и города Череповца, их смелым и совершенно инновационным для своего времени решениям. Одним из таких героев стал академик Бардин, который не просто поверил в комбинат, но определил его путь как путь предприятия полного цикла – от кокса до проката.
ЧерМК, который при своем рождении производил самый дорогой чугун в стране, таки прошел свою дорогу до предприятия, которое делает самую низкую по себестоимости сталь в мире.
И комбинат ведь по большому счету ничего и никогда не получал просто так, за красивые домны, не был особенно обласкан подарками свыше – ему приходилось бороться за каждую копейку, за эффективность каждого трудового процесса.
И когда нам повторяли (а в городе любят говорить об этом), что Череповец – уникальное место, потому что все заводы сидят либо на руде, либо на угле, иначе их неэффективно строить, мы поняли, что есть еще один неучтенный фактор, важный ресурс – этот завод сидел и сидит на людях. С череповецким характером.
Мы напомним вам о том, откуда он пошел и как складывался. И познакомим вас с характером и культурой «Северстали» сегодняшней. И если есть понятие селф-мейд – человек, который сам себя сделал, то это предприятие – сообщество, которое само себя сотворило: селф-мейд комьюнити.
Голландский исследователь бизнеса Ари де Гиус считал, что на любую компанию можно смотреть либо как на машину по зарабатыванию денег, либо как на живое существо. Опыт Череповецкого металлургического показывает, что это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие взгляды: только компания-живое-существо и способна быть наиболее эффективной компанией-машиной-по-зарабатыванию-денег.
Подобно тому, как счастлив (а часто – и благополучен) человек, в жизни которого нашелся смысл, так успешна и компания, которая в ежедневной работе опирается на набор незыблемых ценностей. А ценности «Северстали» – это, пожалуй, единственное, что не меняется в этой неугомонной компании уже много лет – они лишь дополняются по мере того, как компания-живое-существо познает себя и мир вокруг.
Ценности «Северстали» невозможно расположить по степени значимости – не будет одного, как карточный домик распадется вся конструкция, но мы позволим себе начать с той, которую чужак не может не заметить невооруженным глазом, проведя в этом коллективе хотя бы один день, – это уважение к людям. Оно проявляется во всем – начиная с того, как подчеркнуто, иногда будто чуть нарочито уважительно общаются друг с другом северсталевцы самых разных статусов и профессий, заканчивая готовностью компании вкладывать в благополучие своих людей и философским отношением к каждому сотруднику как к источнику ценных идей и улучшений.
В основе всего бизнеса компании лежит глубочайшее понимание клиентских потребностей. Металлурги Череповца давно перестали мыслить тоннами проката – они создают возможности для клиента. Здесь принято смотреть на себя глазами потребителя, глубоко анализировать его рынок и бизнес и проактивно предлагать комплексные решения, разработанные специально под конкретную задачу конкретного клиента.
В этой вселенной не боятся принимать решения и брать на себя ответственность за них, быть готовыми меняться и делать свою работу лучше конкурентов каждый день – именно это предполагает ценность «Эффективность и оперативность». Этот подход, в свою очередь, естественным образом перетекает в культуру командной работы. В доменном цехе, как и в управляющей компании, ценят не просто профессионализм, а умение видеть общую цель. Специалисты «Северстали» сформировали уникальную атмосферу доверия, где инициатива каждого становится ресурсом для всех.
Венчает эту систему ценностей безопасность – абсолютный приоритет, не подлежащий компромиссам. «Никакая производственная задача не может быть важнее человеческой жизни» – это не просто корпоративное правило, а глубокое убеждение, пронизывающее все.
Эти принципы воплотились в стратегических приоритетах, ведущих компанию вперед. «Северсталь» планомерно движется к лидерству в безопасности труда и экологии, в качестве жизни сотрудников, в кастомизированных решениях для клиентов, в цифровой трансформации и эффективности производства. Этот баланс технологической и организационной мощи и человечности создал особую формулу успеха, которая позволяет «Северстали» заявлять об амбиции «стать лидером металлургии будущего». Быть может, для неподготовленного читателя все это пока кажется абстрактным набором корпоративных фраз, но наберитесь терпения – с каждой страницей эту теорию будут наполнять реальные истории, голоса и лица людей.
Не исключено, что в итоге окажется, что перед нами еще более нестандартная история, чем та, что нам сейчас видится. Возможно, на комбинате удалось в максимальной степени реализовать тот идеал, который зародился в сознании рабочих коллективов еще во времена перестройки, но потом угас под напором слишком буйных ветров перемен.
Книга состоит из двух частей – исторической и современной.
В английском и ряде романских языков есть несколько глагольных времен: скажем, настоящее продолженное (Present Continuous) и прошлое совершённое (Past Perfect). А в латинском еще есть великолепное название языкового времени: предбудущее (Futurum exactum). Этими несложными языковыми терминами мы решили назвать и две основные части этой книги, а также ее предисловие. Ведь именно об этих эпохах мы и пишем. О совершённом, героическом, незабываемом прошлом, давшем заводу тех людей-гигантов, которые создали это огромное предприятие. О случившемся на переломе эпох и длящемся прямо на наших глазах настоящем, в котором новое поколение управленцев, стоя на плечах их гигантов-предшественников, продолжает их дело по-новому. И так как день сегодняшний нам всем ближе, мы ведь в нем живем и действуем, то начать мы решили именно с событий новейшей истории ЧерМК.
В настоящем продолженном времени, в современной части книги, мы встретимся с топ-менеджерами комбината, будем говорить о его стратегии, идеологии и предбудущем. 7 глав, 7 этапов, 7 вызовов, 7 авторских, если так можно сказать, решений.
В исторической части мы исследуем историю завода и города.
Города обязательно – он ведь еще одна, «запасная», домна Череповецкого металлургического, плавильный котел «Города Ч.», который вырос вокруг комбината и наполнился молодыми людьми со всей страны, приехавшими сюда за лучшей долей и интересной работой. Есть и третья линия в книге – рубрика «Очень прямая речь». В ней вы услышите голоса людей, особенно важных для завода, тех, кому ЧерМК обязан своим благополучием и которые привязаны к нему всей своей жизнью. В новой истории предприятия и компании, ядром которой он является, это, конечно, Алексей Мордашов – бессменный собственник и настоящий капитан этого корабля.
«А что за странное название на обложке? Короткий ответ – „Да!“» – спросит читатель, и по этому вопросу мы сразу опознаем в нем человека со стороны. На ЧерМК все знают, про что эти лаконичные слова. Краткость и точность стали одной из основ корпоративной культуры. Алексей Мордашов, председатель Совета директоров «Северстали», заразил команду своей привычкой отвечать по существу дела. Если есть конкретный вопрос, на него должен быть получен конкретный ответ. Долгие и пространные объяснения – это оправдания. Идеальный набор ответов состоит из трех вариантов: «Короткий ответ: да»; «Короткий ответ: нет»; «Короткий ответ: не знаю». И только после этого – минимум подробностей. Честное слово, в этих словах есть что-то волнующее. Эта книга так и должна называться. Потому что всеми годами своего становления и развития Череповецкий завод самой Вселенной выдал именно такое сообщение: «Ответ: да!».
И последнее, о чем хотелось бы сказать. Много лет мы искали рецепт настоящих гостовских заводских котлет. Такая была у части нашей команды факультативная миссия. Рецепт считался утерянным. Не ищите его в Сети – там обманывают, а в «Книге о вкусной и здоровой пище» действительно есть рецепт того самого времени, пятидесятых годов, но не общепитовский. А хорошие домашние котлеты и котлеты из хорошей рабочей столовой – совсем разные вещи. Не хуже и не лучше – просто разные. Мы думали, этот вкус невосстановим уже. И что же – в одну секунду нам наизусть рассказала его Екатерина Васильевна Смирнова, два десятилетия подряд проработавшая в отделе корпоративного питания ЧерМК. Так что много чего важного сохранено и живет в городе Череповце и на металлургическом комбинате. Путь к которому лежит через душу, разум, сердце и даже… через желудок.
Часть 1. Настоящее продолженное
Глава 1
Всё по бенчмарку, или Как взобраться наверх по спирали собственной ДНК
Череповецкий металлургический раскинул свои владения на 30 квадратных километрах – это без малого четверть городской территории. Город в городе, со своими улицами, транспортом, распорядком жизни, легендами и достопримечательностями. Со своими «городскими сумасшедшими» – в особом, благородном, смысле этого словосочетания. Именно они, люди «Северстали», герои этой книги, ставят себе и другим «невозможные задачи» – и выполняют их. Именно они вдохновляют завод, учат его быть еще смелее и эффективнее.
А завод взбадривает и дисциплинирует город. Шутка ли, на комбинате сегодня работает каждый шестой череповчанин. Если не брать пенсионеров и младенцев, считайте, каждый третий. И когда любуешься с Соборной горки величественной Шексной, в очарование пейзажа невольно вливается гордость – здесь производится сегодня каждая седьмая тонна русской стали.
Еще в XIX веке Череповец, заметный торгово-купеческий хаб в бассейне Верхней Волги, стремительно сбрасывал с себя сонную провинциальность. Сегодня же благодаря металлургическому гиганту непривычное для нерусского уха название прочно укоренилось на промышленной карте мира.
Поверх барьеров
Самоидентификация «Северстали» как глобального игрока – важнейшая часть генетического кода компании. Конечно, неспроста. Объективные предпосылки всемирного статуса лежат на поверхности. Это, во-первых, специфика отрасли, ключевой продукцией которой являются глобально торгуемые товары, прежде всего стальной прокат: еще совсем недавно каждая третья тонна мировой стали потреблялась вне границ страны производства. Это, во-вторых, изначально заложенный масштаб: ЧерМК – один из 14 крупнейших советских металлургических комбинатов полного цикла. Это, наконец, уникальное отличие Череповецкого комбината от конкурентов – близость к экспортным портам.
После распада СССР внутренний спрос на металл сжимался, как шагреневая кожа, – это обстоятельство непреодолимой на тот момент силы стало все сильнее выталкивать продукцию комбината за рубеж. Как и все отечественные сырьевые и первопередельные отрасли, черная металлургия за считаные годы стала – во многом вынужденно – экспортоориентированной: высвободившийся в результате системного кризиса тяжелых отраслей (ВПК, станкостроения, автопрома, инфраструктурного строительства) металл поехал за границу.
Сказался и субъективный фактор – глобальный кругозор главного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, его неукорененность в автократичной советской хозяйственной системе. Нет, он не был диссидентом и нонконформистом. И, родись он лет на 10–15 раньше, возможно, вполне мог найти себя в больших проектах шестидесятых-семидесятых годов. Но к концу восьмидесятых эта система свой век отжила.
«История про то, что жил-был Советский Союз, и, может, там были отдельные недостатки, но в целом была великая страна, где все друг друга любили, где не было всякой грязи, а все с воодушевлением собирались и пели песни и под яркими красными флагами ходили на демонстрации, полные радости, любви и веселья, – это иллюзия, которую могут питать лишь те, кто не жил на закате СССР. Несомненно, в более ранние годы у страны были сильные стороны, но, когда я пришел работать, на КПСС все были злые как собаки, – не скрывал эмоций в интервью для этой книги Алексей Мордашов. – Все попытки создать хоть какие-то стимулы к труду для предприятий и индивидуумов полностью разбились о несовершенство бюрократической системы. Было очевидно, что без ее коренных перемен развиваться невозможно».
Окончив Ленинградский инженерно-экономический институт в 1988 году, Мордашов возвращается в Череповец и устраивается на ЧерМК в плановый отдел. Реалии трещавшей по швам экономической системы позднего социализма Мордашов успел застать, но с первых же шагов на комбинате старался противопоставить им стремление к эффективности – обсчитывал на большой ЭВМ, по ночам загружая программу перфокартами, расчетные внутренние цены на продукцию. Более справедливые, как ему казалось, чем «плясавшие» от затрат нормо-часы.
В институте Алексей был круглым отличником и ленинским стипендиатом. Но брал не усидчивостью и дисциплиной, а любопытством и въедливостью – неинтересным лекциям предпочитал часы самостоятельных мозговых штурмов в библиотеке. Получил инъекцию представлений о рыночном устройстве хозяйства – Мордашова, единственного из студентов, пригласил в свой рыночный кружок в ЛИЭИ преподававший у Алексея Анатолий Чубайс.
«Был в те времена такой клуб „Перестройка“, – рассказывает Алексей Александрович. – Его возглавлял Егор Гайдар в Москве. А филиалом в Петербурге руководил Чубайс, который состоял ассистентом на кафедре. Он был куратором студенческого научного общества, а я был председателем этого общества. Я познакомился с ним, когда мне было 18 лет. А Чубайсу 28. Он проводил лекцию по перспективам экономики. Я пришел на эту лекцию, проявил активность, задавал вопросы. И после выступления он меня подозвал к себе, стал интересоваться моей научной работой. Хотел, чтобы я писал у него диплом, но не сложилось. С тех пор мы целых десять лет не общались – в следующий раз встретил я его уже на очередном правительственном совещании уже в статусе гендиректора „Северстали“».
А в 1990 году, уже как сотрудник ЧерМК, Мордашов угодил по разнарядке в полугодовую стажировку в Австрию. Там произошло событие, которое в другие времена могло бы поставить крест на карьере юного управленца, – конфликт с другим командированным, сыном главы Минчермета, работавшим на НЛМК. Сынок пожаловался папе, министр гневался, досрочно отозвал Мордашова домой и сообщил об инциденте гендиректору ЧерМК Липухину. Но вместо нагоняя Алексей получил от Юрия Викторовича, славившегося своей неуступчивостью и фрондой с министерством, лишь повышение по службе.
Неудивительно, что, сосредоточив сначала акционерную, а затем и управленческую власть на комбинате в своих руках – эта драматическая, за 30 лет сильно обросшая мифами история столь важна, что мы решили подробно изложить ее «от первого лица» (см. «Я человек, который очень быстро перемещается в пространстве»), – Мордашов приступил во второй половине 1990-х к реформированию компании, руководствуясь полученным опытом.
А именно: поставил себе и команде цель создать амбициозного мирового игрока, ориентированного на глобальные бенчмарки – лучшие в отрасли значения ключевых индикаторов производительности, качества продукции, доходности бизнеса. Личные амбиции Алексея Мордашова и его любовь к комбинату (получившего к тому времени новое звучное имя «Северсталь»), который стал первым и, по сути, остается единственным его местом работы, не позволяли довольствоваться меньшим.
Зазеркалье
Ожидания от рыночной экономики у граждан СССР были, мягко говоря, завышенными. Вместо капиталистического рая страна получила обвал всего и вся. Прежняя ненавистная система разрушилась, но на то, чтобы сложилась новая, понадобится еще 10–15 лет очень болезненных перемен. Так что первые годы жизни комбината в рынке сегодня кажутся чем-то нереальным. Да, за тридцать лет пройдено несколько кризисов, каждый из них был неожиданным и по-своему болезненным, но все эти неурядицы меркнут на фоне коллизий начала 90-х годов.
Самым страшным бичом всех производственников в те годы стали неплатежи. «Мы меняли все на все, – вспоминает Алексей Мордашов. – Я попросил потом специально уточнить: за 1993 год мы не получили оплату примерно половины месячного производства. Это больше, чем триста тысяч тонн проката. Сначала финансовым, потом генеральным директором я подписывал акты на списание металла, отгруженного и неоплаченного».
Комбинат, в свою очередь, вынужденно задерживал платежи своим контрагентам – угольщикам, железной дороге. Были задержки в выплатах зарплаты сотрудникам – хотя и не такие жесткие, как на многих других предприятиях страны. Иногда платили натурой. «Решили часть металлопродукции обменивать на товары, – рассказывает Мордашов. – Мужики получили в счет зарплаты мешок махорки. В другой раз был насыпной чай мешками. Помню, мама поливала этим чаем грядки. Считалось, что он чем-то полезен для растений. Это был какой-то дикий кошмар, и продолжался он долго, несколько лет!»
Понятно, что ни о какой модернизации и развитии комбината в те годы не было и речи. Перейдя на рыночные рельсы, предприятие столкнулось с жестокой реальностью: производить в текущих исторических условиях оно способно одни лишь убытки. Руководство и топ-менеджмент ЧерМК изо всех сил старались хотя бы удержать комбинат на плаву, минимально необходимыми ремонтами поддерживать жизнеспособность устаревшего оборудования, кормить трудовой коллектив. Даже в уже относительно стабильном 1997-м зарплату на комбинате платили хоть и деньгами, но не полностью и раз в неделю, по 150, затем по 200 рублей, фактически на уровне прожиточного минимума. Сам Алексей Мордашов вспоминает, как часами висел на телефоне с поставщиками и железнодорожниками, уговаривая их помочь «под честное слово», хотя на обоих концах провода собеседники понимали, что платить по счетам фактически нечем.
Торговые споры и опасные «помогайки»
Не было бы счастья, да несчастье помогло. После кризиса 1998 года, когда страна объявила дефолт, курс рубля рухнул в три раза – это радикально удешевило себестоимость российской стали и сделало ее конкурентоспособным экспортным товаром. Но на внешних рынках «Северсталь» тоже никто не ждал с распростертыми объятиями. «Металлургия исторически в мире является самой уязвимой отраслью для торговых споров, а в конце 1990-х и в 2000-е количество антидемпинговых и компенсационных расследований против российской стали побило все рекорды», – вспоминает Дмитрий Горошков, руководивший в тот период работой компании по торговым спорам.
Негромкая четкая речь, выверенные фразы, отсутствие жестикуляции, неизменная прямая спина и стильные очки – в правильном голливудском кино Дмитрий без дублей сыграл бы роль матерого юрисконсульта. Тем более что играть бы пришлось сцены из собственной биографии: «Особенно тяжело нам приходилось в первые годы. Если помните, была такая „поправка Джексона – Веника“, принятая американскими властями еще в 70-е годы. Она ограничивала торговлю со странами с нерыночной экономикой. Отмена этой поправки затянулась аж до 2002 года, и, пока Россия формально считалась „нерыночной“, нам выкручивали руки по полной программе, используя в обосновании придуманного демпинга не наши фактические издержки, а вменяя расчетные издержки производителей третьих, так называемых суррогатных стран».
«Северсталь» отбивалась грамотно. Пригодился полученный Горошковым в МГИМО диплом экономиста-международника. В ходе ожесточенных торговых споров команде Дмитрия не раз удавалось доказать, что «Северсталь» не имеет демпинговой маржи либо что приписываемый компании демпинг не нанес ущерба потребителям. Это позволяло разблокировать экспорт либо снижать ставки антидемпинговых пошлин до приемлемого для «Северстали» уровня. Особым шиком в этом противостоянии было привлечение на свою сторону лобби потребителей продукции, и тогда уже их структуры подключались к работе с регуляторами целевых стран.
В эпопее вхождения компании в большой мир была еще одна специфическая подробность. Риск, ловушка, искушение. Еще не освоившимся на глобальных рынках отечественным металлургическим заводам настойчиво стали предлагать услуги влиятельные иностранные посредники, быстро обзаведшиеся ловкими российскими партнерами. Степень настойчивости определялась нередкими в то время связями таких «помогаек» с криминалитетом. К середине 1990-х несколько крупных российских алюминиевых и сталелитейных предприятий оказались под плотным управленческим контролем английской трейдинговой компании Trans World Group. TWG навязала своим подопечным кабальную толлинговую схему работы, в рамках которой комбинаты выполняли роль, фигурально выражаясь, суррогатной матери: потоками сырья и готовой продукции полностью владела внешняя торговая структура, с помощью трансфертного ценообразования выводящая прибыль на себя в офшоры. Металлургические предприятия лишь производили продукцию, получая минимум прибыли и не имея никаких перспектив для инвестиций в производство и дальнейшее развитие. По сути, это означало гарантированную медленную смерть.
«Нас тоже обхаживали трейдерские структуры, – вспоминает Горошков. – Но мы сошли с этого пути, первыми в черной металлургии организовав собственное дочернее подразделение „Северсталь Экспорт“, работу которого мы с командой налаживали в начале 2000-х. Выходили на новые рынки, знакомили конечных потребителей с нашей продукцией, организовывали необходимый сервис и учились обеспечивать своевременный возврат экспортной выручки».
Десант немецкой слободы и команда ТОП
Уже тогда команде Алексея Мордашова стало ясно: надо вкладываться в людей, обучать их мировым практикам, перенимать все самое ценное из мирового опыта. У еще недавно советских людей был большой потенциал, но не было опыта работы в условиях жесткой конкуренции. На то, чему западный бизнес учился столетиями, у россиян не было и пары лет. Именно в этом заключается курс на то, чтобы стать полноправным глобальным игроком, а вовсе не в том, чтобы оказаться в кабальной зависимости от какого-нибудь мирового гранда.
Обучение проходило при помощи известных еще с петровских времен встречных курсах – топ-менеджеры комбината активно стажировались за рубежом, причем речь шла не о стандартной корочке мастера делового администрирования, а о рабочей стажировке в лучших сталелитейных компаниях Европы и Америки. А в Череповец зачастили умники-варяги, носители лучших отраслевых практик из ведущих компаний стратегического консалтинга.
У акционера была позиция: если мы хотим стать лучшими, мы должны работать с лучшими. Мы должны использовать передовые технологические решения, все доступные технологии управления, а последнюю четверть века все они были, к сожалению, не в России.
Ресурсные подразделения «приводили в чувство» специалисты из The Boston Consulting Group, а в блок Downstream на долгие годы были заброшены эксперты американской McKinsey.
Первые годы работы консалтеров в компании были посвящены, как выражались варяги, «сбору низко висящих плодов» – наведению элементарного порядка и подтягиванию базовой производственной эффективности. В корпоративную летопись этот этап вписан под энергичной аббревиатурой ТОП – программой тотальной оптимизации производства.
«Моей первой задачей в составе команды BCG на „Карельском окатыше“ в 2010 году стала оптимизация пересменок, – вспоминает Агнес Анна Риттер, десять лет проработавшая техническим директором „Северстали“. – Я находилась в железорудном карьере и делала хронометраж пересменок, изучала процесс на предмет производственных улучшений».
Австрийка Риттер на неплохом, с легким акцентом русском языке с теплым чувством вспоминает годы работы в России, лучшие в ее карьере. А в компании не могут забыть энергию австрийской коллеги и ее способность совмещать несовместимое – бывали случаи, когда молодая мама отлучалась на пятнадцать минут с заседаний директоров, чтобы покормить свою
малышку-дочь.
Агнес, имевшая два экономических, одно по политологии и ни одного технического или инженерного диплома, привнесла в компанию свежий, незашоренный взгляд на производственные процессы. «Важным этапом перестройки компании был сквозной анализ цепочки создания стоимости, – поясняет экс-техдиректор „Северстали“. – Например, инвестиции в повышение содержания железа в окатышах на отдельно взятом карельском активе могут не иметь экономики для железорудного карьера, но если вы посчитаете эффект, который дадут эти окатыши с более высоким обогащением на череповецкой доменной печи, то он с лихвой окупит вложения на сырьевом кусте».
Одной из первых ярких побед команды McKinsey на комбинате была оптимизация работы стана горячей прокатки во втором листопрокатном цехе. Прежде этот стан останавливался на переналадку и смену валков 6–8 раз в сутки, и каждый останов, эквивалентный невыпуску сотен тонн металла, а значит, потерянным деньгам, растягивался на 21 минуту. После проведения детального хронометража всех операций по японской методике вся эта работа была оптимизирована. Сегодня стан планово останавливается один раз в неделю, а процедура смены валков во всех клетях занимает 13,5 минуты. Можно было уменьшать простои и дальше, но потом догадались, что общий эффект получится больше, если в эти паузы умудриться впихнуть текущий микроремонт агрегата. Так и поступили.
Но не консультантами едиными, сами череповчане тоже активно включились в этот марафон.
Уже на первых этапах реализации участники программы ТОП – молодые и перспективные сотрудники «Северстали» – выявили серьезные издержки в работе «сердца» комбината. Так на ЧерМК часто называют конвертерное производство (КП) – за объемы выпускаемой стали и важную роль в технологической цепочке. «Интересны и методика программы, и подход к проблемам, когда вначале на интеллектуальном штурме люди выдвигают разные идеи, вплоть до фантастических. Затем выбираются наиболее рациональные, обсчитываются и предлагаются к внедрению», – делился впечатлениями главный механик КП Виктор Иванович Федоров.
Среди особо удачных идей он называет предложение по восстановлению роликов установок непрерывной разливки стали. «Сегодня износившиеся ролики просто сдаются в металлолом (стоимость каждого в 1998 году до 25 тысяч рублей). А нам предложили ультразвуковым прибором «Игла» определять степень их износа и, соответственно, ремонтопригодность. Продление срока службы роликов, а их у нас в работе около 2000, уменьшает их расход на треть».
В руководстве компании оценили итоги пилотной стадии. «Главный результат – наличие на комбинате людей, способных думать по-новому, анализировать, ставить перед собой задачи и их решать», – отмечал на первой встрече с участниками программы ТОП Алексей Мордашов.
Ну а красноречивее всего об итогах программы говорят цифры. За время работы ТОП (с 1998 по 2002 год) было инициировано 2388 мероприятий по всей технологической цепочке, включая и подразделения, обслуживающие основное производство. К началу 2002 года из них реализовано 1835. Общий экономический эффект составил 60,5 миллиона долларов. Совсем неплохо для комбината, который еще десятилетие назад целиком стоил примерно столько же.
Без стакана и мата
Инвестиции в людей часто встречали неожиданное сопротивление со стороны самих инвестируемых. Очень непросто изменить психологию людей, убедить, что отныне ты не винтик огромной машины, а «ответственный и креативный партнер в дерзком проекте построения лидера металлургии будущего». Такими формулировками уже к концу девяностых заговорили топ-менеджеры компании, пугая своим оптимизмом заезжих журналистов. Но среднее звено и рядовые работники ЧерМК в большинстве своем по-прежнему исповедовали старый добрый скептицизм: вы начальство – вы там и думайте, а наше дело – сталь варить, и тут нас учить ничему не надо.
Ломка паттернов отжившей производственной культуры давалась мучительно. Первым делом нужно было побороть расцветшее в рыночные 90-е воровство на комбинате, все заметнее становившееся из бытового промышленным, вплетавшимся в мир местного криминала. Как-то раз в сталеплавильном производстве украли застывшую плавку конвертера – 300 тонн металла.
Не меньшим злом было и пьянство. Выйти на смену – опасную, тяжелую, ответственную работу – с глубокого похмелья или просто выпивши, а после ее окончания сразу нырнуть с коллегами в расположившийся тут же за воротами комбината пивняк было не зазорно, а естественно.
Сознательные сотрудники, лидеры мнений, в том числе те, кого металлурги выбрали в Совет трудового коллектива завода или своих цехов, пытались понять, почему рабочая честь начала тонуть в горячительном зелье. «Разве с выходом сухого закона в стране война с пьянством началась? – комментировал неутешительную статистику по росту задержанных на проходных металлургов машинист экскаватора цеха шлакопереработки Владимир Александрович Кошелев. – Нет. С бутылкой. Как бы ее потруднее достать. А после жестких запретительных мер палаток вокруг заводов наставили».
Против палаток боролись. Особенно Совет ветеранов «Северстали», который регулярно обращался к мэрии и городским законодателям с настоятельной просьбой закрыть пивные шалманы. В корпоративных СМИ регулярно рассказывали об организациях, приобщающих к здоровому образу жизни. В Череповце появился Центр здоровья, где желающих учили жить по системе Порфирия Иванова, одним из правил которой было: не употребляй алкоголя и не кури. Программы избавления от пьянства и курения предлагал и популярный в городе клуб «Оптималист», который за глаза называли клубом трезвости. И некоторые металлурги потянулись в эти центры, а заодно приводили своих коллег.
К теме дисциплины подключились члены Совета директоров, руководители подразделений, профсоюзные лидеры. Они стали регулярно встречаться с трудовыми коллективами, только за две недели апреля 1997 года состоялось 79 информационных собраний – абсолютно во всех череповецких подразделениях компании, включая медицинские, культурные, спортивные учреждения. Весь участвующий в таких встречах «десант» во главе с генеральным директором призывал руководителей цехов и костяк коллективов усилить воспитательную работу с теми, кто злоупотреблял. Но результат оставлял желать лучшего. И тогда пришлось прибегнуть к кардинальным мерам.
Как говорится, доброе слово и револьвер лучше, чем просто доброе слово. Любителей выпить стали безжалостно увольнять. Раз попался поддатым – без разговоров за ворота. И поручать столь ответственную миссию живым контролерам, у которых тоже слабости имеются, не стали. Очень скоро их заменила бездушная электроника, и сегодня на всех проходных комбината и корпусах заводоуправления на входе и выходе человека встречает обязательная процедура общения с алкотестером.
Если в деле борьбы с воровством и пьянством сильно помогали карательные меры – штрафы и увольнения, то тотальный отказ от советского языка индустриальных коммуникаций – трехэтажного мата на повышенных тонах – требовал более замысловатых усилий.
В начале 2000-х по просторам тогда еще не очень просторного интернета разлетелась сделанная тайком запись совещания директора цеха полимерных покрытий ЧерМК, который в доходчивой эмоциональной манере объясняет подчиненным, как скверно они выполнили порученную работу и что он обо всех думает. Несколько минут отборного мата вдохновили сетевых диджеев на создание треков и клипов, которые услышали сотни тысяч, а с тех пор уже и миллионы человек. Ключевые фразы череповецкого оратора стали мемами, которые помнят и сегодня. Начальника-скандалиста, конечно, уволили, но уволить за мат полкомбината было невозможно.
Побороть грубость вообще и матерщину в частности столь же непросто, как вылечить заикание, но «Северстали» это в общем и целом удалось. В среде топ-менеджмента культуру общения при помощи исключительно нормированной лексики последовательно исповедовал сам Мордашов, а далее новая полезная привычка спускалась вниз по административной лестнице вплоть до рядовых сотрудников. Нельзя сказать, что «горячее словцо» навсегда ушло из жизни каждого сотрудника (тут уж на личной совести), но даже на самых сложных совещаниях потребность в мате отпала.
Из советской индустриальной культуры осталось лишь обращение к подчиненным по имени-отчеству, но на «ты»: «Ты, Семен Андреич, абсолютно прав, но я с тобой не согласен».
А в рабочей среде «русского устного» стало гораздо меньше после того, как условия труда и отдыха – туалеты, душевые, столовые – были приведены в человеческий вид. Сама изменившаяся среда обитания более не располагает к употреблению табуированного языка.
Еще одна филологическая реформа заключалась в том, чтобы приучить людей, особенно руководящий состав, излагать свои мысли коротко, точно и конкретно. Это тоже тот самый случай, когда Алексей Мордашов заразил команду своей собственной полезной привычкой.
Никаких лишних канцеляризмов, слов-паразитов и многотонных формулировок, за которыми привыкли прятаться бездельники и карьеристы. Идеальный набор ответов на конкретно поставленный вопрос состоит из трех вариантов: «Короткий ответ: да»; «Короткий ответ: нет»; «Короткий ответ: не знаю». И только после этого – необходимый минимум подробностей. А если подробностей нет, то и формулу можно сократить до двух слов: «Ответ: да». И это не просто утвердительный ответ на вопрос, но и формула эффективности, формула успеха, формула оптимизма – все то, что очень коротко, точно и конкретно характеризует корпоративную культуру ЧерМК.
К 2009 году цели первого этапа были в общем и целом достигнуты, низко висящие плоды собраны. И тогда на первый план выдвинулись новые задачи. Вторым этапом изменений стал производственный консалтинг, когда уже сами руководители ЧерМК занялись изменением производственной культуры. Формированием среды, которая побуждала к работе на результат. Алексей Мордашов принял тогда радикальные решения – в сентябре 2010 года снял с должностей основной костяк топ-менеджмента комбината и привлек новую команду, в которой участвовали и экспаты. Позицию гендиректора стального дивизиона занял Александр Грубман, выходец из российской дочки Coca-Cola. Это при нем началось тотальное очеловечивание санитарно-бытовых условий жизни рабочих на комбинате. Облагораживание отхожих мест, снабжение их туалетной бумагой в неограниченном количестве (прогноз гендира «натащат домой и перестанут» сбылся на сто процентов). Сейчас даже трудно представить, что все это требовало когда-то специальных усилий: к хорошему быстро привыкаешь. А теперь… Представьте себе, что вы садитесь в свой привычный Kia или даже Volvo, а внутри – «Запорожец». Примерно такое ощущение испытали бы сотрудники комбината, если теперь вдруг взять и по волшебному щелчку вернуть все как было.
Высоко висящие фрукты
В начале 2010-х стартовала работа по разворачиванию производственной системы. Дмитрий Горбачев, один из тех, кто стоял у истоков ее создания, дает ей следующее определение: «Это способ достижения конкурентного преимущества за счет вовлечения людей и использования передовых практик операционной эффективности». Работа строилась по трем направлениям: новая операционная система, новые технологические карты и новые модели планирования.
Известный далеко за пределами комбината Горбачев – неизменный участник корпоративных конференций по проблематике производственных систем, автор увесистой монографии по операционной эффективности – не производит в личном общении впечатления скучного мэтра. С большими круглыми глазами и стильной бородкой, живой и подвижный, Дмитрий поделился с нами массой историй из собственной практики.
– Вот, например, хоть и исключительный, но очень показательный для тех времен случай. Идут сотрудники команды McKinsey по цехам, проверяют состояние рабочих мест, общаются с людьми, которых встречают по пути. Заходят в раздевалку. Открывают первый попавшийся шкафчик, чтобы посмотреть, насколько он удобен для использования, а внутри – живой человек. Рабочий, который увидел, что ему навстречу идет «комиссия», решил таким образом спрятаться от греха подальше. А то ведь начнут задавать странные вопросы: «А какие перед вами цели?», «А как вы сами влияете на их достижение?», – смеется Дмитрий.
– И каков же правильный был вариант ответа, если не залезать в шкафчик? – интересуемся мы.
– Ну, например, такой: «Я экономлю расходный коэффициент за счет того, что лучше центрирую полосу в агрегате и снижаю за счет этого обрезь», – без запинки шпарит Горбачев.
Мы посочувствовали мужику из шкафа.
Но, несмотря на все психологические барьеры, перестройка Бизнес-системы «Северстали» из «заговора одиночек» все больше превращалась в широкое революционное движение. Стали появляться руководители, способные мыслить не узкотехнологически, а экономически, системно; не в терминах «давайте новый кран купим», а в масштабах «давайте посмотрим, как нам синхронизировать доменный передел с переделом конвертерным».
«Это была уже более сложная деятельность, нежели простое поднятие эффективности. Она требовала вовлечения большего количества людей, причем принципиально важным было то, чтобы люди почувствовали авторство этой истории, – вспоминает Яков Сергиенко, работавший с ЧерМК в составе команды McKinsey в 2009–2022 гг. – Отсюда слоган „Достичь большего вместе“, с которым начала отстраиваться новая корпоративная культура компании».
Нынешний генеральный директор консалтинговой компании «Яков и партнеры» Сергиенко – надеемся, его не обидит это сравнение – показался нам похожим на Шнитке. Да-да, гениального композитора Альфреда Шнитке. Внешнего сходства никакого, но та же невероятная «бизнес-музыка», понять которую исчерпывающе по силам только подготовленным, наслушанным меломанам.
Важнейшим решением была организационная революция: сокращение уровней управленческой вертикали комбината – от генерального директора до рабочего – с 11 до 5. Топ-менеджеры теряли культивировавшийся десятилетиями ореол небожителей.
Притом что решение проблем через голову непосредственного начальника по-прежнему не приветствуется, к любому из руководителей можно записаться и попасть на прием. Заодно и закрыли столовую для начальников. С тех пор и директора, и простые рабочие едят вместе, за одними столами.
Наиболее фундаментальной задачей была трансформация системы целеполагания. Лозунг «Даешь миллионы тонн чугуна и стали», родившийся как императив советской индустриализации и многие десятилетия бывший залогом боевых и трудовых побед в противостоянии с внешними врагами, перестал быть священным. «С 2013 года мы начали переворачивать парадигму производства, выставив KPI не от объемов, а от клиента, – рассказывает Дмитрий Горбачев. – У нас появился, например, такой KPI, как OTIF, on time in full – вовремя отгруженный, полностью укомплектованный заказ. То есть мы начали отслеживать и стимулировать безупречное следование графику поставок клиентам».
Учет интересов клиента – не только внешнего, но и внутреннего, ведь, по сути, все подразделения ЧерМК являются клиентами друг друга – помогал повысить эффективность на смежных участках металлургического комбината. В проект «Постоянное совершенствование» на этапе развертывания вовлеклись 500 работников ЧерМК, включая руководство. Заработала «Академия бережливого производства» – кузница эффективных кадров, способных двигать проект. Было выбрано 12 пилотных участков, в том числе в одном из отделений копрового цеха, который готовит лом для сталеплавильных цехов. Склад металлолома превратился в настоящий, удобный для сталеплавильщиков «супермаркет». Причем супермаркет правильный, где «лом-товар» разложен по полочкам, обозначен, постоянно пополняется.
За основу был взят принцип «вытягивания» продукта заказчиком. «Если потребность в нашем продукте есть (а она есть!), – пояснял Николай Сумароков, один из авторов и непосредственных участников того эксперимента, – мы его должны произвести и сразу отгрузить».
Новый подход доказал свою эффективность в первую же неделю: работа от заказа позволила снизить запасы, а это замороженный капитал, улучшить управляемость на участке, обеспечить прозрачность учета и повысить общую эффективность оборудования – машин и механизмов, занятых на подготовке лома. Общее производство участка выросло на 17 %, а общая оборачиваемость запасов – в разы. В итоге на смену безразмерному и плохо организованному складу, на который круглые сутки работало все оборудование, пришли так называемые склады ограниченной емкости. Клиентоориентированный подход постепенно распространялся на весь «организм» компании.
Чистое бизнес-творчество
Было бы непозволительным заблуждением представлять дело так, что какие-то мудрые иностранцы, как пришельцы с другой планеты, приземлились в темном, чумазом Череповце и научили русских металлургов, как надо работать.
В этом мифе неправда все. Начиная с того, что большинство из работников глобальных консалтинговых фирм, нанятых Мордашовым, трудились в московских офисах своих международных работодателей и были, подобно Якову Сергиенко, нашими соотечественниками. Другое дело, что они имели доступ к глобальной базе знаний и методик, опробованных ранее в отрасли по всему миру.
Во-вторых, в процессе работы, как мы уже сказали, активно вовлекались местные кадры, сначала отдельные сталкеры, или, как их здесь именовали, «навигаторы перемен», затем они формировали вокруг себя «команды преобразований» и эта деятельность, как круги на воде, захватывала все большее число сотрудников комбината. Фактически люди из McKinsey лишь помогли свинтить и настроить машинку непрерывных изменений в виде эволюционирующей производственной системы компании.
В-третьих, многие приемы и методы, насаждавшиеся «варягами», не были чем-то невиданным. Значительный пласт использованных консалтерами подходов и инструментов так или иначе присутствовал в арсенале советской научной организации труда и производства. Просто некоторые из них были порядком подзабыты или хуже структурированы, ну и, конечно, не были упакованы в столь яркие и модные англоязычные фантики. Цветущее в советские годы пышным цветом рационализаторское движение было ничем не хуже новомодных фабрик идей, а пилотные проекты оказались хорошо забытыми приемами опытного производства. Отдельный вопрос – насколько эффективно эти инструменты советской индустрией применялись (вспоминаем знаменитую юмореску Михаила Жванецкого об изыскании скрытых резервов на ликеро-водочном заводе).
«Ну и, конечно, эти ребята очень хорошо умели слушать и оперативно оформлять и выдавать за свои чужие идеи», – добавляет свою перчинку в историю работы с консалтерами Людмила Гусева, с 1997 года возглавляющая коммуникационный блок «Северстали». Но работали маккинзевцы зверски. Дмитрий Горбачев вспоминает, как они засиделись с консалтерами в мозговом штурме до поздней ночи, набросав от руки какие-то графики, а к утреннему совещанию уже была готова презентация – за ночь ее отрисовал индийский офис McKinsey.
Наконец, специфика и масштаб задач и вызовов, вставших в ходе реформирования компании, оказались во многом уникальны даже для опытнейших специалистов.
По большому счету, это был многолетний совместный проект чистейшего бизнес-творчества. «Масштаб, скорость и глубина, с которыми мы ушли в организационное развитие, были на тот момент беспрецедентными, – признается Яков Сергиенко. – Многие решения стали уникальными, и впоследствии похожие проекты начали инициироваться другими металлургическими и не только металлургическими компаниями в России, в частности ОМК и „Сибуром“. В этом смысле „Северсталь“ выступила первопроходцем, задала моду на выстраивание производственных систем».
Люди важнее железок
В 2010-е годы начала все заметнее выкристаллизовываться важная фишка бизнес-модели «Северстали». Она заключается в сознательном приоритете труда над капиталом в производственной функции компании. Кто-то предпочитал бездумно менять «железо», в Череповце же прежде всего взялись за культуру людей.
При этом и в 2000-е, и в 2010-е инвестированы серьезные средства в модернизацию производственных мощностей. Реконструированы третья и четвертая домны, в 2024 году дошла очередь капитально ремонтировать пятую: после ремонта обновленный агрегат существенно повысит производительность и экологические характеристики.
Гордость прокатного производства, стан горячей прокатки 2000, хоть и работает на комбинате с 1975 года, в нем трудно найти узлы, которые не прошли многочисленные замены и модернизацию. Уже не говоря о том, что у сегодняшнего агрегата другие «мозги» и управляется он при деятельном участии искусственного интеллекта. А еще в нулевые годы сотни миллионов долларов были инвестированы в оборудование для производства продукции с высокой добавленной стоимостью – технологические линии полимерных покрытий металла и оцинковки холоднокатаного листа, которые и сегодня выглядят как интерьер космического корабля. По сути, сегодняшний ЧерМК с точки зрения оборудования мало общего имеет с советским наследием.
И тем не менее принцип «люди важнее железа» на ЧерМК доминирует. Главным его проповедником является сам Алексей Мордашов. На внутренних встречах он любит цитировать главного мечтателя в истории человечества – писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль».
Этот принцип декларируют многие компании, некоторые не только провозглашают, но и честно пытаются реализовать. Но фишкой «Северстали» является то, что для нее эта максима стала неотъемлемой частью Бизнес-системы. Над корпоративной культурой здесь работали не менее системно, чем над производственными процессами.
Еще в 2010 году, когда цель компании формулировалась как «стать лидерами мировой металлургии по показателю EBITDA», глава «Северстали» назвал две группы критериев, по которым будет измеряться движение вперед: «Первая группа связана с культурой… Вторая – бизнес-цели: доходность, прибыльность, рентабельность».
Говоря о культуре, Мордашов признал, что значимость ее для компании гораздо выше, чем, к примеру, современное оборудование или новые технологии: «Успех или неуспех определяется людьми. Оборудование можно купить. Новые технологии можно освоить. А вот изменить отношение людей к делу – то, что мы называем культурой, – гораздо сложнее… Это называется вовлеченностью, когда каждый работник, прежде всего руководитель, не только сам следует принципам и демонстрирует наши ценности, но и вовлекает в это других».
Алексей Мордашов был последовательным: в этом же 2010 году сменилась почти вся команда руководителей дивизиона «Северсталь Российская сталь» во главе с генеральным директором. В руководство пришли люди, которые, по мнению Алексея Александровича, разделяют ценности, главная из которых – уважение к людям. Чтобы создать настоящую команду единомышленников, на «Северстали» развернули проект «Изменения культуры». Для достижения его целей были определены три практических пути: улучшение социально-бытовых условий, создание прозрачных и понятных процессов управления персоналом (найма, оценки, обучения, продвижения, мотивации) и выстраивание диалога с коллективом. «Уровень информированности работников оставляет желать лучшего, – комментировал результаты корпоративного социального исследования в 2010 году Алексей Мордашов. – Мы намерены пересмотреть и улучшить существующую систему обратной связи».
Одним из нововведений, работавших на эту цель, стало создание единой газеты «Северсталь», которая теперь помогала подразделениям делиться лучшими практиками со всеми предприятиями компании. Это сложно было сделать, издавая отдельные многотиражки. Чтобы сократить расстояние между руководством и коллективами многочисленных активов, появились новые каналы передачи информации о насущных проблемах снизу – через SMS. Ответы руководителей на вопросы сотрудников, в том числе главы компании, начали публиковать в новом печатном органе «Северстали» практически еженедельно.
Результатом всех этих изменений стал феноменальный рост доходности бизнеса «Северстали». Так, к 2017 году маржа EBITDA достигла гроссмейстерской в мировой металлургии отметки 32,8 %. Ни одна металлургическая компания в мире не может похвастаться таким результатом.
Приведем лишь одно красноречивое сопоставление. По итогам 2017 года, если сравнивать с предкризисным 2008-м, маржа по EBITDA выросла почти на треть, с 24 до 32,8 %, притом что физические объемы производства за этот период снизились на 40 % в силу продажи зарубежных активов (11,7 млн тонн против 19,2 млн). Отказ от гонки объемов производства посредством целенаправленных сверхусилий был конвертирован в один из самых высоких в мировой металлургической отрасли показателей рентабельности бизнеса.
Естественно, конкуренты не стоят на месте. На технологическом радаре, в части цифровизации и роботизации металлургического производства, сильно продвинулся Китай. Сегодня эта страна не просто объемный лидер мировой черной металлургии – здесь производится более половины стали планеты, а из 50 крупнейших по физическому объему выпуска сталелитейных компаний мира чуть меньше 30 сегодня китайские, – но и в значительной степени законодатель мод и трендсеттер.
Ну а что касается качества продукции, например, среднего числа дефектов на километр проката, то тут «Северсталь» приблизилась к Олимпу, но господствуют на нем пока японцы и корейцы. Можно ли взять и эту высоту?
Адресовав этот вопрос Якову «Шнитке» Сергиенко, мы получили нетривиальный, отрезвляющий ответ: «Рассуждать об абстрактном качестве не имеет большого смысла. Качество – конкретная категория, определяемая наличным составом оборудования, типом входящего потока сырья и производимого продукта. Электрометаллургический комбинат, работающий на
однородном ломе, некорректно сравнивать с интегрированным комбинатом полного цикла, работающим на железорудном концентрате и коксе. Или есть, скажем, суперинвестированная корейская POSCO, производящая сталь, допустим, чуть лучшего качества, чем ЧерМК, но она существенно менее эффективная как бизнес-актив. Любое качество должно быть экономически оправданным в контексте условий рынка, где эта сталь будет потребляться. Можно расшибиться и начать делать металл по качеству лучше POSCO, но этот металл будет „золотым“ и его в России никто не купит».
Устать сложнее, чем не устать
К концу прошлого десятилетия стало ясно, что догоняющая мировые бенчмарки модель развития череповецкой компании исчерпала себя. Во весь рост встала нетривиальная задача генерировать собственные смыслы и ориентиры дальнейшего развития компании. Ядром новой корпоративной стратегии «Северстали», утвержденной в 2018 году, стала клиентоориентированность и человекоцентричность.
Это был своего рода кризис среднего возраста для компании – команде предстояло ответить на вопрос: «Какова она, новая „Северсталь“?» После долгих обсуждений было сформулировано актуальное видение компании: «Северсталь» должна стать лидером металлургии будущего и компанией первого выбора для сотрудников, клиентов и партнеров, работать в которой безопасно и привлекательно».
И видение это питало вовсе не абстрактное человеколюбие, а стальной расчет: не могут люди, которые не чувствуют себя на своих рабочих местах комфортно, уважаемо, обеспеченно и безопасно, давать лучший сервис клиенту.
История разработки новой стратегии компании стартовала в 2017 году. Одним из ее главных генераторов и проводников стал нынешний генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев. Собственно, его назначение на высший исполнительный пост в компании и стало следствием выбора главным акционером концепции перемен.
Уроженец вологодской деревни Коротово, по первому образованию инженер-механик, Александр Шевелев на первый взгляд совсем не похож на топ-менеджера индустриального гиганта. Невысокий, худой, подвижный, улыбчивый, с цепким живым взглядом, он больше напоминает научного сотрудника средних лет, очень увлеченного темой своего исследования. Впрочем, есть в нем что-то и явно инженерное, прогрессивное и одновременно про людей, и эта рабочая инженерная косточка, полное отсутствие любого позерства и пафоса сильно подкупают и резко повышают эффективность коммуникации.
Начав трудовую карьеру в 1997 году, Шевелев за пятнадцать лет прошел все ступеньки рабочей лестницы от слесаря-ремонтника до исполнительного директора Череповецкого сталепрокатного завода (в 2004 году завод в качестве подразделения «Северсталь-метиз» вошел под зонтик большой «Северстали»). В 2012 году на полтора года он ушел во власть – работал заместителем мэра Череповца и целым вице-губернатором области, затем вернулся на пост гендиректора «Метиза», а потом еще полгода успел поруководить деревообрабатывающим бизнесом Мордашова, холдингом «Свеза», который является крупнейшим в мире производителем березовой фанеры.
«На момент моего прихода в „Северсталь“ ее стратегия была сфокусирована в основном на одном направлении – снижение издержек, повышение операционной эффективности, где компания была явным лидером, – вспоминает Александр Шевелев. – У „Метиза“ была другая стратегия – выстраивание специализированных продуктовых направлений, уход в ниши, сопровождение клиента после продажи. И этот подход давал хороший результат. В большой „Северстали“ также уже был накоплен огромный опыт по работе со сложными продуктами и требовательными клиентами, поэтому мы с командой предложили главному акционеру пересмотреть стратегию дальнейшего развития предприятия: не теряя фокуса на операционной эффективности, построить клиентоцентричную компанию с фокусом на решение задач наших покупателей. Компанию, в которой будут работать лучшие таланты в отрасли, способные создавать сложные и высокомаржинальные продукты и решения, обеспечивать высочайший клиентский сервис. И Алексей Александрович нас поддержал, дав мандат нашей команде на реализацию новой стратегии».
Основными ингредиентами стратегического коктейля нового розлива стали четыре приоритета. Первый – по-прежнему операционная эффективность. На этом треке до сих пор есть количественная цель: быть лучше ближайшего конкурента по сквозной себестоимости (с учетом эффекта от продаж железорудного сырья) не менее чем на 15 %.
Второй – формирование превосходного клиентского опыта. Эта непривычная, явно калькированная с английского excellent client experience формулировка значит ровно одно – неслыханный ранее уровень внимания к покупателю. И это не вежливые письма и кофе с печеньками в приемной, а такой большой набор инструментов, что быстро и не расскажешь, – поведаем вам об этом в отдельной главе (см. «Мы продаем не сталь»).
Следующая фишка – новые возможности. Прежде всего это цифровизация, резко меняющая представление об эффективности технологических процессов, и, шире, тестирование различных направлений, способных устроить революцию в металлургии, – тут и венчурные инвестиции в материаловедение (металлопорошки и композиты), водородную энергетику и прочие пионерские изыскания, нащупывающие точки прорыва нынешнего технологического периметра отрасли.
Наконец, это продолжение совершенствования корпоративной культуры компании.
«Сколько же можно ее совершенствовать? – удивились мы. – Разве в компании уже не все в порядке с коллективом? Уважение, человечность, взаимопомощь процветают, никто не злоупотребляет крепкими жидкостями и даже матом не ругается».
«Нам по-прежнему не хватает вовлеченности сотрудников, а значит, креативности и готовности раскрывать свои таланты, – урезонил нас Шевелев. – Мы исходим из того, что любая технология, любое оборудование, любой продукт могут быть скопированы. Не может быть скопировано только одно – это отношение людей к своей работе, своим коллегам, своей компании, своему продукту и своему клиенту. Это и должно стать и станет нашим конкурентным преимуществом».
Алексей Мордашов:
«Я человек, который очень быстро передвигается в пространстве»
– Я был очень талантливым студентом. Круглый отличник. Ленинский стипендиат. Я прогуливал две трети учебного плана – занимался наукой, сидел в библиотеке, ходил в публичку, много читал. И получал только пятерки. Такой у меня был внутренний непонятный драйв, который всегда помогал мне двигаться вперед. И порой мешал потом в отношениях с людьми. Но меня мало это пугало. И так до сих пор.
Я шел первым по распределению. Из предложенных вариантов работы мог выбрать любую. Меня оставляли на кафедре, но мне хотелось на производство, в настоящую жизнь. Решил ехать домой. В Петербурге ждало общежитие, перспектив получения жилья нет. А в Череповце жили родители. Они очень помогли мне тогда, царствие им небесное.
Естественно, пошел работать на комбинат, куда же еще? На самое большое, самое значимое предприятие. Я учился на инженера-экономиста в машиностроении. А что такое машиностроение на комбинате? Ремонтная служба. Я пришел к начальнику ремонтного механического цеха № 1 Каморину. Он говорит: «Слушай, у нас экономисту 74 года. Она, конечно, свои таблицы еще рисует, но уже как-то надо, наверное, двигать ее на пенсию. Давай, ты год с этой дамой поработаешь, а потом ее заменишь».
Меня сразу заметили как человека, который очень быстро перемещается в пространстве. Когда мне нужно было попасть в какую-нибудь из комнат, я бегал. Не ходил, а бегал. Мне нужно было быстрее. Я бежал по коридору. И это многим выносило мозг. Все привыкли, что экономист – это такая серьезная тетя. От нее зависит, план выполнен или не выполнен. А тут пришел парень, который бегает. Шок.
Конец 80-х, перестройка, эксперименты тогда были в моде. Я хотел перевести свой цех с учета по нормо-часам, которые были неправильные и затратные, на цены внутренние, адекватные. Чтобы их установить, нужно было обработать много данных. Я договорился с айтишниками. Да, тогда уже существовали айтишники. Система 10.36 с перфокартами. Ночами их набивал. Принес это все начальнику цеха – вот такими формулами можно цены определять. И нам поменяли систему подсчета результатов: с нормо-часов на условные тонны. Так правильно все нарисовал, что мы в итоге хорошо выполнили план. Нам причиталась большая премия. И все сказали, что это правильная система. А этот парень – хороший специалист.
Где-то в середине 1990 года вызывают меня в кадры. Говорят: дело такое, Алексей, есть идея отправить тебя на стажировку в Австрию. Советский Союз тогда лихорадочно пытался искать какие-то пути реформирования своей неэффективной системы. Было понятно, что все движется в сторону рыночной экономики. У нас ее нет, а на Западе есть. Надо ее изучать. И Министерство черной металлургии решило отправить группу из пяти перспективных менеджеров с заводов на стажировку в Австрию. Вышла разнарядка: один человек с Орловского сталепрокатного, один с Первоуральского новотрубного, еще один с ЧерМК, а Новолипецкому комбинату достались две «путевки»: одну дали реальному специалисту, а вторую – сыну министра металлургии СССР Серафима Колпакова. Много слухов по этому поводу потом слышал – почему именно меня отправили от ЧерМК? А ларчик открывался просто – нужны были мужчины не старше 30 лет с экономическим образованием и с хотя бы базовым знанием немецкого. У нас в экономическом отделе было всего пять мужчин, двое из них – до 30, и только я один изучал немецкий в школе. Вот и все.
Еще одна история, которую журналисты любят додумывать, – конфликт, который случился у нас с тем самым сыном министра. Мы приехали, я с горящими глазами – давайте тут все изучать, набираться знаний. А он никуда не торопится – чего ты лезешь? Он предпочитал изучать европейские развлечения, а не производственные процессы… И все кончилось тем, что он нажаловался папе и меня со стажировки отозвали дней на десять раньше, да еще и с черной меткой. Уже потом мне Липухин (директор ЧерМК) рассказывал: министр ему звонил лично и ругался. Но моей карьере это, наоборот, помогло. Юрий Викторович и сам с министерством конфликтовал постоянно. А супруга его, Раиса Ивановна, была начальником отдела обучения ЧерМК и реально рулила кадрами она, а не директор по кадрам. Раиса Ивановна решила, что я крутой парень: не только показал себя на работе, но еще и с министерством заелся. Женщина она была энергичная, боевая. А тут как раз замначальника планового отдела Валентина Васильевна Чистякова отказалась занимать место уходящего на пенсию начальника по семейным обстоятельствам: у нее мама тяжело заболела.
Так я стал замначальника планового отдела 18 декабря 1991 года в 25 лет. Все были в шоке от того, насколько молод и зелен новоиспеченный замначальника, в том числе сам Юрий Викторович, который не поверил своим глазам, когда увидел воочию, какого юнца назначил на ответственную должность по совету жены. Да и для меня такое назначение было огромным сюрпризом – был уверен поначалу, что вышла какая-то ошибка. А Валентина Васильевна на прощание устроила мне боевое крещение: отправила месяца на три-четыре по цехам комбината. Это один из самых интересных и полезных периодов моей работы, мне было безумно важно на каждом участке докопаться до сути, а в итоге я получил огромный задел на всю оставшуюся жизнь. Я в значительной степени разобрался в производстве. И потом, когда мы разбирали производственные темы, уже очень неплохо во всем ориентировался.
Крах Советского Союза я встретил уже в должности заместителя начальника планового отдела. А 18 декабря 1992 года меня назначили финансовым директором. В самый, так сказать, интересный исторический момент. Интересней не придумаешь.
Это была прямо какая-то новая реальность. Как будто тебя с Земли на Марс перенесли. Как будто сила тяжести уменьшилась в два раза. Сейчас в это трудно поверить, но в советской системе счетами предприятий в банках управляли не сами предприятия, а банки. И вдруг в одночасье появилось то, что теперь мы называем корпоративной финансовой системой. Еще вчера деньги у предприятий как бы были всегда, а теперь нужно платить только из тех средств, которые есть на счете. Еще вчера заводы и фабрики обеспечивало оборудованием и сырьем государство, поставки производились по разнарядкам Госснаба, оплата была неважна и никак не влияла на поставку, а сегодня нужно все покупать за реальные деньги. Самим проставлять акцепты, самим давать
команды банку на платежи. Я помню: заходишь в финансовый отдел, там три девочки, три стола, а полкомнаты занимает гора счетов. Они не справлялись. У меня был знакомый. Будучи владельцем небольшого ремонтного предприятия, он приходил к девочкам с коробкой конфет, находил в стопке бумаг свои счета, клал сверху коробки на стол. И тогда платеж вне очереди обрабатывался.
Все и везде уже было в тотальном дефиците, и прежде всего – деньги. Когда сегодня мы слышим, что пришли какие-то реформаторы, взяли и развалили замечательную страну, – тут даже спорить бессмысленно. Так говорят либо те, кто в те времена еще не достиг сознательного возраста, либо те, у кого очень плохая память. Когда Егор Гайдар стал заместителем председателя правительства РФ, золотовалютные остатки России насчитывали 60 миллионов долларов. Это был тотальный экономический коллапс. Огромный внешний государственный долг. Главная тема новостей – даст МВФ кредит или не даст. Если даст, заплатят пенсию. Не даст – не заплатят.
О производительности труда в позднем СССР говорили без умолку, но на деле желание работать уничтожалось десятилетиями. Зачем прыгать выше головы, если все получали более-
менее сходную зарплату. Система принятия решений в стране тоже была парализована огромным бюрократическим аппаратом. К середине 80-х все это по совокупности стало запретительным барьером даже не для развития, а для элементарного функционирования экономики. Да и простому народу система в конец осточертела, люди устали от дефицита, устали от бюрократии и отсутствия мотивации куда-то двигаться. Только частная инициатива была способна понять спрос, реагировать на него, брать на себя риск, действовать. Очевидно, что без коренного демонтажа системы, без развития рыночных отношений, без появления частной собственности было невозможно спасти страну.
О том, как именно проходила в России приватизация, уже написаны десятки отдельных книг. Чековые фонды, залоговые аукционы, рейдерские захваты, криминал – всего этого нам на Череповецком металлургическом удалось избежать. Мы стали частным предприятием мирно и в полном соответствии с законодательством. Просто потому, что действовали грамотно и не лезли на рожон. Такая история для тех времен – скорее редкость.
Предприятие акционировалось в сентябре 1993 года. 24 сентября я ездил в мэрию, получал удостоверение о регистрации АО «Северсталь». Название предложил председатель Совета трудового коллектива Андрей Евсеевич Бобров, очень уважаемый в те времена человек. Всем оно тут же понравилось – патриотично звучит, возражений не вызвало.
Акции были распределены среди трудового коллектива – как было положено по закону. Но когда собственниками являются все – это значит, что собственником не является никто. Более того, может прийти кто-нибудь со стороны, скупить акции у сотрудников и захватить комбинат, выжать из него последние соки и испариться. В те времена это была главная угроза для любого серьезного предприятия, и нередко она реализовывалась, и все искали способы от нее защититься.
Чтобы ее избежать, 12 августа 1993 года решением все того же Совета трудового коллектива создается компания «Северсталь-Инвест», в которой 76 % принадлежит Мордашову Алексею Александровичу и 24 % – Череповецкому металлургическому комбинату – «Северстали».
Решение это было продиктовано тем, что в приватизации тогда по закону могли участвовать только физлица и юрлица с долей участия государства не более 25 %. А «Северсталь», очевидно, на тот момент была государственная. «Северсталь-Инвест» в дальнейшем стал основным накопителем денег для скупки акций самого предприятия. Происходило это так. Мы («Северсталь-Инвест») покупали металл у «Северстали». Важно подчеркнуть – покупали по тем же самым ценам, что и все, но просто с отсрочкой оплаты месяца на два (хотя и для внешних контрагентов такие отсрочки в те времена не были редкостью). За это время металл успевали реализовать, в том числе и по бартеру, который в то время на фоне всеобщих неплатежей расцвел пышным цветом. Очень много продукции мы отправляли, например, автозаводам в обмен на автомобили, которые потом продавали за живые деньги. А на вырученные деньги скупали акции, аккумулируя их в «Северсталь-Инвест».
Я слышал критику, что, дескать, на эти деньги, которые мы тогда получали от продажи металла, надо было не акции скупать, а пускать их на зарплату людям. Отвечаю. Зарплату людям платили. Она была рыночной, иначе кто бы у нас остался работать. В то время была задержка, где-то два месяца. Но это была очень небольшая задержка на фоне того, что происходило тогда в стране. В Воркуте, когда она еще не была под руководством «Северстали», люди ждали зарплату по шесть месяцев. Так что наши задержки были связаны не с нашей деятельностью, а с тем, что в стране царил кризис неплатежей везде и всюду. И потом: то, что мы ворочали огромными деньгами, которые коренным образом могли бы изменить ситуацию на предприятии, – это просто миф. Прежде всего потому, что огромные деньги тогда просто были не нужны, чтобы выкупить комбинат, который целиком стоил тогда что-то около 66 млн долларов. Сегодня компания, несмотря на дорогой доллар и санкции, стоит почти 12 млрд долларов, потому что это абсолютно другая компания.
Так вот, затем 51 % акций компании «Северсталь» был выставлен на торги в соответствии с законодательством. Работники комбината любого уровня могли подписаться, но не более определенной суммы. Даже пенсионеры. И многие подписывались, а потом выкупали. Именно поэтому сегодня каждый десятый житель Череповца и Череповецкого района – акционер «Северстали». Но далеко не все понимали тогда значимость этих ценных бумаг, хотя мы агитировали, ходили по цехам, всех уговаривали, рассказывали, что защищаемся от враждебного поглощения. Начальники это осознавали, поэтому все подписались на максимальную сумму. Платить можно было ваучерами и кэшем. Цена была по закрытой подписке по номиналу – сущие копейки, как того и требовал закон. А на открытом рынке акция «Северстали» тогда стоила 3 доллара. В итоге 48 % компании было выкуплено членами трудового коллектива. Остальные 3 % впоследствии были выставлены на торги. На чековом аукционе в апреле 1994 года консолидация акций комбината «Северсталь-Инвестом» была продолжена: компания приобрела за ваучеры 26,6 % из выставленных на торги 29 % АО «Северсталь».
Я могу говорить об этом открыто и подробно, потому что все это было законно. И мое участие в приватизации было продиктовано поставленными передо мной целями, которые я блестяще выполнил, – защитить комбинат от покупки кем-либо сторонним. Я просто хорошо сделал то, что мне поручили.
Приходилось слышать и такое мнение: дескать, Липухин подарил Мордашову завод. Или Мордашов его как-то отжал. Но ведь Липухину ничто не мешало сына, например, поставить во главе «Северсталь-Инвеста». Или дочь, или еще кого-нибудь. Или самому встать. Он же не стал этого делать. И причины две. Вторая причина, я думаю, была в том, что они просто до конца не понимали, как все это сделать. Это сейчас любой студент-экономист понимает, что такое акционерный капитал, а тогда даже руководители крупнейших предприятий в теме не разбирались. Но самая главная, первая, причина была очень простая. Это же 1993 год, всего 2 года российскому капитализму. Все боялись, что вот сейчас эта вольница быстро закончится и те, кто побежал впереди паровоза, в лучшем случае окажутся в тюрьме. Когда моя мама узнала про эту схему, про «Северсталь-Инвест», она сказала: «Алексей, зачем ты в это влез? Они тебя подставят. Тебя посадят». Наши мамы были из того же поколения, что и директора. Они боялись, что за это дело потом по голове настучат. Вот и решили бросить кого-нибудь, кого не жалко. А потом, когда уже стало понятно, что рыночная экономика – это надолго, а владелец акций – это владелец предприятия и что он всем командует, да еще и получает доход, да еще и предприятие я начал вытягивать, – тут уже началась совсем другая история.
Нужно еще понимать, что за актив мне достался. Рентабельность Череповецкого металлургического комбината, когда я его возглавил, была минус 10 %. Это было глубоко убыточное предприятие с целым шлейфом самых разных проблем. Того ЧерМК, который был приватизирован государством, сейчас не существует, его больше нет. Если посмотреть на нынешний комбинат и все наши ГОКи – это принципиально другие предприятия, имеющие очень мало общего с тем, что было там 30 лет назад.
За это время они прошли глубочайшую реконструкцию, перевооружение, изменение всей системы управления, мотивации, развития – все у нас изменилось кардинально. Поэтому, когда сейчас я слышу иногда, что вот такой жирный лакомый кусок достался какому-то, так сказать, раздолбаю… Ребята, те заводы и фабрики, большие и маленькие, которые действительно достались раздолбаям, уже давно распилены на металл. А нашей команде пришлось очень-очень попотеть, чтобы получился тот «лакомый кусок», которым предприятие теперь действительно является.
Приватизацию не я придумал. Это было общее решение. Все тогда были от него в восторге. Можно было пойти по какому-то иному пути? Наверное. Но пошли по этому. И важно же, что в итоге. А в итоге – колоссальный рост уровня жизни. По сравнению с той обстановкой, которая была в начале 90-х, жизнь россиян сегодня можно без всяких натяжек назвать процветанием. Изобилием, которого еще никогда не было в истории страны. Оно откуда пришло-то? А вот от таких предпринимателей, как мы, и пришло. От тех, кто не побоялся взять на себя риск, кто умел вовремя учиться, кто искал и находил лучших в отрасли людей и выращивал своих. Кто в конечном счете и раскрутил экономику.
Я очень много раз приводил в пример восточную поговорку: когда караван разворачивается, последний верблюд становится первым. Когда развернулся весь советский караван, то я, последний верблюд в советском караване, оказался автоматически первым. И в ситуации, когда система развалилась, получилось, что я, незашоренный, молодой, энергичный и хоть чему-то где-то учившийся, оказался в нужное время в нужном месте. Был очень активен и наивен одновременно. И мне очень повезло. Что никто не добрался до меня и до нас. Что Липухин переоценил себя, недооценил меня. При этом я хочу сказать, что он хороший руководитель и человек. В старой системе координат, наверное, Юрий Викторович был одним из лучших красных директоров. Мы всегда держались строго в рамках уважения друг к другу. Наши пути разошлись, и какие-то взаимные обиды остались, но я ему благодарен за опыт и за вот это взаимное уважение. И именно я хоронил Юрия Викторовича в Санкт-Петербурге, когда он в 2011 году умер.
Такова жизнь, и в ее течении каждый видит свое. Кто-то – козни. Кто-то – предназначение. Кто-то – гениальное провидение. Ничего этого в моем случае не было. Это было стечение обстоятельств. Я попал в струю. Я был очень способный энергичный парень. У меня и по сей день высокая, сумасшедшая энергия. Я даже не знаю, почему и откуда она берется и по сей день. Это внутренний огонь. Он всегда меня драйвит. Второе: я достаточно неглупый, судя по всему. И третье. У меня хорошие этические ценности. От базовых «не убий, не укради» до элементарного уважения к людям. Все. И в этом караване я был последним верблюдом. Но караван развернулся, и я оказался первым.
Глава 2
From Russia with steel: закалка Западом
Приватизация и наведение элементарного порядка – победа над откровенным воровством, пьянством и бесхозяйственностью на комбинате – остались позади, девальвация 1998 года принесла первые крупные доходы на экспортных рынках, ЧерМК стал показывать устойчиво положительные финансовые результаты. Появление свободного денежного потока поставило непривычный вопрос – куда вложиться? Выбор, по сути, определял траекторию стратегического развития компании как минимум на ближайшее десятилетие.
Первые решения после завершения фазы выживания были фактически безальтернативными – «Северсталь» выстраивала вертикальную технологическую интеграцию, приобретя контроль в своих «родовых» поставщиках сырья.
В 1999 году был куплен «Карельский окатыш», в 2001-м – Оленегорский ГОК, в 2003-м доведен до контрольного пакет акций «Воркутаугля». А годом ранее в схватке с другими металлургами удалось заполучить контроль над еще одним поставщиком коксующегося угля – компанией «Кузбассуголь». А вот контроль над железорудным Ковдорским ГОКом, закрепленным за ЧерМК в советской плановой матрице, достался группе «Еврохим». Тем не менее фундамент для бесперебойных поставок сырья по стабильно низким внутренним ценам, а значит, для сквозного управления себестоимостью был заложен.
И дальше «Северсталь» оказалась перед стратегической развилкой. По большому счету она выглядела так – развиваться «вовнутрь» или развиваться «вовне». Первый вариант подразумевал масштабную модернизацию основных фондов комбината, фокусировку инвестиций на тотальное технологическое перевооружение предприятия. Второй – быстрое масштабирование контролируемого металлургического бизнеса за счет приобретения действующих и строительства новых профильных активов. Причем, так как к этому времени в России бесхозных либо выставленных на продажу интересных металлургических и смежных (угольных, железорудных) активов уже не осталось, речь шла именно о зарубежной экспансии – покупках и гринфилдах на зарубежных рынках.
Алексей Мордашов со своей командой решили, что это не альтернатива, а две параллельные возможности – международная экспансия шла на фоне обновления основных фондов.
Конечно, нельзя умолчать об ответвлениях от основного сюжета – так, в 2000 году по инициативе директора по продажам «Северстали» Вадима Швецова компания покупает Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный заводы, на базе которых через два года образуется автомобильная дочка группы – компания «Северсталь-Авто». Акционерный контроль над ней в
2007 году переходит лично к Швецову в обмен на миноритарный пакет «Северстали», и в дальнейшем на базе этих активов выросло ПАО «Соллерс» – одна из крупнейших на данный момент автомобилестроительных компаний России. Но все же стратегическое содержание развития «Северстали» в первое десятилетие нового века определил вовсе не этот автомобильный «боковик», а масштабные инвестиции на американский и европейский рынки.
Этого требовал не только «ген глобальности», но и ряд вполне прагматических обстоятельств, которые мы обсудим чуть ниже. Но вот размах зарубежной экспансии, в которую были вложены несколько миллиардов долларов не только собственных, но и заемных ресурсов, был, оглядываясь назад, пожалуй, чересчур амбициозен – эта ставка сыграла бы полностью лишь в случае благоприятного стечения рыночных обстоятельств. Но не будем торопиться с оценками.
Весьма показательной для решения вопроса о том, развиваться «вовнутрь» или «вовне», оказалась поездка в Штаты в конце 90-х годов, в которую отправились Алексей Мордашов и занимавший тогда позицию главного стратега компании Вадим Махов. Технологи с ЧерМК поставили вопрос ребром: требуется срочно выделить 200 млн долларов для реконструкции кислородно-конвертерного цеха. В то время для компании это была совершенно фантастическая сумма, и череповчане полетели на американский завод компании LTV, чтобы ознакомиться с их технологическим уровнем производства. По итогам визита оказалось, что у американцев конвертер еще более старый, чем работавший на тот момент в Череповце, но с поддерживающими капексами и сравнительно скромными инвестициями в оснастку и вспомогательное оборудование агрегат показывает отличные характеристики, и менять его никто не собирается. На обратном пути Вадим Махов, как гласит корпоративный эпос, говорит Алексею Александровичу: «Ну вот, одной поездкой мы с вами сэкономили 200 млн долларов».
Мордашов отреагировал более радикально, заявив коллеге, что в дальнейшем все точки принятия технических и экономических решений в компании будут сверяться с глобальными бенчмарками. Это оказалось принципиальным решением, определившим стратегию развития и образ действия компании «Северсталь» на многие годы вперед – она не бездумно вбухивает средства, а добивается максимально высокой эффективности.
Размер имеет значение
«Чтобы понять мотивы менеджмента компании в решениях о зарубежной экспансии, надо окунуться в контекст металлургической отрасли, в котором она – и наша компания не исключение – тогда находилась, – приглашает к размышлениям Андрей Лаптев, в 2005–2018 годах возглавлявший подразделения „Северстали“ по стратегическому планированию и корпоративной стратегии. – Наша отрасль до самого последнего периода была абсолютно глобальной.
Сталь – суперторгуемый товар, до 40 % этой продукции на пути к потребителю пересекает государственные границы. И самочувствие отрасли в каждой стране, будь то Штаты, Индия, Россия или Таиланд, определялось глобальным, а не национальным балансом спроса и предложения».
Обладатель победоносной лучезарной улыбки и диплома с отличием МГУ по специальности «экономическая география», Лаптев стилем и манерами больше похож на инвестбанкира, чем на металлурга. И то правда: главный бриллиант в послужном спис-ке Андрея – он был одним из ключевых персон компании, готовивших IPO «Северстали» в Лондоне зимой 2006-го. Есть «за поя-
сом» у Лаптева и еще несколько «скальпов» – экономические и бизнес-дипломы, полученные в Англии в начале нулевых годов. Блестящий концептуальный ум, приятно сдобренный вкусом к деталям и мужеством обсуждать неудобные темы, делают Андрея полезным и нетривиальным собеседником.
Первая половина 2000-х годов была отмечена невероятным бумом в глобальной металлургической отрасли. Индустриально-инфраструктурный подъем превращавшегося в сверхдержаву Китая, как пылесос, высасывал сталь по всему миру, разгоняя котировки металла и акций сталелитейных компаний. Потребление прокатной стали в КНР с 2000 по 2003 год удвоилось, достигнув 247 млн тонн, а ввод собственных металлургических мощностей пока отставал. В результате неожиданно мировой рынок стали, еще недавно испытывавший перепроизводство, стал остро дефицитным, и это гнало вверх цены.
На этом фоне развернулся бум слияний и поглощений – как внутри национальных рынков, так и на международной поляне. Причина этих процессов заключалась в том, что уровень консолидации сталелитейной отрасли по сравнению с поставщиками сырья и отраслями-потребителями (прежде всего автопромом) был крайне низок, что затрудняло справедливый раздел прибыли в этом «треугольнике».
Пользуясь своей рыночной властью, автопром перетягивал значительную часть маржи, как одеяло, на себя за счет продавливания своих цен. Уже к середине 2000-х годов на первую пятерку крупнейших автоконцернов приходилось 70 % мировых продаж. Тогда как металлургическая отрасль оставалась более раздробленной. Консолидация мировой металлургии стала неизбежной. И она не заставила себя ждать.
В 2002 году испанская Aceralia, люксембургская Arbed и французская Usinor решили сложить свои усилия в единой компании Arcelor. А еще с конца 1990-х развернулось энергичное масштабирование частного металлургического бизнеса магната индийского происхождения Лакшми Миттала: контролируемая им Mittal Steel совершила серию поглощений по всему миру, включая бывшие советские металлургические гиганты в Кривом Роге и Темиртау. Объемы производства Arcelor и Mittal Steel к 2005 году перевалили за 50 млн тонн стали в год, притом что прежние мировые лидеры производили не более 30 млн тонн.
И «Северсталь» включилась в гонку укрупнения. В фокусе внимания сначала оказался американский рынок – хорошо обеспеченный железорудным и угольным сырьем, обладающий сравнительно дешевой энергией и качественной рабочей силой, и вдобавок стабильным спросом на высокомаржинальную стальную продукцию, прежде всего автомобильный прокат. Первой ласточкой зарубежных приобретений череповчан стала покупка Rouge Steel (впоследствии переименована в Dearborn) в штате Мичиган. В декабре 2003 года россияне выиграли аукцион по продаже обанкротившегося пятого по величине производителя стали в США, выложив за актив 285,5 млн долларов. В феврале 2004 года «Северсталь» закрыла сделку, переведя актив на баланс только что созданной своей стопроцентной дочки Severstal North America. Ценность актива заключалась в наличии долгосрочных контрактов на поставку автомобильного листа ведущим американским производителям, прежде всего Ford Motor Co (долгое время Rouge Steel была дочкой Ford).
«В Штатах был выбран понятный нам завод, поменьше размером, чем ЧерМК, но с близкой нам интегрированной технологией получения металла, с понятными методами снижения издержек и драйверами создания стоимости», – рассуждает Андрей Лаптев. Согласовав с профсоюзами увольнение 500 из 2500 сотрудников и щадящую для собственников схему формирования пенсионных обязательств, внедрив собственные управленческие регламенты и ноу-хау, новые владельцы уже в 2006 году смогли вывести актив из убытков – EBITDA составила 143 млн долларов.
Небольшое лирическо-патриотическое отступление. Новый Свет не вызывал восторженных эмоций у представителей «Северстали». Попав в США, череповчане ностальгировали по родине, даже несмотря на то, что русскоговорящих в Детройте, штат Мичиган, около 70 тысяч человек.
– Приготовить вареную картошку с соленым огурцом здесь не проблема, – рассказывает директор по стратегическому планированию SNA Михаил Смирнов, он провел в Америке несколько месяцев. – Есть даже магазины, в которых можно купить шоколад «Красный Октябрь», детское питание, пряники «Тульские», причем русского производства и порой по более низким ценам, чем в России. Можно спокойно туда зайти за бутылкой «Балтики» и вяленым лещом. Есть даже роскошная библиотека и книжные магазины с большим выбором русских книг. Доступны также некоторые российские телеканалы.
Но все эти «целебные средства» все равно не помогали справиться с ностальгией. От мыслей о Родине отвлекала лишь ежедневная работа с 7.00 до 18.00.
– Люди в Америке, в отличие от европейцев, очень гордятся тем, что они своеобразные hard workers – много времени отдают работе, – рассказывает Михаил. – Но в то же время складывается ощущение, что американцы достаточно узко подходят к делу. Основная часть сотрудников редко задумывается над тем, каким образом можно оптимизировать свою деятельность. Они считают, что для этого существуют специалисты из консалтинговых компаний, и это их хлеб.
Нового владельца такое положение дел не устраивало. Представители «Северстали», изрядно поднаторевшие в серьезных преобразованиях на российском предприятии, заменили сторонних консалтеров (и уже этим сэкономили немалые средства), вовлекая в процесс постоянных улучшений широкие массы сотрудников Severstal North America. Это было непросто. Еще в тридцатые годы прошлого столетия Ильф и Петров в своем очерке «Одноэтажная Америка» заметили: «Средний американец терпеть не может отвлеченных разговоров и не касается далеких от него тем. Его интересует только то, что непосредственно связано с его домом, автомобилем или ближайшими соседями…» Спустя 80 лет «средний американец» ничуть не изменился. В бизнесе, по крайней мере у людей, работающих на заводе в Детройте, эту ментальность М. Смирнов определил следующим образом: «Есть проблема – надо решать. Решили – забыли». Сделать так, чтобы исключить проблему в дальнейшем, – это уже подвиг, на который «средний американец» не способен. По крайней мере без какой-то особой мотивации.
Между тем завод в Детройте производил впечатление компании с высоким потенциалом снижения издержек. «Учитывая, что издержки в данном случае прямым образом воздействуют на прибыль, величина этой прибыли не только зависит от рынка, но и находится в наших руках, – продолжает Михаил Смирнов. – От того, насколько мы снизим эти издержки, зависит размер прибыли».
Мотивацию российские владельцы завода нашли очень быстро – идеи по оптимизации стали поощрять долларом. Первым через преобразования на SNA прошел цех производства горячекатаного проката. Ко всеобщему удивлению, люди с энтузиазмом стали относиться к внедрению улучшений. Оказалось, что сотрудники полны идей и готовы высказывать их, чтобы они были воплощены в жизнь.
Благодаря таким преобразованиям российские металлурги расширили цели своей экспансии. В феврале 2005 года «Северстали» удается сделать крупное приобретение на европейском рынке: за 430 млн евро она покупает 62 % акций частной итальянской сталелитейной компании Lucchini, номер два в стране по объему производства. Ее заводы производили почти 4 млн тонн стальной продукции в год. Финансовое положение итальянской компании оказалось подорвано огромным долгом, который стал неприятным побочным эффектом дорогостоящей модернизации мощностей, проведенной итальянцами. Потребовался стратегический инвестор, и Мордашов сумел предложить лучшие условия, оттеснив конкурентов – Arcelor и австрийскую
Voestalpine.
Впрочем, прямой рыночной синергии с покупаемым активом у «Северстали» не просматривалось – итальянцы специализировались в основном на длинном прокате, прежде всего рельсах – то есть продукции, не знакомой череповчанам ни по технологии производства, ни по системе продаж. Эта покупка, как признавали все аналитики, диктовалась единственным мотивом – масштабированием бизнеса.
Но приобретениями дело не ограничилось. В конце 2005 года «Северсталь» затевает в Америке строительство с нуля суперсовременного электрометаллургического завода мощностью
1,5 млн тонн автомобильного листа в год. Инвестиции в предприятие составили $880 млн (собственных средств было вложено около 200 млн долларов, остальное – заемное финансирование). Меньше чем через два года после начала строительства, в октябре 2007 года, сталелитейный заокеанский гринфилд, завод SeverCorr, был запущен. Локация предприятия – Коламбус, штат Миссисипи – была выбрана неслучайно: это ядро мощного автопромышленного кластера, причем растущего – на тот момент об инвестициях в строительство новых заводов на юге США объявил целый ряд европейских, японских и корейских автопроизводителей. Кроме того, «Северстали» удалось получить долгосрочный контракт, зафиксировавший льготный тариф на электричество.
Мотором проекта и гендиректором нового завода стал Джон Корренти, один из ключевых менеджеров компании Nucor, который вместе с Кеном Айверсоном в 1993 году построили первый мини-завод, заложив основы будущего лидера американской металлургии. Прежде считалось невозможным достичь высокого качества проката на электросталеплавильных предприятиях.
В частности, не удавалось получить тонкий сляб. Но Корренти и Айверсону это удалось сделать.
Собственно, сам Корренти и явился инициатором проекта, «Северсталь» выступила финансовым и бизнес-партнером. «Это была типичная предпринимательская, очень американская история, – вспоминает Андрей Лаптев. – Заброшенный угол штата, который власти готовы были оживить серьезными льготами для крупного инвестора, плюс прямые контракты с крупными автомобильными компаниями – покупателями продукции, плюс гибкая, сравнительно дешевая технология получения металла из лома в электропечах».
«Мы верим в силу американской экономики и имеем самые серьезные намерения в отношении американского рынка. Регионы, на которые мы ориентируемся, характеризуются высокой концентрацией потребителей, предъявляющих спрос на нашу специализированную стальную продукцию», – заявил Алексей Мордашов на открытии SeverCorr.
Первая волна зарубежной экспансии оказалась воодушевляющей. К концу 2005 года «Северсталь» заняла двенадцатое место в мире по объему продукции (17 млн тонн) и шестое – по доходу от операционной деятельности (EBITDA достигла 3,1 млрд долларов). И все равно компания оставалась недостаточно крупной, чтобы чувствовать себя сравнительно защищенной на конкурентном рынке. Требовался дальнейший рост за счет приобретения новых активов.
И тут судьба предоставила Алексею Мордашову с коллегами невероятный случай сорвать джекпот – объединить бизнесы с крупнейшей металлургической компанией Старого Света Arcelor, позволяя последней избежать поглощения со стороны всеядного Лакшми Миттала, основателя и владельца Mittal Steel Company N.V.
Суперприз ушел из рук
В конце января 2006 года крупнейшая на тот момент сталелитейная компания мира, англо-голландская Mittal Steel объявила оферту – официальное предложение акционерам – на выкуп акций Arcelor. К охоте за сладкой добычей Лакшми Миттал подошел основательно, подключив к делу все свои лоббистские и пиарресурсы. На стороне индийца работал пул ведущих инвестиционных банков мира во главе с американским Goldman Sachs.
Высший менеджмент Arcelor был поначалу противником сделки. Председатель правления Ги Долле и председатель Совета директоров люксембургского гиганта Джозеф Кинш выражали настороженность отсутствием у покупателя плана долгосрочного развития бизнеса. Уязвило пожилых руководителей Arcelor и то обстоятельство, что оферту Миттал предъявил напрямую акционерам, никак не советуясь и не согласовывая свои планы с менеджментом.
Против были и профсоюзы – за индийцем прочно закрепилась слава хищника, не ставящего ни в грош интересы рабочих и не церемонившегося с увольнениями. Но среди акционеров Arcelor единства не было. Крупными держателями акций являлись американские инвестфонды, которые были не прочь получить быструю прибыль от ожидаемого роста капитализации бизнеса.
Миттал тем временем увеличивал давление и развернул скупку мелких пакетов акций привлекательного актива. Становилось ясно, что Arcelor не миновать поглощения, если не предпринять нетривиальных решений. Нужен был «белый рыцарь» – так на корпоративном сленге именуется новый партнер, выводящий конфликтные стороны из клинча.
Такую роль готов был сыграть главный акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Если Миттал собирался получить контрольный пакет Arcelor, то Мордашов соглашался на 32 % объ-
единенной компании и совсем не доминирующие позиции в ее управленческом контуре.
«И шеф, и Вадим Махов давно поддерживали контакты с топ-менеджерами Arcelor. И в общем-то еще до появления интриги с Митталом французы затевали какие-то разговоры о потенциальном альянсе, – погружает в подоплеку событий двадцатилетней давности Андрей Лаптев. – Им нравились низкие издержки Череповца, и они понимали выгоды получения такой базы в России. Нам в свою очередь нужны были премиальный рынок и технологии».
Первоначально французы общались с представителями «Северстали» снисходительно-высокомерно: «Давайте мы купим у вас завод и все сырьевые активы, и вы лично получите кэш, мы вам поможем купить виллы на юге Франции, чтобы вы себя хорошо чувствовали».
Но череповчане не для того десять лет поднимали свои активы из руин, чтобы так просто «уйти на пенсию». Ответ россиян был однозначен – мы при любом раскладе не уходим из бизнеса и готовы только к равноправной кооперации.
Когда перспектива враждебного поглощения со стороны Миттала стала почти неизбежной, топ-менеджеры Arcelor ухватились за «Северсталь» и ее главного акционера как за спасательный круг. Вот как выглядели параметры альтернативной сделки, предложенные акционерам люксембургской компании.
Алексей Мордашов соглашался отдать принадлежащие ему пакеты акций в компании «Северсталь», а также угольные и железорудные активы, входящие в периметр «Северсталь-Ресурса», и долю в компании Lucchini плюс 1,25 млрд евро. Взамен глава «Северстали» получал 32,2 % акций объединенной компании и право назначать 6 из 18 членов Совета директоров «большой» Arcelor. Поскольку большая часть акций люксембургской компании была распылена среди множества мелких инвесторов (самым крупным принадлежало не более 6 % акций), Мордашов, по сути, становился мажоритарным собственником объединенной компании.
В то же время условия сделки оговаривали мораторий на покупку новых акций Arcelor Алексеем Мордашовым в течение четырех лет и запрет на продажу имеющейся у него доли в течение пяти лет. Более того, голосовать своими акциями мажоритарный владелец объединенной компании сможет только в соответствии с рекомендациями Совета директоров, который он возглавит в экзотическом статусе президента, а не председателя.
В случае совершения сделки объединенная компания становилась безоговорочно крупнейшей сталелитейной корпорацией в мире с оборотом в 46 млрд евро и выплавкой более 70 млн тонн стали в год, что на тот момент превышало объем производства всех металлургических предприятий в России вместе взятых.
На «большой» Arcelor пришлось бы 22 % мирового производства стального листа для автопрома – одного из самых маржинальных продуктов металлургического бизнеса. Arcelor получал также доступ к одной из самых обильных и низких по издержкам извлечения сырьевых металлургических баз в мире и доступ к быстро растущему российскому рынку металла. Выгодно было слияние и профсоюзам: предусматривался пятилетний мораторий на сокращение персонала.
Что касается мотивов «Северстали» и лично Алексея Мордашова, то их по большому счету три – доступ к технологиям и ноу-хау европейских металлургов, доступ на европейский рынок высококачественной маржинальной стальной продукции и, наконец, статус – переход в высшую лигу мировых бизнес-магнатов.
Но ничему из перечисленного не суждено было случиться. Собрание акционеров Arcelor 30 июня 2006 года принимает предложение Лакшми Миттала: контролируемая индийцем империя Mittal Steel заполучает бриллиант в свою корону и становится крупнейшим производителем стали в мире. За сделку с Mittal голосовал и менеджмент Arcelor, всего несколько недель назад дружно ратовавший за альянс с Мордашовым.
Беспринципность руководителей люксембургской компании объясняется просто – вступление «Северстали» в схватку за Arcelor заставило индийца значительно улучшить свое предложение – Миттал удвоил денежную составляющую своей оферты, согласился на сохранение контроля над объединенной компанией у прежних акционеров, довольствовавшись пакетом в 49,5 %, а также подписал меморандум о согласии с основными принципами корпоративного управления Arcelor и ее технологической и научно-технологической политики. Фактически европейцы цинично использовали «Северсталь» и лично Алексея Мордашова в жестком торге с Лакшми Митталом.
«Оглядываясь назад, я бы назвал три причины нашего поражения в борьбе за Arcelor, – размышляет вслух Андрей Лаптев. – Первая, самая главная – акционеры сильно не любили менеджмент Arcelor, им он очень сильно не нравился. А Миттал нравился. Они действительно считали, что Миттал создаст для акционеров объединенной компании больше стоимости. Второе – Миттал организовал действительно гениальную пиар-компанию, яркую, наступательную, используя все каналы влияния вплоть до карикатур в Financial Times на менеджмент Arcelor, который затыкает рот бедным акционерам. И третья, совершенно объективная вещь – „Северсталь“ была в то время непубличной компанией. Мы не имели понятной рынку оценки, у нас не было трек-рекорда публичной отчетности и независимого аудита. Последовавшее через несколько месяцев IPO „Северстали“ в Лондоне было прямым следствием несостоявшегося слияния с европейским металлургическим гигантом».
Мордашов и его команда были обескуражены и расстроены. Триумфа вхождения в высшую лигу мирового бизнеса не произошло. Каково же было удивление менеджмента «Северстали», когда им рассказали, что в тот вечер, когда сделка с Arcelor развалилась, в Череповце был праздник и звон бокалов – оказывается, сотрудники комбината не слишком-то рвались в глобальные небеса. На Руси варягов принято не любить. Несмотря на многочисленные попытки руководства разъяснить коллективу все выгоды глобальной экспансии, на комбинате всю дорогу опасливо рассуждали: «Мы уж лучше как-нибудь сами».
Как сложилась судьба ушедшей из-под носа Мордашова компании в дальнейшем? ArcelorMittal на 13 лет станет абсолютным мировым лидером по выплавке стали, пока в 2020 году ее не
сместит с пьедестала китайский гигант China Baowu Steel Group с циклопическим объемом производства 115,5 млн тонн. Но европейско-индийский колосс оказался с глиняными ногами. Компания с большим трудом пережила 2009 год, когда мировой кризис лишил ее возможности рефинансировать огромный долг и оставил один на один с конгломератом разрозненных, лишенных синергии и эффективного управления активов.
В какой-то момент, чтобы избежать банкротства, Лакшми Миттал вынужден был заводить в компанию собственные средства. Ну а в следующий кризис, 2015–2017 годов, доля Мордашова в «Северстали» уже стоила дороже, чем доля Лакшми Миттала в ArcelorMittal.
«То, что сделки с Arcelor у нас не случилось, пожалуй, даже к лучшему, – рефлексирует Андрей Лаптев. – С чисто финансовой точки зрения остаться „Северсталью“ и развиваться самостоятельно оказалось выгоднее. Хотя делать такие сравнения, конечно, дело неблагодарное. В большой компании это была бы совсем другая жизнь. Мы бы действительно играли уже в глобальную игру, участвовали в кооперации с самыми крутыми клиентами в Европе, которые от нас всегда нос воротили. Но если учесть реалии санкционной войны последних двух лет, то я даже не представляю, как бы мы развивались сейчас. Вероятно, пришлось бы как-то разделять наш европейский и российский бизнесы. Но это было бы невероятно сложно сделать, сложнее, чем „Яндексу“».
Искушение хайпом
Детективом с Arcelor хождение «Северстали» за три моря не ограничилось. В мае-июле 2008 года череповчане покупают у разных собственников (одним из них был вездесущий Лакшми Миттал) три американские металлургические компании – Sparrows Point, WCI Steel и Esmark, выложив в общей сложности кругленькую сумму в 2,5 млрд долларов.
И, как совсем скоро выяснилось, эти заокеанские куски пошли «Северстали» сильно не впрок. К сожалению, приобретенные активы оказались неустойчивы к кризисам и, когда осенью 2008 года цены на сталь рухнули, все эти бизнесы ушли в глубокий минус.
«Я был единственным членом комитета по слияниям и поглощениям, кто голосовал против приобретения этих заводов, – признается Лаптев. – Мне не нравилось их качество, их низкая бизнес-эффективность. Но аргументы менеджмента Severstal North America перевесили опасения. К тому же все мы сильны задним умом».
«Я вас прошу прочувствовать атмосферу невероятной эйфории, в которой мы тогда жили. В 2004 году компания заработала больше, чем в 2003-м. В 2005-м – еще больше процентов на 30, чем в 2004-м. В 2006-м мы сказали себе: все, уже пик, выходим в кэш. И после неудачи с Arcelor провели IPO. Но в 2007-м заработали еще в два раза больше, чем в 2006-м. Это было невероятно! Конечно, элементы эйфории в наших рассуждениях и планах определенно присутствовали», – рассказывает Лаптев. Справедливо отметить, что все сталелитейные компании делали это. Евраз, ММК, НЛМК также скупали зарубежные активы, многими из которых владеют до сих пор.
Как считает Лаптев, аналитики «Северстали» совершили в 2008 году фундаментальную ошибку, приняв мощный, но все же конъюнктурный фактор растущего спроса Китая за долгосрочный эффект от консолидации отрасли. Вероятно, последний тоже присутствовал, но, как только мировой кризис поставил фактор Китая «на паузу», конъюнктура глобального стального рынка моментально развернулась на 180 градусов. «Нас подвели микс неверной интерпретации глобального экономического цикла и драйв, помноженный на жажду славы со стороны американской команды», – сокрушается Андрей.
По словам Лаптева, если бы кризис 2009 года не закончился так быстро, убыточные американские активы привели бы к серьезным финансовым проблемам для всей «Северстали»: «Мы же набрали кредитов под покупки в общей сложности под 5 млрд долларов. Ну и годовая EBITDA у нас была перед кризисом примерно тоже пятерка ярдов. Подумаешь, считали мы, это не страшно – иметь долг размером в одну EBITDA. Но уже на следующий год этот показатель провалился до 1,2 млрд, а долг как был 5 млрд, так и остался. Соответственно, мы получили долговое бремя почти в пять EBITDA! И это было холодным душем».
В итоге три злополучных американских завода были проданы в 2011 году с большим убытком. А три года спустя «Северсталь» избавилась и от первых двух заокеанских металлургических активов, продав Severstal Dearborn (переименованная Rouge Steel) и Severstal Columbus (переименованная SeverCorr) местным консолидаторам, компаниям AK Steel и Steel Dynamics соответственно.
На этом десятилетняя эпоха присутствия «Северстали» в США в качестве производителя завершилась. При этом, по словам Лаптева, выход из последних активов оставил «Северсталь» практически при своих, даже с учетом сделанных инвестиций. Кроме того, к этому моменту в воздухе уже витала санкционная повестка. Помедли еще несколько месяцев – и так выгодно активы продать уже бы не удалось.
Еще раньше, в 2010 году, и тоже совсем без фанфар закончилась история обладания европейским бизнесом Lucchini. Компания классифицировала итальянскую дочку как актив на продажу, который после деконсолидации был признан банкротом и достался банкам. Убыток от переоценки этого актива до справедливой стоимости составил один миллиард десять миллионов долларов. В результате «Северстали» пришлось зафиксировать убытки в первом полугодии 2010 года в размере 593 миллионов долларов.
«История с Lucchini преподала нам урок, что не надо лезть в активы, где мы не получим явной синергии с основным бизнесом, – резюмирует Андрей Лаптев. – Мы хорошо умеем играть в Cost leadership, в управлении классическими активами, а нишевые истории – это все-таки не наша фишка».
Лучше вы к нам
Нажитые на зарубежных рынках убытки и шишки пошли «Северстали» впрок. Последующие альянсы с иностранцами выстраивались уже в иной логике и не на чужой территории, а дома, в России. Альянсы эти выстраивались по мере захода в нашу страну глобальных автопроизводителей и разворачивания здесь сначала чисто сборочных производств, а затем формирования длинного тренда повышения локализации технологических процессов.
Металлурги традиционно заходят в штамповочный и прочий металлосервисный бизнес совместно с производителями автозапчастей. «Северсталь» действовала ровно по таким же лекалам.
В 2009 году было создано совместное российско-испанское предприятие «Гестамп Северсталь Всеволожск». Всеволожское предприятие специализируется на производстве компонентов из листового металла и структурных систем для автомобильной индустрии. Готовая продукция предприятия поставляется на автосборочные заводы Ford, General Motors и Hyundai, расположенные в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
Через год «Северсталь» создала еще одно совместное предприятие с Gestamp, на этот раз в Калужской области. Это СП партнеры оснастили несколькими прессовыми линиями для выпуска кузовных деталей, используемых в дальнейшем на сборочных автозаводах VW, PSA, Renault-Avtoframos калужского кластера.
В 2009 году было создано российско-испанское СП «Северсталь-Гонварри-Калуга», специализирующееся на широком спектре сервисных услуг по продольному и поперечному роспуску металлопроката, вырубке заготовок для дальнейшей переработки металла. Круг клиентов – автомобильные, электротехнические, машиностроительные предприятия.
Еще один партнер «Северстали» по совместному производству – японская Mitsui, с которой череповчане в 2015 году организовали сервисный центр «Северсталь СМЦ-Всеволожск». Функционал завода – обработка автомобильных стальных листов для дальнейшей производственной цепочки создания авточастей.
Впрочем, было бы неверно считать, что все деньги и усилия «Северстали» в середине нулевых годов были сконцентрированы исключительно на проектах и активах за пределами России. Огромный объем работы пришелся в эти годы и на российский рынок.
Был построен «Севергал» – фактически новый завод на площадке ЧерМК, включающий в себя линию горячего оцинкования стального листа мощностью 400 тыс тонн. Была увеличена мощность стана холодной прокатки, запущен стан 5000 для производства штрипса под трубы большого диаметра (ТБД). Совместно с немецкой компанией Interpipe запущен Ижорский трубный завод с новейшим оборудованием по производству ТБД. На площадке ЧерМК модернизированы две доменные печи, построена новая электропечь. Общие инвестиции «Северстали» в развитие российских активов в 1998–2006 гг. превысили 116 млрд рублей.
И что, пожалуй, еще более важно – именно в эти годы «Северсталь» впервые в полный голос заявила о себе как о наиболее инновационной металлургической компании России.
Алексей Мордашов:
«Мы такие люди и такая компания, которые интересуются всем, что есть на белом свете»
– Мы всегда одними из первых чувствовали тренды и имели смелость на них реагировать. В этом наша сила. Мы такие люди и такая компания, которые интересуются всем, что есть на белом свете. Но у медали есть обратная сторона – первопроходцам достаются и первые шишки. Правда, с ними – и ценный опыт.
Среди российских компаний «Северсталь» одной из первых задумалась о покупке зарубежных активов и отказалась от стратегии экстенсивного развития, сконцентрировавшись на собственных конкурентных преимуществах. Я не отрицаю, что мы наделали ошибок и потеряли деньги, которые могли бы не потерять. Но весь опыт, приобретенный нами тогда, в той или иной мере мы использовали потом в других наших проектах, при формировании понимания, какими мы хотим видеть себя в будущем, что и как для этого надо сделать.
