Обратный отсчет
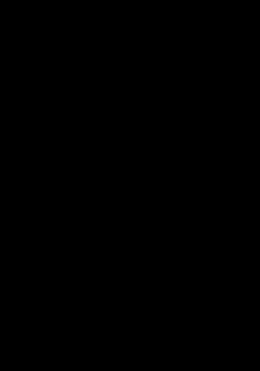
Глава 1. Больничный клоун и Циник
Воздух больничного холла был тяжелым коктейлем: запах антисептика, перебивающий едва уловимые ноты дешевого дезодоранта и тления, пыли из старых книг в углу и… безнадежности. Джейк Картер ненавидел больницы. Ненавидел их белые, слишком яркие стены, гулкую тишину, прерываемую мерзким пиканьем аппаратов, и этот вездесущий запах – запах страха и формалина. Он предпочел бы провести ночь в переулке за сомнительным баром, чем здесь. Но долг есть долг. Коллега, молодой и амбициозный фотограф Марк, сломал ногу, преследуя героя своей (и отчасти Джейка) расследования о теневых схемах в городском управлении ЖКХ. Марк прыгнул с забора, спасая камеру. Идиот. Героический идиот.
Джейк мрачно шел по коридору, сжимая в руке пакет с журналами, шоколадкой и бутылкой дорогого виски (для Марка, конечно, когда выпишут). Его взгляд, привыкший выискивать грязь и подвох, скользил по лицам в зале ожиния: усталые родственники с потухшими глазами, старушка, нервно перебирающая четки, мужчина средних лет, сгорбившийся над телефоном, его плечи неестественно напряжены. Обычная больничная симфония отчаяния. Джейк внутренне поморщился. Он слишком хорошо знал, как быстро жизнь может свернуть в такую вот грязную канаву. Его последнее расследование о фармацевтической компании, тестирующей препараты на бездомных, оставило послевкусие гари и горечи. Мир был гнилым, и больницы были его концентрированной выжимкой.
И тут он ее увидел.
Она сидела одна у огромного окна, залитого холодным октябрьским светом. Не в углу, не съежившись, а прямо по центру скамьи, как будто занимала сцену. Девушка. Молодая, лет двадцать пять, максимум двадцать семь. Джинсы, ярко-розовая толстовка с каким-то абстрактным рисунком, разноцветные носки, выглядывающие из-под кед. Но не это привлекло его внимание. Она рисовала. Не в телефоне, а в настоящем, потрепанном скетчбуке. Карандаш быстро бегал по бумаге. И она… смеялась. Тихим, но абсолютно искренним смехом. Голова ее была слегка запрокинута, каштановые волосы, собранные в небрежный пучок, покачивались.
Джейк остановился как вкопанный. Смех? Здесь? В этом царстве немых стонов и затаенной паники? Это было настолько диссонирующе, что казалось почти оскорбительным. Он прищурился, пытаясь разглядеть детали. Лицо у нее было приятное, открытое, с легким румянцем на щеках и большими, очень светлыми глазами, которые сейчас искрились весельем. Она что-то бормотала себе под нос, затем снова хихикала, глядя на свой рисунок. Выглядела она… беззаботной. Нарочито беззаботной. Как актриса, играющая роль счастливчика в самом неподходящем месте.
"Клоун", – пронеслось в голове Джейка с привычной долей цинизма. "Или просто дурочка, не понимающая, куда попала".
Он собирался двинуться дальше, к лифтам, ведущим в травматологию, но ноги словно приросли к линолеуму. Его репортерское чутье, то самое, что годами вытаскивало его из передряг и находило ниточки в самых запутанных делах, вдруг насторожилось. Что-то здесь было не так. Не вписывалось в картину. Этот смех был слишком громким для тишины зала. Эта поза – слишком расслабленной. А в уголках ее глаз… Он присмотрелся. В уголках ее глаз, когда она на секунду отрывалась от рисунка и взгляд ее рассеянно скользил по коридору, мелькало что-то другое. Микронапряжение. Тень, быстро исчезающая под напором этой демонстративной жизнерадостности.
Джейк невольно сделал шаг ближе, стараясь оставаться незамеченным. Он увидел, что она рисует… клоуна. Неуклюжего, грустного клоуна с огромными башмаками и одиноко висящим воздушным шариком. Ирония ситуации не ускользнула от него. Клоун в больнице, рисующий клоуна.
– И что же ты там такого смешного нарисовал, а? – раздался хриплый голос рядом. Старик в застиранном халате, опирающийся на костыль, присел рядом с ней на скамью, явно заинтригованный ее смехом.
– Именно! – девушка рассмеялась снова, и в этот раз смех звучал чуть более естественно. – Вот он уже летит… бум!.. и арбузный дождь! А шарик один улетел, потому что испугался!Девушка вздрогнула, но тут же одарила старика ослепительной улыбкой. Джейк заметил, как ее пальцы слегка сжали карандаш. – О, это мой друг Грустик! – весело объявила она, поворачивая скетчбук. – Он вечно попадает в истории. Вот сегодня он решил научиться жонглировать арбузами. Представляете? – Арбузами? – старик фыркнул, но в его глазах появился искорчатый интерес. – Да он же разобьет себе все ноги!
Они засмеялись вместе. Старик кашлянул, но выглядел оживленным. Джейк наблюдал. Он видел, как легко она вступила в контакт, как светилась, рассказывая эту нелепую историю. Видел, как старик разгладился, забыв на минуту о своей боли. И видел другое. Видел, как ее взгляд на мгновение задержался на табличке с надписью "Онкологический центр. 3 этаж". Как тень промелькнула по ее лицу, быстрая, как вспышка боли, и тут же была задавлена новой волной показного энтузиазма, когда она начала рисовать для старика арбузные брызги. Видел легкую дрожь в руке, держащей карандаш. Не от холода.
"Она не клоун", – понял Джейк с внезапной и неприятной ясностью. "Она в панике. И эта клоунада – ее щит. Ее способ не сойти с ума прямо здесь и сейчас".
Мысль обожгла его. Он привык к грязи, к подлости, к открытому страху и злобе. Но этот спектакль мужества, разыгрываемый перед незнакомцами в больничном холле… это было что-то новое. Что-то… жуткое. И отчаянное. Его цинизм дал трещину, и сквозь нее пробилось нечто похожее на щемящее любопытство и непонятную досаду. Кто она? Что за диагноз заставил ее так отчаянно цепляться за образ жизнерадостной чудачки? Рак? Что-то неврологическое? Почему она одна?
Он почувствовал странный импульс – подойти. Спросить. Не как репортер, вынюхивающий сенсацию (хотя этот рефлекс сработал мгновенно – "Девушка, смеющаяся в лицо смерти"– неплохой заголовок), а просто… как человек. Услышать настоящий голос за этим нарисованным клоуном и нарочитым смехом. Узнать, что скрывается за этой розовой толстовкой.
Но Джейк Картер не подходил к незнакомцам просто так. Особенно к незнакомцам, излучающим такую взрывоопасную смесь отчаяния и фальшивого оптимизма. Он строил стены годами. Высокие, толстые, из бетона собственных разочарований и профессионального цинизма. Подойти – значило сделать брешь. Рискнуть. А рисковать эмоциями Джейк разучился. Это всегда заканчивалось больно. Последний раз – когда его сестра, та самая, в которую он верил, опустилась на самое дно наркозависимости, несмотря на все его попытки помочь. Он вытащил ее, но цена была слишком высока – его собственное опустошение и клятва больше не пускать никого близко.
Он наблюдал, как она закончила рисунок для старика, торжественно оторвала листок и вручила ему. Старик улыбался, благодарил, его морщинистое лицо светлело. Она помахала ему вслед, когда его вызвали к врачу, и ее улыбка медленно угасла, как лампочка при отключении электричества. Она откинулась на спинку скамьи, закрыла глаза и глубоко, с заметным усилием вдохнула. Вся ее поза изменилась: плечи слегка ссутулились, пальцы бесцельно перебирали край скетчбука. Маска жизнерадостности сползла, обнажив усталость и… страх. Настоящий, глубокий, леденящий страх. Она открыла глаза, и Джейк увидел в них ту самую безнадежность, от которой бежал сюда, в этот холл. Только умноженную на ее молодость. Это было невыносимо.
В этот момент раздался резкий звук – ее телефон запел веселую, навязчивую мелодию. Она вздрогнула, как от удара током, и судорожно вытащила аппарат из кармана джинсов. Взглянула на экран. И снова произошло превращение. Она вдохнула полной грудью, распрямила плечи, и на лицо вернулась та самая широкая, лучезарная улыбка. Но Джейк уже знал. Он видел, как дрогнули ее губы перед тем, как растянуться в улыбке, как напряглись мышцы вокруг глаз.
– Алло? Мам! – ее голос звенел неестественной бодростью. – Да, я в больнице! Ну, знаешь, плановое… Да все отлично! Просто подтвердили, что я абсолютно здорова и невероятно красива! Нет-нет, серьезно! Все анализы супер! Доктор сказал, что я – образец здоровья! … Да брось, не плачь! Чего реветь-то? Все же хорошо! Лучше скажи, как там папа? … Ага… Ага… Конечно, заеду! Обниму его покрепче! … Ладно, мам, меня тут вызывают! Целую! Все будет супер!
Она положила трубку. Улыбка исчезла мгновенно. Она сжала телефон так, что костяшки пальцев побелели. Закрыла глаза, и по ее щеке скатилась единственная, быстрая, почти незаметная слеза. Она резко вытерла ее тыльной стороной ладони, снова открыла скетчбук и уткнулась в рисунок, но карандаш уже не бегал по бумаге. Она просто сидела, глядя на грустного клоуна с его одиноким шариком, ее взгляд был пустым и далеким. Розовая толстовка вдруг показалась Джейку костюмом арлекина на похоронах.
Джейк почувствовал, как по его спине пробежал холодок. "Просто подтвердили". Значит, диагноз был. И он был… нехорошим. Нехорошим настолько, что этой девушке приходилось лгать своей матери по телефону, разыгрывая фарс абсолютного здоровья. И плакать втихаря. И рисовать грустных клоунов как крик души.
Его охватила волна совершенно иррационального гнева. Гнева на болезнь. На эту проклятую больницу. На несправедливость, которая обрушивается на молодых и, казалось бы, полных жизни. И на себя. За свое бессилие. За свои стены. За то, что он стоит здесь, как истукан, и ничего не может сделать. Ни спросить. Ни помочь. Ни даже просто… не знать.
Импульс подойти исчез, сменившись острой потребностью сбежать. Сбежать от этого зрелища мужественного отчаяния, прикрытого розовой тканью и фальшивым смехом. Сбежать от щемящей боли, которую он почувствовал где-то глубоко внутри, под слоями цинизма. Это было слишком личное. Слишком реальное. Слишком напоминающее о хрупкости всего, что он так старательно игнорировал.
Он резко развернулся, почти побежал к лифтам, нажимая кнопку с такой силой, словно хотел вдавить ее в стену. Сердце бешено колотилось. Он не оглядывался. Не мог. Образ ее лица – сначала смеющегося, потом пустого, потом искаженного усилием для лживой бодрости по телефону – преследовал его. И этот проклятый грустный клоун.
Лифт прибыл с мягким звонком. Джейк шагнул внутрь, прислонился к холодной стенке кабины и закрыл глаза. "Абсолютно здорова и невероятно красива". Ложь, произнесенная таким жизнерадостным тоном, резанула по нервам острее любой правды. Он достал телефон, чтобы отвлечься, проверить почту, посмотреть новости – погрузиться в привычный мрак мировых проблем. Но пальцы замерли. Вместо этого он машинально открыл заметки. Пустая страница. Курсор мигал, ожидая ввода.
Он не знал ее имени. Не знал ее диагноза. Но его пальцы сами начали выводить на экране: "Больница. Холл. Розовая толстовка. Клоун. Слишком громкий смех. Слеза по телефону. Ложь маме: "Все супер". Щит из веселья. Страх в глазах. Грустик и шарик. Почему?.."
Лифт остановился. Двери открылись с шипением. Джейк вышел на этаж травматологии, сунул телефон в карман, сжав челюсти. Он пришел навестить Марка. Сосредоточиться на сломанной ноге коллеги. На их расследовании. На реальных, осязаемых проблемах, которые можно было описать, разоблачить, победить словами. А не на призраках страха и безнадежности в глазах незнакомой девушки, которая, казалось, светилась изнутри, даже пытаясь погаснуть.
Внутри же эхом отзывались слова, которых он не произнес, не решился произнести, стоя в том холле: "Кто ты, девушка в розовом? И что за ад тебе только что подтвердили?"Он нашел нужную палату, постучал и вошел, натягивая на лицо подобие деловой озабоченности. – Марк! Жив еще? – бодро, через силу, бросил он, поднимая пакет с гостинцами. – Принес тебе лекарство от больничной тоски!
Он не подошел. Не познакомился. Но образ той девушки – нарочито беззаботной, жизнерадостной и смертельно напуганной девушки – уже проник сквозь трещину в его броне. И остался там. Как заноза. Как недописанная строчка в блокноте. Как вопрос, требующий ответа.
Глава 2. Кофе, Карандаши и Неудобные Вопросы
Запах больницы въелся в кожу. Джейк Картер чувствовал его даже спустя два дня, сидя в своей привычной каморке редакции, которую гордо называли "открытым офисным пространством". Гул компьютеров, стук клавиатур, перепалки журналистов у кофемашины – обычный хаос, который раньше действовал на него как белый шум, помогая сосредоточиться. Сегодня он был лишь фоном для навязчивого кадра: девушка в розовой толстовке, стирающая слезу тыльной стороной ладони после лживого телефонного разговора. И этот проклятый грустный клоун в ее альбоме.
Он ткнул пальцем в клавишу Delete, стерев неудачное начало статьи о коррупции в тендерах на городское освещение. Мысли упрямо возвращались к больничному холлу. К ее неестественно громкому смеху. К дрожи в руке. К той абсолютной, оглушающей тишине в ее глазах после звонка. "Абсолютно здорова и невероятно красива". Фраза крутилась в голове, как заезженная пластинка, вызывая странное чувство – смесь раздражения и щемящей жалости, которую он отчаянно гнал прочь.
Зачем она это сделала? – мысль билась, как муха о стекло. Зачем врать матери? Чтобы не пугать? Чтобы оттянуть неизбежное? Или потому что сама еще не поверила? Он видел достаточно горя и обмана в своей работе, чтобы распознать фальшь. Но эта ложь была особенной. Не для выгоды, а для защиты. Щит, сплетенный из слов "все супер", чтобы прикрыть бездну страха. И этот щит казался ему хрупким, как паутина.
С раздражением Джейк открыл заметки в телефоне. Пугающе точная строчка все еще была там: "Больница. Холл. Розовая толстовка. Клоун. Слишком громкий смех. Слеза по телефону. Ложь маме: "Все супер". Щит из веселья. Страх в глазах. Грустик и шарик. Почему?.."
"Почему?"– вот что грызло его. Не как журналиста, ищущего материал (хотя черт побери, история была душераздирающая), а как человека, случайно подсмотревшего слишком личную драму. Он ненавидел незавершенность. Ненавидел вопросы без ответов. Его профессия строилась на том, чтобы докопаться до сути, докрутить гайки допроса до тех пор, пока правда не вылезет наружу, как гной из нарыва. Но тут не было нарыва. Только незнакомая девушка с разбитым сердцем, прикрытым розовой тканью.
– Человеческое измерение оставь таблоидам. Нам нужны факты, цифры и имена. К понедельнику на столе. И выспись, Картер, выглядишь как загнанная лошадь.– Картер! – крикнул шеф, проходя мимо с пачкой распечаток. – Ты про тот ЖКХ-материал? Где финальный вариант? Инвесторы там уже лапы потирают! – Копаю глубже, босс, – буркнул Джейк, не отрываясь от экрана телефона. – Нарыл кое-что интереснее сломанной ноги Марка. – Интереснее коррупции? – шеф приподнял бровь. – Интереснее человеческого измерения, – неожиданно для себя выдал Джейк и тут же пожалел. Шеф фыркнул:
Шеф ушел. Джейк мрачно уставился в монитор. "Загнанная лошадь". Спал он действительно плохо. Образ девушки всплывал в темноте, смешиваясь с воспоминаниями о сестре в худшие времена. Та же отчаянная бравада. Та же ложь "у меня все хорошо", сквозь которую пробивался запах страха. Он резко встал. Нужен был кофе. Крепкий, черный, обжигающий. Что-то, что прожжет туман в голове.
Кофейня "Боб"была его негласным убежищем рядом с редакцией. Тесная, шумная, с плохим кофе, но зато без пафоса и с угловым столиком у окна, где его обычно не трогали. Он заказал двойной эспрессо и уткнулся в телефон, бесцельно листая ленту новостей, пытаясь заглушить внутренний монолог.
И тут он ее увидел.
Сначала он не поверил. Подумал, что больничный галлюцинации преследуют его и наяву. Но нет. Это была Она. Та самая. Сидела за столиком у стены, сгорбившись над тем же потрепанным скетчбуком. В той же ярко-розовой толстовке, будто бронежилете жизнерадостности. На столе перед ней стоял огромный стакан с чем-то ярко-зеленым и пенным (смузи? яд какой-нибудь полезный?), а рядом – раскиданные карандаши и ластик. Она что-то яростно вырисовывала, время от времени закусывая нижнюю губу. На этот раз смеха не было. Была сосредоточенность, граничащая с напряжением. И снова эта легкая дрожь в руке, держащей карандаш.
Джейк замер с бумажным стаканчиком в руке. Сердце глухо стукнуло где-то в районе горла. Судьба? Ирония? Или просто проклятое совпадение? Он должен был развернуться и уйти. Срочно. Пока она его не заметила. Пока этот странный, неприятный интерес не затянул его глубже. Но ноги опять не слушались. Репортер в нем ликовал: Вот он шанс! Узнать! Докопаться! Человек в нем цепенел: Не лезь. Это не твое. Это слишком больно.
Он сделал шаг. Потом еще один. Не к выходу, а к ее столику. Броня цинизма дала еще одну трещину, сквозь которую пробилось упрямое "Почему?".
– Место свободно? – Его голос прозвучал хриплее, чем он хотел. Грубее.
Она вздрогнула, словно её ударили током, и резко подняла голову. Большие, светлые глаза, которые он запомнил, широко распахнулись. В них мелькнуло что-то – испуг? Удивление? – и тут же погасло, уступив место настороженности.
– Эм… Да, пожалуйста, – пробормотала она, торопливо сгребая карандаши в кучу, освобождая место. Ее взгляд скользнул по его лицу, и в нем не было узнавания. Конечно. Он был для нее просто еще одним мрачным типом в переполненной кофейне.
Джейк грузно опустился на стул напротив. Кофе в его стаканчике расплескался. Он поставил его на стол с таким стуком, что она снова вздрогнула. Отличное начало, Картер. Напугал больную девчонку. Он попытался смягчить выражение лица, но, судя по ее настороженному взгляду, получилось не очень.
– Я… я вас видел, – выпалил он, сразу ненавидя себя за эту неуклюжесть. Так не разговаривают с источниками. И уж точно не с незнакомыми девушками. – В больнице. Пару дней назад. Вы рисовали клоуна.
Ее лицо изменилось мгновенно. Настороженность сменилась паникой, которая тут же была задавлена волной той самой нарочитой, яркой веселости. Она заулыбалась. Широко. Слишком широко. Глаза неестественно блестели.
– Ах, да! – воскликнула она с фальшивой легкостью. – Грустик! Мой невезучий друг! Вы тоже его заметили? Он, знаете ли, имеет привычку появляться в самых неожиданных местах! Прямо как настоящий клоун! – Она засмеялась. Тот самый слишком громкий, слишком резкий смех, который резанул его по нервам в больнице. Но теперь он знал, что скрывается за ним. Знание делало этот смех почти невыносимым.
– Вы художница? – спросил Джейк, кивнув на скетчбук, стараясь говорить ровнее. Он взял свой кофе, пытаясь скрыть дрожь в собственных руках. Не клоун. Не дурочка. Испуганный человек в розовом щите.
– О, боже, нет! – она махнула рукой, словно отмахиваясь от комплимента. – Просто балуюсь. Чтобы руки не чесались и мозги не закипали от скуки. Особенно в таких вот… – она жестом обозначила пространство кофейни, – ожидательных пунктах.
"Ожидательных пунктах". Джейк уловил паузу. Больница была таким же "ожидательным пунктом"? Ожиданием подтверждения? Ожиданием приговора?
– В больнице тоже от скуки рисовали? – спросил он прямо, наблюдая за ее реакцией. Докручивай гайки, Картер. Журналистский прием номер один: неудобный вопрос.
Ее улыбка дрогнула. Глаза на мгновение побежали в сторону, потом снова уперлись в него. В них зажегся вызов.
– А что, разве нельзя? – парировала она, сохраняя легкий тон, но в голосе появились стальные нотки. – Больничные холлы – отличное место для этюдов. Столько типажей! Трагических, комических… задумчивых. – Она посмотрела на него чуть оценивающе. – Вот вы, например… "Циник в стадии обострения". Сильный типаж. Много линий напряжения вокруг глаз, сжатые губы… Хорошо ложится на бумагу.
Джейк почувствовал, как его щеки слегка зажгло. Она давала сдачи. Интеллектуально и с долей язвительности. Это было… неожиданно. И чертовски интересно.
– Майя, – ответила она, наконец назвав свое имя. Звучало оно просто и тепло, как будто не сочеталось с той драмой, которую он подсмотрел. Она протянула руку через стол. Быстрое, легкое пожатие. Ее пальцы были холодными и… снова дрожали. Легко, почти незаметно. Но он почувствовал.– Джейк, – представился он коротко, отхлебывая кофе. Горечь обожгла язык, но была кстати.
– Так что рисуете сейчас? – спросил он, пытаясь перевести разговор в более нейтральное русло, но не сводя глаз с ее рук. Она снова взяла карандаш, пытаясь занять пальцы делом. – Не Грустика же?
Она приоткрыла скетчбук, показывая ему. Это был набросок кофейни. Хаотичный, полный движения: фигурки людей за столиками, бармен, льющаяся струя кофе из машины. Но в центре композиции был… он. Его силуэт, только что подошедший к столику, ссутулившийся, с бумажным стаканчиком в руке. Узнаваемо угрюмый. Она успела его схватить за эти несколько секунд.
– "Незнакомец с вопросами и плохим кофе", – усмехнулась она, но в усмешке не было злобы. Скорее усталая самоирония. – Хочу уловить момент вторжения в личное пространство. Получается?
– Убийственно точно, – хмыкнул Джейк. Его зацепила ее наблюдательность. И смелость. – А ваш зеленый… эликсир? Он тоже против скуки?
– Против всего, – ответила Майя с преувеличенной серьезностью, поднимая огромный стакан. – Это коктейль бессмертия, бодрости и хорошего настроения. Шпинат, сельдерей, имбирь… ну и слезы единорога для пикантности. Хотите глоток? Гарантирую, послевкусие – как пинок осла.
Она протянула стакан. И тут случилось то, чего Джейк подсознательно ждал, но от чего все равно внутренне сжался. Ее рука дернулась резче, чем раньше. Стакан выскользнул из пальцев и грохнулся на пол. Зеленоватая жижа брызнула во все стороны, заляпав ее кеды, его ботинки и ножку столика. Карандаши покатились по полу.
– Ой! – воскликнула Майя, вскакивая. – Простите! Я… я неловкая сегодня! Совсем!
Она бросилась собирать раскатившиеся карандаши, ее движения были резкими, нервными. Джейк тоже встал, автоматически подбирая несколько карандашей, укатившихся под его стул. Он видел, как она старается делать это быстро, но ее руки предательски тряслись. Сильнее, чем раньше. Видимо, попытка шутить и держать удар стоила ей огромного напряжения. Маска треснула под тяжестью неловкости и его неудобных вопросов.
– Не беда, – буркнул он, протягивая ей найденные карандаши. – Никто не пострадал. Кроме единорога, конечно.
Она подняла на него глаза. Улыбка соскользнула с лица. Осталась только усталость и тот самый страх, который он видел в больнице. Глубже, ближе к поверхности. Она взяла карандаши, ее пальцы сжали их так, что дерево могло треснуть.
– Спасибо, – прошептала она, не глядя на него. – Я… я, наверное, пойду. Надо… надо успеть кое-куда.
Она стала торопливо скидывать вещи в рюкзак – скетчбук, карандаши, ластик. Ее движения были лихорадочными, она роняла карандаши снова. Джейк видел, как она пытается застегнуть молнию на рюкзаке, но пальцы не слушаются. Она сжала кулаки, заставив их замолчать насильно, потом снова попыталась. Получилось.
Она взглянула на него. Взгляд был прямым, но пустым. Без привычной искорки, без вызова. Только глухая стена.
– Извините за беспорядок, – сказала она формально. – И за… за клоуна.
Она развернулась и быстро пошла к выходу, почти бежала, протискиваясь между столиками. Розовая толстовка мелькнула в дверях и исчезла.
Джейк остался стоять посреди зеленой лужи, с карандашом в руке, который не успел ей отдать. Он смотрел на дверь, через которую она вышла. В голове стучало. Он не получил ответов. Только больше вопросов. И этот жуткий, всепоглощающий страх в ее глазах, который она больше не могла скрыть под смехом или шутками про единорогов.
Он медленно опустился на стул. Поднял карандаш, который держал. Это был простой графитовый карандаш, HB. На нем, у самого кончика, где его держали пальцы, была крошечная наклейка – желтый смайлик. Ироничный контраст с тем, что только что произошло.
Он положил карандаш на стол. Потом достал телефон. Открыл заметки. К старой записи добавил новую строку, выводя слова крупными, размашистыми буквами:
"Кофейня "Боб". Зеленый коктейль. Дрожь в руках. Нарисовала меня. Уронила стакан. Страх. Настоящий. Сильнее. ПОЧЕМУ?"
Он отпил глоток остывшего, горького кофе. Вкус был отвратительным. Но не таким отвратительным, как ощущение собственного бессилия и навязчивое чувство, что он только что спугнул раненую птицу, которая пыталась казаться сильной.
– Майя, – произнес он вслух имя, которое теперь обрело плоть и боль. – Что с тобой не так?
Ответа не было. Только липкий след зеленого смузи на полу и желтый смайлик на забытом карандаше, глядящий на него пустыми черными точками-глазками.
Глава 3. Осенние Листья и Ускользающая Твердость
Карандаш со смайликом лежал на краю его рабочего стола, как обвинение. Желтый пластиковый кружок с черными точками-глазками смотрел на Джейка Картера пустым, идиотски-оптимистичным взглядом. "Расскажи о бессмертии, смайлик", – мысленно процедил Джейк, отпиваясь холодным кофе. "Расскажи, как оно – падать на пол вместе с зеленой жижей страха".
Прошло три дня. Три дня, за которые он дописал чертову статью про ЖКХ (шеф остался доволен, назвав ее "крепким ударом ниже пояса"), три дня обычной журналистской рутины – звонки, допросы под прикрытием, расшифровка записей. И три дня, когда имя "Майя"и образ ее глаз, полных немого ужаса в кофейне, не отпускали его. Записи в телефоне разрослись:
Кофейня "Боб". Зеленый коктейль. Дрожь в руках. Нарисовала меня. Уронила стакан. Страх. Настоящий. Сильнее. ПОЧЕМУ?
Тремор – прогрессирует? Неврология? Побочка лечения?
"Коктейль бессмертия"– отчаяние или надежда?
Рисует, чтобы не сойти с ума?
Где искать? Соцсети? (Стелс-режим. Не стал.) Больница? (Кретин.)
Он не искал ее намеренно. Это было бы… стыдно. Навязчиво. Но его маршруты по городу почему-то стали проходить мимо кофейни "Боб"и еще пары мест с большими окнами, где могли сидеть художники. Репортерское чутье, обычно настроенное на коррупцию и ложь, теперь сканировало толпу в поисках розовой толстовки или знакомого каштанового пучка. Бесполезно.
День выдался хмурым, по-осеннему пронизывающим. Холодный ветер гнал по асфальту желтые и багряные листья, вырывая их из цепких лап деревьев в Центральном парке. Джейк шел сквозь этот калейдоскоп увядания, кутаясь в потертую кожаную куртку. Он направлялся на встречу с информатором по другому делу – истории с контрабандой электроники. Место встречи – скамейка у замерзшего фонтана. Информатор опаздывал. Джейк закурил, пытаясь прогнать назойливый холод и назойливые мысли. Пар от дыхания смешивался с сизым дымом.
И тогда он ее увидел.
Не в розовой толстовке. На ней был длинный, бесформенный серый кардиган, в котором она казалась еще меньше и хрупче. Сидела на скамейке в отдалении, под почти голым кленом, и снова рисовала в своем скетчбуке. Но на этот раз все было иначе. Ни тени нарочитой веселости. Ни попыток шутить с невидимыми собеседниками. Она сидела сгорбившись, поджав под себя ноги, словно пытаясь сжаться в комок, стать меньше мишени. Карандаш в ее руке двигался медленно, почти неуверенно. Рисовала она не людей, не клоунов, а… листья. Один опавший кленовый лист, лежащий на промерзшей земле. Вырисовывала каждую прожилку, каждый изъеденный край с болезненной тщательностью.
Джейк замер. Сигарета догорала у него в пальцах, забытая. Его информатор был забыт. Весь мир сузился до этой хрупкой фигуры под голым деревом, рисующей символ увядания с таким сосредоточением, будто от этого зависела ее жизнь. Ветер трепал ее волосы, выбившиеся из пучка, и ей было холодно – он видел, как она ежится, как пытается втянуть голову в кардиган.
Подойди. Спроси. Просто спроси, как дела. Мысль пронеслась ясно, без обычного внутреннего саботажа. Но что он скажет? "Привет, помнишь меня, того типа, который напугал тебя в кофейне и довел до дрожи? Как твой бессмертный коктейль?"
Пока он колебался, случилось то, чего он подсознательно боялся. Карандаш выскользнул из ее пальцев и упал на землю. Она потянулась за ним, но движение было резким, неловким. Она потеряла равновесие. Не упала, но резко оперлась рукой о холодное дерево скамейки, чтобы не грохнуться. Ее лицо исказила гримаса боли или отчаяния. Она зажмурилась, губы плотно сжались. Плечи затряслись. Не от холода. От рыданий, которые она отчаянно пыталась подавить.
Джейк не помнил, как подошел. Он бросил окурок, пересек промерзшую лужайку и оказался перед ней, заслонив порыв ветра. Она не сразу заметила его, погруженная в свою тихую борьбу со слезами и, возможно, с телом, которое ее предавало.
– Майя, – произнес он тихо, но твердо.
Она вздрогнула, как от выстрела, и резко подняла голову. Глаза были красными, заплаканными, полными такого стыда и уязвимости, что у Джейка сжалось сердце. Она быстро отвернулась, вытирая лицо рукавом кардигана, пытаясь втянуть обратно слезы и восстановить хоть какое-то подобие контроля.
– Ох, – ее голос сорвался на хрип. – Мистер Вопросы с Плохим Кофе. Парк патрулируете? Или следите за мной? – Попытка сарказма провалилась. Голос дрожал.
Джейк игнорировал колкость. Он наклонился, поднял упавший карандаш. Такой же, со смайликом. Он протянул его ей.
– Ветер сильный. Можно присесть? – Он кивнул на скамейку рядом с ней.
Она посмотрела на карандаш в его руке, потом на его лицо. В ее взгляде была паника оленя перед фарами, смешанная с усталостью. Она молча кивнула, отодвинувшись, освобождая место. Джейк сел. Расстояние между ними было вежливым, но он чувствовал исходящую от нее дрожь – теперь уже не только эмоциональную, но и физическую. Ей было холодно до костей.
Он снял свою кожаную куртку – тяжелую, потертую, но теплую – и молча накинул ей на плечи, поверх серого кардигана. Она замерла, удивленно глядя на него.
– Вам холодно, – перебил он просто. – А я привык.– Я не… – начала она.
Она не стала сопротивляться. Пальцами, все еще дрожащими, она потянула края куртки, кутаясь в чужое тепло и запах – табака, кожи, кофе. Немного дрожь утихла. Она смотрела на свой рисунок – на одинокий лист.
– Он умер, – прошептала Майя, не глядя на него. – Красиво, ярко, но умер. И его унесет ветром. И все. – Она провела пальцем по бумаге, вдоль прожилки листа. – Как будто его и не было.– Красивый лист, – сказал Джейк, глядя на скетчбук. Рисунок был детализированным, почти болезненно точным. В нем чувствовалась любовь к предмету и… прощание.
Тишина повисла между ними, наполненная только шумом ветра и шелестом последних листьев. Джейк чувствовал, как бьется его сердце. Он привык к жестким разговорам, к допросам, к крикам. Но эта тихая, леденящая душу констатация смерти… Она была сильнее любого крика.
– Это… про вас? – спросил он осторожно, почти не надеясь на ответ.
Она медленно подняла на него глаза. В них не было слез сейчас. Была только бесконечная усталость и какая-то странная отрешенность. Щит из смеха и розовой толстовки исчез. Осталась голая правда.
– Боковой Амиотрофический Склероз, – произнесла она четко, как будто зачитывала диагноз с листка. Голос был ровным, металлическим. – БАС. Тот самый, что у Стивена Хокинга. Только у меня… не такой медленный вариант. – Она попыталась улыбнуться, но получилась гримаса. – "Абсолютно здорова и невероятно красива", да? Мама до сих пор верит. А я… я падаю. Буквально. Руки… перестают слушаться. Ноги тоже скоро. Потом… голос. Дыхание. Все по учебнику. Только учебник – это моя жизнь.
Джейк слушал, не дыша. БАС. Приговор. Медленное, неумолимое угасание. Потеря всего. Контроля. Движения. Голоса. Жизни. Он знал, что это такое. Читал. Видел репортажи. Но слышать это от молодой, живой (пока еще живой) девушки… Его собственные проблемы, его цинизм, его стены – все это рассыпалось в прах перед этой простой, чудовищной фразой.
– Когда? – выдохнул он. – Когда узнали?
– Три месяца назад, – ответила она, глядя куда-то сквозь него, на оголенные ветви клена. – Сначала думали – защемление нерва. Стресс. Потом… МРТ, анализы, консилиумы. "Редкая, агрессивная форма". Вот такой лотерейный билет выиграла. – Она замолчала, снова потрогала рисунок листа. – Я рисую, пока руки еще слушаются. Пока вижу. Пока могу дышать без аппарата. Пытаюсь запечатлеть… все. Каждый лист. Каждый смешной нос прохожего. Каждую тучку. Потому что скоро… скоро не смогу. – Голос дрогнул, но слез не было. Она, казалось, выплакала все заранее.
Джейк не знал, что сказать. "Мне жаль"– звучало бы пошло и беспомощно. "Держись"– оскорбительно. Он молчал. И в этой тишине, под порывами холодного ветра, накинув его куртку, она вдруг заговорила снова. Тихо, как будто признаваясь себе самой:
– Я так боюсь. Каждую минуту. Просыпаюсь – боюсь, что сегодня не смогу пошевелить рукой. Беру карандаш – боюсь, что он выпадет. Иду – боюсь упасть. Звоню маме – боюсь расплакаться. Я боюсь боли. Боюсь беспомощности. Боюсь быть обузой. Боюсь… забыть, каково это – бежать. И больше всего боюсь… что все, что я люблю – краски, линии, смех мамы, вкус шоколада, ветер в лицо – все это станет просто… воспоминанием. Пока я еще жива, но уже не я.
Она замолчала, сжав кулаки под его курткой. Джейк видел, как напряжены ее плечи, как сжаты челюсти. Она боролась. Не с болезнью – с ней бороться было бесполезно. Она боролась со страхом. И проигрывала.
Бездумно, движимый порывом, который он сам не понял, Джейк протянул руку. Не к ней. К ее скетчбуку. Он осторожно взял его. Она не сопротивлялась, смотрела на него с немым вопросом. Он перелистнул страницу с листом. Следующая была чистой. Он достал из внутреннего кармана пиджака свой вечный спутник – простой черный карандаш (не желтый смайлик). И начал рисовать.
Он не был художником. Его линии были грубыми, угловатыми, репортерскими. Он рисовал не лист. Он рисовал ее. Сидящую здесь, на скамейке. В его огромной куртке, сгорбленную, но не сломанную. С карандашом в руке. Смотрел на нее, перенося на бумагу основные черты – огромные глаза, каштановые пряди, сбившиеся на лоб, очертания плеч под грубой тканью. Он рисовал не красоту, а силу. Силу, с которой она держала карандаш, пока могла. Силу, с которой она произносила слова "я боюсь". Силу, с которой она просто была здесь, сейчас, под этим холодным небом.
Он закончил быстро. Передал скетчбук обратно.
– Вот, – хрипло сказал он. – Пока ты рисуешь лист, я нарисовал тебя. Потому что ты… не лист. Ты – дерево. Которое еще стоит. И рисует.
Майя посмотрела на рисунок. На угловатый, неидеальный, но исполненный странной… правды портрет себя. Она провела пальцем по линиям. Потом подняла на него глаза. В них не было прежней стены. Было что-то хрупкое, удивленное, почти… благодарное.
– Дерево, – повторила она тихо. – Которое скоро срубят под корень. – Но в голосе не было прежней горечи. Была усталая констатация.
– Но пока стоит, – настаивал Джейк. – И пока рисует. И пока боится. Это… нормально. Бояться.
Она смотрела на него долго. Ветер снова усилился, принеся первые редкие капли холодного дождя.
– Зачем вы это делаете? – спросила она вдруг, прямо. – Зачем подошли тогда? Зачем подошли сейчас? Зачем дали куртку? Зачем… нарисовали? Что вам от меня нужно? Потрясающая история для вашей газеты? "Девушка, умирающая красиво"? Или… – она запнулась, – или вам просто жалко?
Джейк встретил ее взгляд. Честный вопрос требовал честного ответа. Но он и сам не знал его до конца.
– Не знаю, – признался он с неожиданной для себя самого искренностью. – Не жалко. И не для газеты. Хотя история… она душераздирающая, да. Но это не материал. Это… – он искал слова, – это как увидеть аварию. Не можешь не смотреть. Не можешь не… подойти. Узнать. Понять. Почему так. Почему ты. Почему рисуешь клоунов и листья. Почему врешь маме. Почему дрожишь. Почему боишься и все равно рисуешь. – Он сделал паузу. Дождь застучал по скетчбуку. – Может, потому что ты… не сдаешься. Даже когда падаешь. Даже когда боишься. И это… чертовски впечатляет.
Капли дождя забарабанили сильнее. Майя поспешно закрыла скетчбук, прижимая его к груди под курткой. Она посмотрела на небо, потом на Джейка.
– Я не героиня, – сказала она просто. – Я просто пытаюсь прожить то, что осталось. Не разбившись вдребезги раньше времени. И не разбив маму.
– Расскажи, – сказал Джейк вдруг. Слово вырвалось само. – Расскажи, каково это. Если хочешь. Я… выслушаю. Без советов. Без жалости. Просто… выслушаю.
Она смотрела на него, а дождь стекал по ее лицу, смешиваясь или не смешиваясь со слезами – он не мог разобрать. В ее глазах мелькали сомнение, усталость, и… крошечная искорка чего-то, что могло быть надеждой на то, что ее услышат. По-настоящему.
– Почему? – спросила она снова, но уже без вызова. С вопросительной интонацией ребенка, которому предлагают что-то непонятное, но заманчивое.
Джейк встал. Помог ей подняться – его рука коснулась ее локтя под курткой, он почувствовал тонкую кость и напряженные мышцы. Он достал из кармана сложенный зонт-автомат (редко использовал, но сегодня почему-то взял), щелкнул кнопкой. Черный купол раскрылся над ними, отгораживая от холодного осеннего ливня маленький островок.
– Не знаю, Майя, – повторил он честно, глядя ей в глаза под стук дождя по ткани зонта. – Но, кажется, мне тоже нужно понять. И, возможно… перестать просто смотреть на аварию. Возможно, попытаться… помочь вытащить кого-то из машины. Хотя бы поговорить.
Она смотрела на него, потом на зонт над их головами, потом снова на него. И очень медленно, едва заметно, кивнула.
– Хорошо, – прошептала она. – Поговорим. Но… не здесь. Мне холодно.
Джейк почувствовал, как что-то огромное и тяжелое сдвинулось у него внутри. Он не нашел ответов. Он нашел начало пути в кромешную тьму, но впервые за долгие годы этот путь не пугал его своей бессмысленностью. Он кивнул.
– Куда? – спросил он просто, готовый вести ее куда угодно – в ближайшее кафе, к себе (нет, слишком), просто идти под дождем.
– Есть одно место, – сказала Майя, кутаясь в его куртку и делая шаг вперед, под защиту зонта. – Где шумят не листья. И где кофе… не самый плохой в городе.
Они пошли по аллее, усеянной опавшими листьями, под черным зонтом, в холодном осеннем дожде. Джейк Картер, циник и одиночка, и Майя, девушка, рисующая увядание, делали первые неуверенные шаги к разговору. К пониманию. К тому, чтобы не быть одинокими перед лицом ее страшного "Почему?".
Глава 4. Кофейная Чашка и Карта Страха
Кафе «Под Старым Фонарем» оказалось не тем ультрамодным местом, которое ожидал Джейк. Оно притаилось в переулке, затерявшись между антикварной лавкой и мастерской по ремонту скрипок. Внутри пахло настоящим кофе, старой древесиной и пылью с книжных полок, занимавших половину стен. Тусклый свет ламп под абажурами создавал островки тепла и глубокие тени. Было тихо, почти пусто – только пара студентов корпела над ноутбуками в углу и пожилая пара молча пила чай.
Майя повела его к столику у дальней стены, под книжной полкой, заваленной альбомами по искусству. Она сбросила его тяжелую куртку на спинку стула, обнажив серый кардиган, и опустилась на стул с облегчением, будто прошла километры, а не пару кварталов. Ее дыхание было чуть слышным, прерывистым. Джейк заказал два черных кофе – самый крепкий, что был в меню. Он чувствовал себя неловко, как подросток на первом свидании, только вместо цветов и комплиментов у него в руках был зонт, а перед ним – пропасть чужой боли, в которую он вызвался заглянуть.
Кофе принесли быстро. Майя обхватила чашку обеими руками, как бы согреваясь, но Джейк заметил, как пальцы ее скользнули по гладкому фаянсу, не сразу найдя устойчивого хвата. Она сделала глоток, не взглянув на него.
– «Не самый плохой в городе» – это ты скромничала, – пробормотал Джейк, пытаясь разрядить тишину. Кофе и правда был хорош – горький, насыщенный, без кислинки. – У «Боба» ему в подметки не годится.
Она чуть улыбнулась уголками губ, но глаза оставались серьезными, смотрели куда-то внутрь чашки.
– Здесь тихо, – сказала она просто. – И никто не смотрит. Не ждет, что ты будешь улыбаться. Или не упадешь. – Она подняла на него взгляд. – Вы спрашивали, зачем я вру маме. Теперь знаете. Она… она не переживет правду. Сердце слабое. А папа… папа умер три года назад от инфаркта. Она и так еле держится. Если узнает… – Майя замолчала, сжав чашку так, что пальцы побелели. – Для нее я должна быть «абсолютно здорова и невероятно красива». Пока… пока не станет совсем очевидно обратное. А потом… потом я не знаю, что будет. Как она это переживет. Это… это почти так же страшно, как сама болезнь.
Джейк молчал. Его собственная история с сестрой казалась теперь мелкой царапиной по сравнению с этой бездной ответственности и горя. Он представлял эту пожилую женщину, верящую в ложь дочери, и ему становилось физически плохо.
– А ты? – спросил он наконец, очень тихо. – Кто тебе помогает? Друзья? Парень? – Последнее слово вылетело неловко.
Майя горько усмехнулась.
– Друзья? – Она покачала головой. – Большинство… отдалились. Сначала приносили цветы, говорили «держиись», предлагали помощь. Потом стало неловко. Не знали, что говорить. Как себя вести. Боялись смотреть в глаза. И… исчезли. Осталась одна подруга детства, Соня. Она врач, терапевт. Понимает… по-профессиональному. Приходит иногда. Помогает с документами, с врачами. Но говорить… говорить о главном с ней тоже тяжело. Она слишком старается быть полезной, а не просто… рядом. – Майя сделала еще глоток кофе. – А парень… был. Ушел. Через месяц после диагноза. Сказал, что «не готов к такому». – Она произнесла это ровно, без тени обиды, как констатацию погоды. – Видимо, любил меня здоровую и жизнерадостную. А больную, дрожащую и плачущую… такую не любил. И не смог. Я его не виню. Не каждый выдержит. Даже я себя не всегда выдерживаю.
Она отодвинула чашку, достала из сумки скетчбук. Открыла его не на рисунке листа, а на чистой странице. Взяла карандаш. Но не стала рисовать. Просто вертела его в пальцах, глядя на белизну бумаги.
– Ты спрашивал, зачем я рисую. Пока могу. Это… это мой способ не сойти с ума. Не утонуть в этом страхе. Каждый рисунок – это гвоздь, на котором я вешаю кусочек реальности. Вот этот лист – он был. Я его увидела, запечатлела. Он не исчез бесследно. Вот тот клоун в больнице… он был моим криком души тогда. Вот ты в кофейне… мрачный, с вопросами. Ты был. – Она посмотрела на него. – Когда я не смогу рисовать… когда руки откажут… как я буду цепляться? За что? За воспоминания, которые тоже поблекнут? За голос в трубке мамы, говорящей «все хорошо»?
Голос ее дрогнул. Она опустила голову, длинные каштановые пряди упали на лицо, скрывая его. Плечи снова затряслись. На этот раз она не пыталась сдерживать слезы. Они капали на чистую страницу скетчбука, оставляя мокрые, полупрозрачные звездочки на бумаге.
Джейк сидел, парализованный. Он хотел протянуть руку, коснуться ее плеча, сказать что-то утешительное. Но слова застревали в горле. Все, что приходило в голову – «все будет хорошо», «не плачь» – звучало фальшиво и жестоко. Все не будет хорошо. И плакать она имела полное право.
Вместо слов он сделал нечто неожиданное даже для себя. Он аккуратно пододвинул ее чашку с кофе, взял ее карандаш (не желтый смайлик, а обычный графитовый) и свой блокнот репортера – потрепанный, в черной обложке, где обычно были заметки о коррупции и подлости. Он открыл его на чистой странице.
– Нарисуй, – сказал он хрипло.
Майя подняла заплаканное лицо, недоуменно глядя на него.
– Что?
– Нарисуй свой страх, – повторил Джейк, глядя прямо на нее. Его журналистский мозг, привыкший докапываться до сути, нащупал путь. – Не лист. Не меня. Не клоуна. Нарисуй его. Того, кто сидит у тебя внутри. Того, кто заставляет дрожать руки и врать маме. Каков он? Монстр? Тень? Паутина? Холод? Нарисуй его. Сделай его видимым. Здесь. На этой бумаге.
Он протянул ей блокнот и карандаш. Майя смотрела то на него, то на блокнот, то на свои дрожащие пальцы. В ее глазах мелькало сопротивление, страх, и… проблеск интереса. Возможность вытащить наружу то, что грызло ее изнутри.
– Я… я не знаю, – прошептала она. – Это же… абстракция. Чувство.
– А разве клоун – не чувство? – парировал Джейк. – Грусть? Одиночество? Нарисуй страх, Майя. Пока можешь держать карандаш. Сделай его материальным. Возможно, тогда с ним будет проще… говорить. Или хотя бы смотреть в лицо.
Она медленно вытерла слезы тыльной стороной ладони, оставив мокрый след на щеке. Потом взяла карандаш. Ее пальцы все еще дрожали, но движение было решительным. Она перевернула страницу в его блокноте, отодвинув свой скетчбук с мокрыми слезами. И начала рисовать.
Сначала это были просто хаотичные, нервные линии. Потом они стали сплетаться, образуя нечто плотное, тяжелое, заполняющее весь лист снизу доверху. Она нажимала сильно, иногда рвя бумагу. Рисовала не предмет, а ощущение. Темную, клубящуюся массу, которая сжимала, душила, заполняла все пространство. В центре этой массы, почти незаметно, угадывался крошечный, искаженный силуэт человека – сжавшийся, беспомощный. А по краям, как щупальца или корни, тянулись извилистые линии, проникающие за пределы рисунка, как бы охватывая все вокруг. Страх был вездесущим. Поглощающим. Не оставляющим ни щели для света или воздуха.
Она рисовала молча, с сосредоточенным, почти болезненным выражением лица. Дыхание ее снова стало прерывистым, но теперь не от слез, а от напряжения. Карандаш выскользнул у нее из пальцев раз, но она тут же подхватила его, продолжая водить по бумаге, углубляя тени, делая массу еще более непроницаемой, тяжелой.
Наконец, она остановилась. Откинулась на спинку стула, выдохнув. Лицо было бледным, осунувшимся. Она смотрела на рисунок в его блокноте, как на что-то чужое и страшное.
– Вот он, – прошептала она. – Мой сожитель. Мой тюремщик. Он всегда со мной. В больнице. В кофейне. Дома. Когда я сплю. Когда разговариваю с мамой. Он заполняет все. И с каждым днем… его больше. Он знает, что скоро возьмет верх. Окончательно.
Джейк смотрел на рисунок. Это было мощно. Страшно. Искренне до мурашек. Он видел не просто изображение – он видел карту ее внутреннего ада. Он видел ее в этом крошечном, зажатом силуэте. Его собственный страх – страх близости, страх боли – показался ему вдруг мелким и эгоистичным рядом с этим всепоглощающим монстром.
Он осторожно взял блокнот, повернув его к себе. Потом достал из кармана свою ручку. Не говоря ни слова, он начал рисовать поверх ее страха. Не стирая, не перечеркивая. Он рисовал линии – тонкие, светлые, едва заметные поначалу. Как лучи, пробивающиеся сквозь трещины в скале. Как нити. Они шли от того крошечного силуэта человека наружу, пронизывая темную массу. Эти линии не уничтожали страх – они существовали внутри него, вопреки ему. Некоторые линии заканчивались маленькими, схематичными рисунками: чашка кофе, карандаш, раскрытый альбом, улыбающийся смайлик (он вспомнил желтый карандаш), силуэт женщины (мама?), ветка дерева с листьями, даже его собственная угрюмая физиономия в миниатюре. Это были ее якоря. Ее «гвозди», на которых она держалась.
Он закончил и молча вернул блокнот ей.
Майя смотрела. Сначала непонимающе, потом все пристальнее. Она следила за тонкими светлыми линиями, уходящими от ее сжавшегося «я» к этим маленьким символам жизни, которые она цепко держалась.
– Это… – она не нашла слов.
– Это то, что он пока не смог отнять, – тихо сказал Джейк. – И не сможет, пока ты дышишь и видишь. Твой взгляд. Твои руки, которые пока держат карандаш. Кофе, который ты пьешь. Лист, который ты нарисовала. Смех мамы по телефону. Даже мое… мое навязчивое любопытство. – Он указал на маленькую карикатуру самого себя. – Это все – здесь. Сейчас. Внутри этого… – он кивнул на темную массу, – но не поглощено им до конца. Потому что ты их видишь. Чувствуешь. И запечатлеваешь.
Майя долго смотрела на рисунок. Потом подняла глаза на Джейка. В них не было слез. Было изумление. И что-то еще… крошечная искорка чего-то, что могло быть облегчением. Или просто удивлением от того, что кто-то увидел не только ее страх, но и ее хрупкую борьбу внутри него.
– Вы… вы странный человек, Джейк Картер, – сказала она наконец, и в голосе ее впервые за этот разговор прозвучали нотки чего-то живого, не сдавленного страхом. – Циник, который рисует лучи света поверх чужих кошмаров.
– Не свет, – поправил он, отхлебывая остывший кофе. Он чувствовал себя выжатым, но странно… спокойным. – Просто… факты. Ты нарисовала факт страха. Я добавил факты… сопротивления. Они есть. Вот и все.
Она снова посмотрела на рисунок, потом на свой скетчбук с мокрым от слез листом бумаги. Потом неожиданно закрыла его и отодвинула к нему блокнот с их совместным рисунком.
– Оставьте, – сказала она. – Это… ваше. Ваше доказательство «фактов сопротивления». А я… – она взяла свой скетчбук, – я попробую добавить их в свой следующий рисунок. Может быть.
Она замолчала. Тишина в кафе снова обволакивала их, но теперь она была другой. Не неловкой, а… наполненной. Насыщенной тем, что было сказано и показано без слов. Джейк понимал, что не спас ее. Не нашел волшебных слов. Он просто… был там. Слушал. И увидел. И показал ей, что видит не только ужас, но и то, что еще держится.
– Спасибо, – тихо сказала Майя, глядя не на него, а на свою чашку. – За… за то, что не сбежали. И за лучи. Пусть даже они… фактические.
Джейк кивнул. Он не знал, что будет дальше. Не знал, как часто он сможет выдерживать эту боль, эту бездну. Но он знал одно: он больше не мог просто наблюдать. Желтый карандаш со смайликом лежал у него в кармане. Рисунок их общего страха и хрупкой надежды лежал в его блокноте. А перед ним сидела Майя. Не клоун. Не дурочка. Не просто «история». Девушка, рисующая карту своего ада и находящая в себе силы добавлять в нее светлые линии. И он, Джейк Картер, черствый репортер, вдруг понял, что хочет видеть, какие символы она добавит в следующий раз. И чем закончится эта страшная, душераздирающая, но невероятно важная карта.
– Не за что, – ответил он. И впервые за долгие годы эти слова не были ложью. Потому что это «не за что» значило гораздо больше, чем просто вежливость. Оно значило: «Я здесь. Пока ты рисуешь».
Гл
