Наша великая надежда
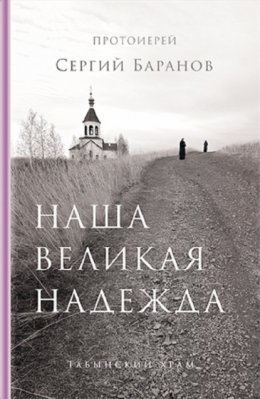
Табынский храм
Рекомендовано к публикации
Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р25-5О7-О157
Наша великая надежда. / Баранов Сергий, протоиерей— М.: Никея, 2025
© ООО ТД «Никея», 2025
© Баранов Сергий, прот., 2025
Предисловие
Остановись! Ты говоришь сам с собой
Что должно быть драгоценного в духовнике? Как человек, прослуживший тридцать один год в священстве, прошедший какой-то вдохновенный, а в последнее время и очень скорбный, тяжёлый опыт, назову несколько направлений, которыми должен провести вас хороший духовник.
Первым проводником я бы назвал Моисея, который выводит израильтян из египетского плена. Святые отцы всегда проводят параллель с духовным миром. Моисей выводил из плена в формате этого мира, но ведь он выводил ещё и из плена духовного. Важная деталь: путь от Египта до Палестины можно было пройти максимум за неделю, а он водит этот народ сорок лет. В этом очень глубокий смысл.
Хороший, трезвый, опытный духовник всегда поведёт длинным путём, чтобы не было духовного скачка на эмоциях. Скакнув на эмоциях, вы обязательно поймаете эмоциональные состояния. Духовник идёт длинным-длинным-длинным путём, чтобы чадо входило в духовное пространство очень постепенно. Софроний (Сахаров) говорил, что он видел на Афоне монахов, которые были в нетварном свете, сами не подозревая того. И поясняет природу этого явления: они шли очень постепенным путём и настолько плавно, мягко вошли в это состояние, что оно им казалось естественным, не чрезвычайным. Они туда не скакнули, не ворвались, а очень постепенно вошли, даже сами не замечая, где начало, где середина, где конец. Так вот, опытный духовник всегда выбирает долгий, постепенный путь, во-первых, чтобы не было впечатления эмоционального, а, во-вторых, чтобы ещё притупить эмоциональность. Долгий путь предполагает утомление. Духовник всё время притомляет нашу эмоциональность.
Нужно её притомить, потому что мы приходим в православие, в монашество на внешнем сердце. Внешнее сердце – это сердце чувств, эмоций, впечатлений. А то сердце, о котором говорит царь Давид, – сердце глубоко, – похоронено под внешним сердцем. И поэтому у духовника задача – притомить внешнее сердце эмоций, чтобы они улеглись, утихомирились.
Но, если мы эту часть сердца выключаем, человек должен жить чем-то другим. Надо пойти в глубокое сердце, туда, где действительно происходит духовная жизнь. Но наше сердце покрыто коростой, коркой, и, чтобы раскопать глубокое сердце, эту засохшую, затвердевшую почву надо размягчить. Чтобы размягчить почву, её нужно увлажнить. Чем она увлажняется? Слезами. Я ещё страшнее скажу: кровь надо пустить. Слёзы и кровь размягчат корку внешнего сердца, а потом хороший духовник начинает её раскапывать, углубляться во внутреннее сердце, туда, где и возможна духовная жизнь.
Так что тем, кто хочет прийти в православие и сугубо в монашество, сразу надо понять, что заскочить сюда и сразу приобрести какие-то впечатления, состояния, восторги не получится. Путь святых отцов один и тот же: долгий, постепенный. Царствие Божие нудится.
Более того, чтобы войти во внутреннее сердце после размягчения слезами, потом и кровью корки внешнего сердца, его ещё надо расковыривать. Вы представляете, каково это, ковырять живое окаменевшее сердце? Да, оно уже размягчённое, но всё равно это большая боль. И поэтому, если ты приходишь к духовнику и хочешь от него получить не лицемерную, а настоящую духовную жизнь, должен понять, чего это тебе будет стоить. Человек, когда приходит в спорт больших достижений, что должен понять? Что ему придётся на тренировках умирать. Он приходит в искусство. Сколько надо будет сидеть за инструментом? Он должен будет умирать за ним. Приходит в науку. Даже есть такое выражение – «грызть гранит науки», чтобы достичь результата. А если духовная жизнь, Иисусова молитва, называется искусством из искусств, наукой из наук, то, представляете, сколько здесь нужно отдать, чтобы получить не лицемерное, не внешнее?!
Долгий путь. И в этом пути много испытаний, скорбей, слёз, боли, труда, но ты должен идти. По поводу печали сразу делаю такую сноску: люди, совершенно не понимающие монашеской жизни, возмущаются: «Это какое-то сектантство! Какой-то ужас! Садомазохизм! Он призывает их издеваться над самими собой!» Ладно, если так говорят внешние люди, но церковным я хочу сказать: перечитайте святых отцов. Вы их, что, не читали? Путь святых отцов один и тот же. Это путь Моисея, выводящего Израиль из египетского плена. Другого пути не было: пот, кровь, труд, тягота, послушание. Идёшь за путеводителем и не встреваешь со своими мнениями: «Давайте здесь срежем, здесь повернём». Как только у тебя начались с ним разногласия, всё, вы пошли в разные стороны, и ты заблудился. Господи, помилуй!
Ещё раз повторяю: постепенность. Второе – труд, боль, терпение не ради насилования самого себя. Просто надо понять, что нужно притомить внешнее, эмоциональное сердце почти до смерти, потом расковырять оболочку зачерствевшего от греха сердца, смягчить его потом, слезами, кровью, а затем раскопать и углубляться во внутреннее сердце, в котором и есть настоящая духовная жизнь.
Как миновать состояния иллюзий, в которые мы начинаем верить? Господь в Евангелии говорит фразу, определяющую весь смысл духовной подвижнической жизни: «Хочешь быть Моим учеником? Бери крест» (Мф. 16: 24). Не ложку, а крест. Нет другого пути. Если ты хочешь быть молитвенником нелицемерным, Господь поведёт тебя путём в сторону отчаяния. И хороший духовник поведёт в точку отчаяния, но не перейдёт её. Я спрашиваю: «Господи, где Тебя искать?» И Он отвечает: «На краю ада. Я там». Ни в какой другой точке. Ни в веселье, ни в радовании, ни в духовном отдыхе.
Господи, где Тебя искать? На краю ада. Об этом говорят и Силуан Афонский, и Софроний (Сахаров). Почему такое жестокое условие, и почему Он ждёт нас именно там? Подходя к точке ада, или, по-другому можно сказать, – к точке Креста, на котором напряжение духовное такой силы, что даже Бог закричал: «Или, Или, лама савахфани?» – что же должен закричать человек? Он просто должен завизжать. Чем ценна эта точка, и почему её нельзя миновать в духовной жизни? Потому что в точке Креста, в точке на грани ада, выжигаются все эмоции, рассыпаются все иллюзии, и остаётся только объективность. Всё, что ты себе родил эмоционально, не выдерживает этой точки. Это опыт святых отцов.
Может быть, говорю гордую вещь, но я благодарю Бога, что это отчасти сегодня и мой опыт. Только в этой точке ада рассыпаются иллюзии. Они не выдерживают этого напряжения. Душевность не живёт в этой среде. Эта среда для неё неудобоварима. Не способны эмоции жить в среде крайнего напряжения и великого, почти геенского огня. Ты подходишь к точке ада, и оттуда на тебя такая температура! Вспомним, как повышается марка золота. Что портит его? Сопутствующие примеси. Поэтому, чтобы повысить марку золота, его пережигают. И все эти примеси выжигаются, остаётся чистое золото. Это очень хорошая аналогия с духовной жизнью.
Святые отцы подходили сами и вели своих учеников через эту точку Креста, ада. В ней рассыпаются все иллюзии, все эмоции, вся душевность. И рассыпается тот Бог, которого ты себе выдумал. Рассыпаются диалоги, которые у тебя якобы были с Господом и Богородицей. В этой точке всё рассыпается. Остаётся только правда, и начинается другой ад. Потому что иллюзии тебя очень сильно тешили, были твоей драгоценностью, твоим духовным приобретением, которому ты радовался, который считал своим не только интеллектуальным, а якобы бытийным опытом. У тебя уже отношения с Богом, с Богородицей, со святыми, ты уже переживаешь какие-то духовные состояния, и вдруг в этой точке ты теряешь всё и остаёшься просто голым. У тебя ничего нет.
И только этого голого понемножку начинает одевать нетварным светом благодать Божия. Вспомните опыт старца Ефрема Аризонского, который спросил старца Иосифа: «А я где?» – «А ты ещё нигде. Ты не покаялся». Ведь это он спросил не в первый день приезда к отцу Иосифу. Он уже жил с ним какое-то время, уже подвизался, молился, и старец Иосиф уже его вёл каким-то путём. Так, оказывается, старец Иосиф вёл его из минуса к нулю, а за нулём только начинался плюс.
«Ты ещё не покаялся, как покаешься, только тогда начнётся духовная жизнь», – так старец сказал. Он до этой точки нуля вёл его к состоянию покаяния, полного разочарования в самом себе. Наверняка, когда Ефрем пришёл к старцу Иосифу, у него уже был какой-то личный опыт молитвы, свой опыт духовных состояний. И с чего мудро начинает старец Иосиф? Он не поддерживает и не стимулирует эти псевдосостояния. Он их начинает разрушать через таинство послушания и доводить послушника до разочарования в самом себе, когда он совершенно перестаёт верить в любые свои состояния, в любые свои приобретённые «драгоценности».
Это бывает жестоко. Это бывает грубо. Это бывает жёстко. Это бывает больно. В книге «Моя жизнь со старцем Иосифом» описано всё без прикрас. И внешним, не церковным людям, кажется, что это жестоко, фанатично, безумно, без любви. Так в этом и был смысл – разрушить весь его духовный багаж, развеять, пережечь и подвести к точке пока только нуля, чтобы всё внешнее, душевное отвалилось, и он остался обнажённым, ничем не оформленным. И он сам начинает переживать свою обнажённость: «Всё, я ноль. Меня подвели к точке ноля, и, слава Богу, я увидел, что я ноль». Разочарование в самом себе почти на точке отчаяния.
Можно помягче? Можно не подходить к этой точке? Нельзя. Не разочаруешься. Если помягче, всё равно в тебе останется вера во всё-таки немножко хорошего, не совсем пропащего себя. Если ты хочешь идти высоко духовно, нельзя не пройти эту точку полного отчаяния и разочарования в самом себе.
Но, чтобы в этой точке ты не впал в глубочайшую депрессию, не рассыпался, не удавился, как Иуда, рядом с тобой стоит старец и держит тебя. Если есть, на кого опереться, – это драгоценность.
Простите за откровенность, в моей жизни было очень много моментов духовного отчаяния, но, в конце концов, приходил Бог. Это духовное отчаяние могло длиться очень долго, когда казалось, что ты даже веру теряешь. На этой точке отчаяния ты можешь твердить Иисусову молитву, обнимать мощи, целовать иконы, причащаться, но ничего не работает. И в этом великая мудрость Божия. Некоторые люди этого не могут понять, пережить опытно, и кто-то даже уходит из Церкви. В этом Бог, чтобы ты понял, что даже Иисусова молитва, даже Причастие не действуют, пока в тебе не родится крайнее смирение. Крайнее смирение – это когда всё, тебя нет.
Ты пробуешь до конца. Подходит отец: «Давай помогу». – «Нет, нет, я ещё сам попробую». Мучаешься, портишь, отец опять подходит: «Давай помогу». – «Нет, нет, я сам». И вот точка крайнего смирения, когда, наконец, гордыня смирилась, и ты сказал: «Я, правда, не могу. Помогите мне! Господи, помоги!» Вот тогда Бог может подойти и помочь. И в это время происходит духовное чудо. Вдруг ты через эту точку отчаяния выходишь в духовное пространство. Даже не через точку, а через отрезок. Ведь иногда бывают целые годы отчаяния, порой бывают невыносимые недели. А бывает отчаяние такой силы, что пяти минут достаточно, иначе ты умрёшь.
В этой точке отчаяния подходит Бог и начинает чудодействовать. И тогда Иисусова молитва, которая у тебя не получалась, начинает оживать, литургия, причастие начинают действовать. В чём таинство этого момента? В чём его глубокий духовный смысл? Какая молитва может быть объективной? Никакая. Потому что всяк человек несовершенен. И всяк человек, насколько бы он праведен и духовен ни был, всё равно субъективен.
В полной мере объективен только Бог, а человек не может быть совершенным. И поэтому ни одна молитва ни одного человека не может быть объективной. Она всё равно отчасти будет привносить туда своё. Какая молитва окончательно объективна?
Мне было так сладко пережить единение с Софронием (Сахаровым) в понимании, что не я молюсь, а молится во мне Бог. Вот за этой крайней точкой разочарования, умирания. Ты уже даже не молишься, и у тебя внутри начинает молиться Бог. Только это объективно, потому что только Он объективен. Всё остальное относительно. Любое твоё духовное решение, любое твоё духовное переживание, насколько бы ты ни был праведен, опытен, всегда будет субъективно в связи с тем, что ты относителен. Только Бог – совершенство. Так вот, единственное духовное правильное решение – это решение Бога, если Он к тебе в этот момент приходит. Как мы читаем: «Царю Небесный, прииди и вселися в ны»? Как – «вселися»? То есть займи место моего «я» во мне. И уже не я живу, а Ты живёшь, Бог молится во мне, Бог решает вопросы мои, Бог даёт ответы, не мой разум, не моё усердие.
Это чудо. Но, чтобы Богу занять твоё место, тебе нужно разочароваться в самом себе, признать свою несостоятельность и наконец-то сказать: «Я уступаю, я не могу, во мне ничего нет». Только за этой точкой начинается объективность, потому что за этой точкой действует Бог. Почему сюда не приходит субъективность? Потому что она не выдерживает смирения.
Вся субъективность на этой точке попаляется, рассыпается, и остаётся только правда. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6). Но мало кто понимает, а где же эта правда, как её обрести, как к ней приблизиться. В эту правду можно зайти только через собственную «смерть», смерть разочарования в самом себе, смерть отчаяния, когда ты уступаешь Богу своё место. Пока ты молишься, подвизаешься, постишься, решаешь духовные вопросы, Бог стоит и очень деликатно, вежливо наблюдает за твоим театром, изредка подходит и предлагает Себя тебе, но ты пока ещё надеешься на себя и отвечаешь: «Я ещё попробую, потому что у меня что-то получается». Он стоит, горько улыбается, потому что от того, что у тебя сейчас получается, ты получишь потом большую рану. Ещё хуже, когда ты говоришь не «что-то получается», а заявляешь: «Господи, у меня вообще всё получается!» Это уже, конечно, духовная патология, очень серьёзное заболевание.
Все святые отцы шли путём покаяния. Другого пути нет. Как идти путём покаяния? Это не просто говорить «простите, извините». Настоящее духовное покаяние вырывается из глубины души с таким стоном, с такой болью: «Простите меня! Господи, прости меня!» Софроний (Сахаров) говорит: «Я годами плакал, я валялся на полу, я червь, я не человек. У меня было покаяние такой силы, и плач такой силы… Меня вообще нет. Я червь поганый». Вот это покаяние, а не «простите, извините». Это очень легкомысленно. Я даже больше скажу: пошло, потому что это духовный театр.
Ещё одна деталь: ты не видишь Бога. Он неосязаем, невидим. На литургии, когда идёт освящение Даров, священник читает тайные священнические молитвы и перечисляет: «Непостижим, невидим, неосязаем». Всё это он говорит, обращаясь непосредственно к Богу. А как выстроить объективные отношения с Тем, Которого ты не видишь, не слышишь? Это тренируется в отношениях с тем, кого ты видишь, слышишь, обоняешь и осязаешь. С духовником происходит тренировка этих отношений, практика покорения, уступки, сокрушения своей воли даже перед несовершенной волей духовника, потому что нет на земле ни одного совершенного. Ты практикуешь, переступаешь свою волю, отдаёшь, сокрушаешь её.
Опять же это путь святых отцов. Ну, кто мне может сказать, что святые отцы шли каким-то другим путём? Нет другого пути. Все остальные пути уводят в иллюзию. Они вам что-то дадут? У вас родятся состояния, якобы отношения с Богом, диалоги с Ним, даже ответы с Его стороны. На самом деле это будут патологические состояния, ответы от самого себя, диалоги с самим собой. Это психическое поражение, над которым потом внешние, нецерковные люди смеются. Они выдумали себе Бога и разговаривают с Ним. А на самом деле это всего лишь душевное разгорячение. Отвечает? Отвечает. Чувствует? Чувствует. Советы даёт? Даёт. Сам себе советы даёт.
Действительно, духовные отношения рождались крайне редко, потому что это очень длинный, нудный, некрасивый путь. Хочется переживаний, состояний, ощущений, а их нет. Духовник сознательно их рушит. «Он пришёл, взял мои драгоценности и разрушил. Какой он жестокий!» Да пойми ты, он разрушил иллюзии!
Идёт израильский народ по пустыне, кушать хочет: «Зачем мы за этим Моисеем пошли? Жили бы себе в Египте в рабстве, и у нас была бы реальная пища». Искушаются. Потом воды нет… И так сорок лет. Каков смысл того, что сорок лет их Моисей водил? Чтобы вымерли в духовном смысле все страсти. Не только страсти, но и все выдумки этих духовных состояний, которые якобы стали твоим духовным багажом. На самом деле это камень, который тебя не пускает на небо. Этот псевдодуховный багаж не даёт тебе пойти в духовное пространство. Ты несёшь это, как тяжёлые чемоданы. Выкинь их! Но расстаться же с этим тяжело…
На исповеди мне говорят: «Меня тяготит, что нет отношений с Богом, нет молитвы, она сухая». Поймите, это правильный путь. Путь разочарования в самом себе, путь выжигания из самого себя всего искусственно созданного. Это путь святых отцов – нудный, длинный, некрасивый.
И, самое главное, помните, что в каждом вашем состоянии якобы богооставленности как раз Бог и есть. Как у Серафима Вырицкого: «От меня это было. Не в радостях. В потерях. В разочарованиях. В сухости. В якобы богооставленности». Вот как раз там Бог вас врачует, спасает и подводит к настоящей драгоценности, не к фальшивке. Все состояния, созданные на внешнем, эмоциональном, чувственном сердце, – это духовные фальшивки. Нужно их разметать, разжечь, расковырять, выкинуть и начать углубляться очень долго, некрасиво, нудно в глубокое-глубокое духовное сердце. Там Бог. Не на внешнем эмоциональном сердце. На внешнем эмоциональном сердце мы сами с собой разговариваем. Мы сами себе, получается, молимся, отвечаем в диалоге. Это всё мы и есть. А верим, что у нас отношения с Богом. Пусть будет хотя бы со спичечную головку, но духовного, чем огромное количество мишуры, дряни всякой, выдумок.
Через сколько лет Иосифа Исихаста во сне взял Бог и поставил в первые шеренги? Не через полгода. Он уже долго был в монашестве, бегал греха, трудился, а потом Господь говорит: «Хочешь быть совершенным воином – иди в первую шеренгу и умри». Так, оказывается, за точкой смерти как раз и начинается духовная жизнь, а до этой точки – игра в неё, фантазия. «Иосиф, ты готов?» – «Да, Господи». Берёт и ставит в первую шеренгу. Первая шеренга первой и погибает. «Готов такую дать?» – «Готов». – «Иди». Идёт и умирает. Думает, что он входит в точку смерти, а, оказывается, с другой стороны есть выход в духовное пространство, и только там начинается духовная жизнь. До этого была подготовка к покаянию. Только за точкой покаяния начинается духовная жизнь, а до этой точки ещё нужно дойти. Кто-то думает, что духовная жизнь начинается с момента крещения или с момента пострига. Ой-ой, сколько ещё надо пройти! Не пройдя эту точку, никуда не войдёшь. Бесполезно. В иллюзиях так и будешь.
Глава 1
Неведомый, непостижимый, неисследимый…
Совершенный Бог и Совершенный Человек
Когда-то летом маленькими мальчиками мы ночью лежали на траве и смотрели на звёзды. Смотрели в бесконечность космоса и не могли понять, как может быть бесконечность. Не могли мы понять и другую вещь: а как может быть конечность? Наши детские умы были заняты вопросами, на которые не может ответить ни один академик. Ученые-физики, астрофизики могут говорить какие-то мёртво-научные вещи, но, по большому счету, они сами не способны вместить.
Как может быть бесконечность? Где-то же должен быть конец? А как может быть конец? А что дальше? И тогда мы, лёжа на траве и смотря в бесконечность космоса, поняли, что в мире существуют вопросы, которые человеку невместимы. И для нас этот мир стал гораздо шире и богаче, он перестал быть ограниченным нашим пониманием. Оказывается, за границами нашего понимания есть бесконечность, которую мы не можем вместить. Мы просто останавливаемся перед ней с таким трепетом, благоговением, что аж дух захватывает!
Понтий Пилат задал Христу вопрос: «Что есть истина?» Христос ответил: «Я есть истина» (Ин. 14: 6). Истина – не «что», истина – «Кто». Наша логика ломается. В наших шаблонах истина – это «что». И вдруг истина зовётся «Кто». Царствие Небесное – это не «что», Царствие Небесное – это Христос. Мы входим в Него в таинстве обожения, чудесным образом наша природа соединяется с природой Христа.
Для нашего ума «кто» – это всегда личность, которая оформлена, ограничена какими-то рамками. Нам обязательно надо представить личность в какой-то форме. Земное тело Христа таково, а Святая Троица не ограничена форматом. Попробуйте ограничить формой Бога, Который создал бесконечность космоса. Какими рамками вы будете это делать? Он выходит за пределы формы. Наша логика просто дребезжит, протестует, ломается, когда пытается Его оформить. Логике нужно отпустить эту неисполнимую задачу и принять Бога непостижимого, неоформленного, неограниченного.
И в то же время, какое чудесное сочетание: Он – Никто в понимании формы, и Он – Кто в понимании личности. Когда человек встаёт перед этой невместимой, грандиозной, выходящей за рамки задачей, вот тогда начинается благоговение. Когда человек стоит перед оформленным судьёй, который вот здесь положил заповеди, а здесь плётку, ему всё понятно. Исполнил заповеди – получил пряник, не исполнил – плётку. Но тогда человек не благоговеет, он боится, как боятся все язычники. А когда стоит перед непостижимым Богом, эта невместимость приводит его в трепет. И в то же время это не Бог-идея, это Бог-личность, Святой Человек.
Когда человек стоит перед этой тайной, он поднимается на цыпочки, у него горло перехватывает, и он начинает просто трепетать перед этим грандиозным величием, благоговеть, у него текут слёзы. Всю жизнь ходил, под ноги смотрел на землю, и вдруг раз – а там Бог.
Это и есть природа благоговения. Всё остальное – животный страх. Но в неё нужно войти через откровение Бога о Себе Самом. Не мы вдруг поняли что-то о Боге, а Бог Духом Святым коснулся нас, и у нас всё перевернулось, дыхание перехватило. И тогда человек забывает всё земное, способен оставить отца и мать, сына и дщерь. Не в пренебрежении к этому, а в том, что он настолько пришёл в восторг, что всё остальное забыл. В приоритете ценностей это становится главным. Себя самого забывает: я – ничто, созданный Богом червь, который ползёт по поверхности планеты свой жизненный путь, дополз до какой-то финальной точки, замёрз, сдох, высох, рассыпался, ветер дунул, и всё кончилось.
Чтобы за этой точкой было продолжение, нужно войти в вечность, в природу вечного Бога. Всё остальное на земле не вечно, ограничено временем. Время пожирает всё, чего касается. Кроме Бога, потому что Он – творец времени, а не раб его. Он вне закона времени. Время относительно, а Бог вечен.
Бог не ограничен никакой формой. Не может быть ограничен, потому что Он – совершенство. Но Бог нас творит в форме, мы ею определены. Весь этот мир существует, живёт, действует в заданном формате. И, чтобы войти в отношения с этим миром, Господь умаляется, входит форму. Печально, что у нас Рождество стало восприниматься только с умилением: младенчик, волхвы… Мы перестали высоко, богословски переживать это событие. А ведь оно величайшее: Творец Вселенной вдруг умаляется и входит в форму. Она ограничивает Его совершенство и в то же время не ограничивает, потому что Христос – Совершенный Бог и Совершенный Человек. Он не иллюзорно, а фактически наполнил формат этого тела Собой. И в то же время не перестал быть Богом. Господь ради нас творит форму и действует через неё.
Когда мы приехали в Иерусалим снимать фильм, гидом у нас один день был практикующий иудей, человек другой традиции. Он мне говорит: «Отец Сергий, а вы знаете, как мы Бога переживаем? Бог для нас везде». Я отвечаю: «Вот это ваше «везде», оно как бы и «нигде». Бог, который везде, но не оформлен определённо, совершенно трансцендентен, умирает для меня, потому что я никак не могу войти с ним в контакт».
Когда Господь приходит на землю, Он основывает Церковь в определённом формате. Если бы Он был не оформлен, тяга человека к Богу заставляла бы рождать новых идолов. Ведь когда израильтяне лили золотого тельца, ими двигала жажда Бога. Но незнание Бога заставляло следовать своим ассоциациям. У кого-то они были с тельцом, у кого-то – с Перуном, у кого-то – со стихиями природы. И Бог, чтобы остановить это идолопоклонничество, определяет Себя формой Церкви. И она живет в определённых, заданных границах. И Он наполняет Церковь Таинствами, которые тоже ограничены определённым форматом. Ведь если Бог – совершенно чистый Дух, Он бы мог просто невидимым образом осенить человека, и было бы достаточно. Но Господь выбирает форму тела. Потому что для нас, для оформленных людей, это понятнее.
В XIV веке у святителя, афонского монаха Григория Паламы состоялся спор с учёным мужем Варлаамом, который имел великолепное образование, но не обладал реальным духовным опытом переживания благодати. Варлаам услышал от афонитов, как они творят Иисусову молитву, что они видят нетварный Свет Божий, и начал насмехаться над ними, ёрничать и говорить, что либо это иллюзия Света, либо просто тварный свет, который воспринимается разгорячённой душой монаха. Григорий Палама выходит с Афона и доказывает, что нетварный Свет – это действительно свет Божества. Бог проявляет Себя в форме света. Проявляет Себя в формате Тела и Крови Христовых на литургии. Он входит в форму Своим содержанием и через неё наполняет Своим содержанием нас. Входит в формат иконы, которая становится не просто изображением Бога, а наполняется благодатью. Для нас иконы – это окно в духовный мир.
Благодать Божия может наполнять и формат слова. Одному оптинскому старцу духовное чадо жаловалось, что не понимает Псалтырь. «Ты читай, читай, в ней не только информация, но и благодать Божия. Также Бог своими энергиями может наполнять имя Своё: Иисусе, Иисусе… Я говорю сейчас это опытно. Потому что, когда человек пытается говорить Иисусову молитву долго, искренне, упорно, со временем он ловит себя на том, что Иисус из формата слова переходит в Саму Личность. Ты уже переживаешь не имя Божие, а Его Самого».
Как мы принимаем причастие? Какой богослов может объяснить это таинство во всей полноте? Он дойдет до кощунства. В какой-то момент замолчит и скажет: «Слушайте, это таинство». Мы наполняемся благодати Божией через таинства Церкви, через молитву. Для святых отцов молитва была таким состоянием.
Праздник Крещения по-другому ещё называется Богоявлением. И это название мне ближе, потому что богословски глубже. Это не просто Крещение Господа. Богоявление говорит о том, что Господь явил Себя человечеству. И опять же внешнее может кого-то остановить и не пустить в глубину: Бог явился во плоти. Для некоторых этим всё и заканчивается.
А я бы хотел пойти немножко глубже, сокровенней, торжественней, величественней. Богоявление – это не просто Бог явил Себя во плоти. Бог явил Себя в Своей сути. Что это значит? В этот момент Он в очередной раз подчеркивает глубину Своей сути: Бог есть Любовь.
В чём смысл фразы «Бог есть Любовь»? На Богоявление после службы освящают воду, великую агиасму. Для священника и хора существует чин освящения воды, в конце которого есть сноска, как инструкция: «Этой святой водой священник потом кропит всех и всё». В расшифровке «всё» говорится, что он кропит даже сараи, скотину и скаредные места. Господь в Своей любви к человечеству готов смириться и пойти в самые грязные места.
Может быть, кто-то читал житие Порфирия Кавсокаливита. Он приходит в один дом и говорит: «С праздником Богоявления! Я пришел вам всё тут освятить и покропить». И вдруг женщина, открывшая ему дверь, с сарказмом замечает: «Священник, куда ты? Это публичный дом». Тогда отец Порфирий отвечает: «Для Господа нет преград нигде. Мы кропим сегодня всех и всё освящаем. Но не просто бросаем в землю, заранее понимая, что не будет всходов, мы бросаем везде и всё в надежде, что благодать Божия даже на сухой земле даст росток и плод». Он зашёл и покропил всех этих бедных девушек, несмотря ни на что, вопреки всему. Такова суть праздника Богоявления, которую через святого преподобного Порфирия явил Господь.
Обычно православные очень ревностно соблюдают: вот этому можно, а этому нельзя. И вдруг в чинопоследовании великой агиасмы мы читаем: «Всем можно, всё можно». Но это не для того, чтобы люди расслабились и подумали, что можно жить беспутной жизнью, и добрый Бог всех спасёт. Нет, это кощунство. Речь идёт о том, что Господь готов снизойти в самый низ, в самую грязь, не гнушаясь, не брезгуя, взять за руку и потянуть к свету.
Как мало, к сожалению, мы говорим об этой сути праздника Богоявления. Чаще – о чуде святой воды, что она освящается, и достойные причащаются её достойно. Оказывается, она даже для недостойных. Единственное достоинство – это признать своё ничтожество: «Господи, я в самом-самом-самом-самом низу!»
Помните прокажённого: «В самом низу я лежу, Господи, если хочешь, можешь меня исцелить» (Мф. 8: 2). Как прокажённые отличаются от надутых фарисеев, законников, которые молятся Богу в храме и говорят: «Я всё исполнил, всё до мелочи, я чист, я великолепен, я достоин». Как прокажённые отличаются! Посмотрите, какие слова: «Господи, если хочешь, можешь меня исцелить». Всё в Твоей воле, всё в Твоих руках. Я – ничтожество (извините меня за такое слово), я – просто ниже канализации, срам я. Если хочешь, можешь меня исцелить. Ты позови меня, и я пойду. Вот и всё спасение. Не в долгих молитвах, не в коленопреклонениях, не в жестоких постах, не в хождении в храм. Вот в этом вся суть: «Господи, если хочешь, можешь меня исцелить».
Знаете, что я сейчас слышу от Господа? «Деточка, хочу». И это очень, очень укрепляет.
В Евангелии рассказывается, что Господь пришёл в отечество Своё и там «не совершил многих чудес по невежестве их» (Мф. 13: 58). И дальше такая фраза: «Нет пророка в своём отечестве». В ежедневных бытовых отношениях люди видят обычные человеческие проявления личности. Если эта личность далеко, от неё приходят только какие-то чрезвычайные новости. Кто будет говорить об обыденных вещах? А когда люди живут близко друг к другу, они видят самые обычные человеческие проявления. Господь был Совершенный Бог и Совершенный Человек. И Он вошёл в человечество со всеми нюансами, деталями. Обратите внимание, насколько глубоко Он входит: присутствует на свадьбе, общается с мытарями, блудницами, сидит с ними за одним столом. Это очень искушало фарисеев и законников.
Умирает Лазарь – Он плачет по-человечески. Для «очень духовных людей» это слабость. Господь входит в эту слабость человеческую, кроме греха, настолько глубоко, что в Гефсиманском саду Он молится Отцу Небесному: «Да минует Меня чаша сия» (Мф. 26: 39). Это обычный человеческий страх перед великой болью, скорбью. Господь и в это входит.
Бестолковые люди, которые совершенно не понимают этих вещей, мотуг даже осудить Господа: «Бог – и вдруг проявляет слабость?!» Чаще всего такие рассуждения позволяют себе те, у кого, наверное, никогда ничего не болело. Они даже не понимают, на какую скорбь идёт Господь, на какую страсть. У них в жизни всё было ровно, гладко, весело. Поэтому они не могут понять Бога, Который с Креста кричит: «Или, Или! Лама савахфани?» – «Боже мой, Боже мой, почему Ты Меня оставил?» (Мф. 27: 46). Что это? Недоверие Богу Отцу? Помните, как в общине Иосифа Исихаста у молодого Ефрема заболел зуб, а Иосиф ему: «Терпи». Арсений подходит и говорит: «Иосиф, да у тебя зубы никогда не болели, ты не можешь его понять, отпусти ты его к врачу».
В своём отечестве люди видят Господа через призму обыденных, ежедневных ситуаций, поэтому у них нет веры к Нему, они видят в Нём человека, в котором присутствуют слабость, боязнь скорби. Всё естественно, Господь сознательно так идёт. Он не становится иллюзией человека, а рождается человеком в полной мере, кроме греха. Поэтому люди, которые смотрят на земное и не видят небесного, искушаются.
Обратите внимание: Иисус выбирает двенадцать апостолов, и один среди них – Иуда. Разве Господь не прозорливец? Когда Он выбирает апостолов, разве не видит, что один из них – человек, который предаст Его? Конечно, видит. Это в сознательном Промысле Божием. Господь не просто его выбирает, Он наделяет его духовными дарами, как и всех других апостолов. Иуда наверняка так же исцеляет, изгоняет бесов, творит чудеса. И с самого начала Бог видит, что это Иуда, и сознательно выбирает его среди двенадцати. Он входит в Промысл Божий.
Благодать божия
Вспоминается евангельская история, как отец умирающей дочери Иаир попросил Господа, чтобы Он спас её. Но ещё до того, как Господь пришёл в дом Наира, на пути Его встретилась женщина, много лет страдавшая кровоточивою болезнью. Обошла всех врачей, истратила на них всё, что имела, но нигде не смогла получить исцеление. И она решила: подойду сзади, прикоснусь к Нему и исцелюсь. Это не о том, что она так решила, поверила, и поэтому так и произошло. Это не иллюзия и не абстракция какая-то, а очень объективно, бытийно. Господь произносит очень точные слова: «Я чувствовал силу, от Меня исшедшую» (Лк. 8: 46). Женщина через это прикосновение получает от Господа силу, которая её исцеляет. В среде православных это называется благодатью.
Святые отцы приняли определение этой силы ещё от языческих философов и называли её в православном богословии энергией Божества. Энергия – это сила. Учёные понимают это слово как энергию, реальную силу. Не иллюзия: просто я поверил, и что-то произошло.
У Господа есть постоянное желание отдавать человеку Свою энергию жизни. Но большая часть людей закрыта к её принятию. А эта бедная, исстрадавшаяся женщина, у которой не осталось надежд ни на кого и ни на что, принимает. Когда уже нет надежд ни на кого и ни на что, остаётся единственная надежда – на Бога. Тот, кто в жизни скорбел, может подтвердить: «Да! Ничего больше – только Бог». Эти люди, которые открываются Богу через скорбь и возлагают свою великую надежду на Него, принимают с Его стороны реальную бытийную энергию, силу, благодать.
И она не только врачует. Дальше Господь идёт и не успевает к дочери Иаира. Двенадцатилетняя девочка умирает. И Он говорит отцу странные для окружающих слова: «Не бойся, не умерла она, но спит». И те люди, которые уже констатировали факт смерти, начинают смеяться, ёрничать: «Да мы же видели, что она умерла». Господь входит и воскрешает её, в мёртвое тело передаёт Свою энергию, Свою благодать, Свою жизнь. Христос и есть жизнь. Каждый из нас без Него – смерть. Чем мы живём? Какой-то внутренней энергией. Бедные наивные учёные думают, что это всего лишь химические процессы, которые бурлят внутри наших клеток и вырабатывают энергию. А где все эти учёные потом оказываются? На кладбище. Будь ты профессор, академик, что ты понимаешь в бытии, в смысле жизни, что откуда течёт и куда перетекает? Человек – это не химические процессы, которые перетекают в физические и источают энергию. Это нечто другое: в него Господь вдохнул жизнь. И человек стал вдруг моргать, улыбаться, передвигаться в пространстве.
Есть такая восточная притча. У китайского мастера фарфоровых кукол были куклы, достойные только императорского двора. Настолько они были мистически великолепны. Его ученик в мельчайших подробностях перенял всё его искусство. Делает куклу, а она всё равно отличается от работ мастера. Ученик приходит к нему и спрашивает: «Мастер, что я ещё не сделал, что нужно сделать?» Мастер взял эту куклу и говорит: «Нужно вдохнуть в неё энергию».
Это восточная притча, а по большому счёту – бытие человека. Каждый из нас – всего лишь материальная кукла. И чтобы она заморгала, заулыбалась, чтобы у неё в голове начались процессы, которые рождают мысли, творчество, в эту куклу нужно вдунуть дыхание Божие.
Как царь Давид говорил в Псалтыри: «Рече безумец в сердце своём: «несть Бог» (Пс. 13:1). Эти безумцы умирают и уходят в никуда. То, что Господь дал этой бедной, страдающей женщине, которая ни от одного врача не могла получить, то, что Он дал умершей дочери Иаира, – это энергия Божества. «Энергия» – слишком физически звучит, и для нас непривычно. Хотя святые отцы этим словом богословски пользуются. Я бы назвал это не «энергией», а «самой жизнью». Вот это и есть жизнь: дыхание Духа Святого, Который всё оживляет, исцеляет.
Но нужно быть восприимчивым к Его принятию. Нет на земле человека, в сторону которого Господь бы не дышал, согревая его. Но кто-то принимает, кто-то не способен на это, а кто-то даже и не хочет: «Не надо мне». Ну, не надо, так не надо. «Царствие Небесное» тебе не скажешь, «вечная память» – может быть. Но и то, какая вечная память? В третьем поколении уже забудут тебя, ты же не Пушкин и не Достоевский, чтобы тебя в четвёртом и пятом поколении помнили. В третьем уже забудут. Вот меня сейчас спроси о прадедах, и я уже не назову их имён…
Всё в Боге. Смысл, жизнь, радость, здоровье – в Нём. А иногда, знаете, даже здоровья не нужно, лишь бы быть в Боге. Потому что человек, у которого всё хорошо, начинает забывать Его как источник. Такое здоровье и благополучие не нужно. Лучше быть в скорби, но с Богом, чем в радости, но без Господа. Потом эта радость рассыплется, обессмыслится.
В день Святой Пятидесятницы на апостолов чудесным образом обильно сошёл Святой Дух. Я подчеркиваю это слово – обильно! Потому что отчасти Святой Дух был знаком и ветхозаветному человеку. Всё-таки ветхозаветные пророки говорили не от своего ума, а от Святого Духа. И вообще всё в этом мире живёт и движется Духом Святым. Но в день Пятидесятницы произошло чрезвычайное событие: человек вместил обильную благодать, благодать той меры, которую не знало ещё человечество.
Её вмещают апостолы, по большей части необразованные, неталантливые, неглубокие люди, чтобы в контрасте с их посредственностью ярче была выражена чрезвычайность этого явления. Ведь если бы это были какие-то особенные люди, можно было бы подумать, что это они прозвучали, но благодать действует через наипростейших, наиобыкновеннейших.
Человечество такого никогда не видело, а потому не понимает этого события. Люди, которые наблюдали в Иерусалиме проявление через апостолов благодати Духа Святого, говорили: «Они напились вина, они пьяные». А почему законники так подумали? Апостолы делали какие-то непристойные вещи? Как-то неадекватно себя вели? Да ни в коем случае! Они были чрезвычайно непонятны. Они были иными в этот момент. Поэтому законники и говорят, что они пьяные, какие-то странные, совершенно другие.
Вслед за ними апостола Павла, уникального человека, который не был на Пятидесятнице и не видел Христа при жизни, посещает благодать Духа Святого именно в момент, когда он выпросил документ, чтобы разыскивать с ним христиан и предавать их мучениям, казням. И опять благодать действует в том, кто по человеческим меркам недостоин этого.
Недостойному даётся благодать, потому что он её не осквернит своей самостью, не припишет всё себе самому, как сейчас это делают люди, увлекающиеся восточными течениями. Они всё время раскрывают в себе свои собственные внутренние резервы, раскапывают свою драгоценность. Да какую там драгоценность раскапывать? Там у нас смрад. Что там копаться? И чем глубже копаешь, чем смраднее и смраднее. Ты словно зловонную яму открываешь.
Благодать приходит к извергу, который вроде бы недостоин. И он понимает, что он – изверг. Этот человек приходит к мудрецам в Афинский Ареопаг и начинает им говорить настолько странные вещи, что эти философы отмахиваются: «Павел, приходи в другой раз. Ты чудной, сумасшедший. Ну, что ты нам говоришь? Мы переполнены знаниями, не бытийным, а философским опытом. Что ты нам нового пытаешься открыть? Ты говоришь безумные вещи».
Апостолы – «пьяные», Павел – «безумный». Благодать настолько инородна разуму этого мира, что он её не может вместить, понять, наивно смеётся над ней, иронизирует. Он психует, сердится на неё, гонит до убийства, до мучений, она его раздражает своей непонятностью. С одной стороны, – непонятность, а с другой – они интуитивно чувствуют в ней какую-то чрезвычайную силу. С одной стороны, не могут вместить, с другой – понимают, что проигрывают перед ней, она злит их и заставляет воевать.
Если благодать Божия становится понятной, то перестает быть благодатью. Это мудрость века сего, насколько бы она тонка и изощрённа ни была. В связи со своей чрезвычайной надмирностью и высотой она не может быть понята интеллектом, разумом. Она просто живётся бытийно. Святые переставали грести в сторону мудрости. Они в восторге поднимали вёсла и просто плыли по течению, куда несла их благодать. Пока ты потеешь, прилагаешь усилия, строишь свои планы, определяешь себе цель, ты всё время плывёшь не туда. Покорись благодати, пусть она тебя ведет: Господи, не как я хочу, а как Ты. Я не хочу называться сыном, другом, пусть я буду рабом.
Я обратил внимание на то, что во многих нецерковных людях есть этот стержень гордости: «Как я могу быть рабом Божиим?» Рабом Божиим не в смысле животного страха перед Ним, а в смысле любви к Нему. Эта любовь не земного плана. В земном плане мы понимаем друг друга, осязаем, определяем, очерчиваем, а это любовь к сверхъестественному. Ты понимаешь и не понимаешь, любишь и не вмещаешь, алчешь и не наполняешься.
Все гимны преподобного Симеона Нового Богослова полны этими антиномиями: «вижу и не вижу», «черпаю и не наполняюсь», «жажду и не насыщаюсь». В связи со своей надмирностью, чрезвычайностью благодать Божия не вмещается в границы, не очерчивается, не определяется и в то же время живётся. Мир привык к логике, к тому, что надо всё разложить по полочкам, и вдруг ему говорят о невместимом и вместимом, о непознаваемом и переживаемом. Мир так не привык, он сердится, психует и мстит. Чтобы вместить премудрость Божию, нужно стать безумным в формате этого мира. Но это не всем понятно, и поэтому многих раздражает.
Апостол Павел сказал: «Я потрудился больше всех апостолов». Давайте свежим взглядом посмотрим на его слова. По-христиански разве можно так говорить? Это же гордо, а никто гордый не войдёт в Царствие Небесное. Как же тогда апостол может произносить столь дерзкие слова? Ведь это очень опасно! Через искушение гордостью он может прямо в ад отправиться. Но Павел продолжает так: «Но всё, что я сделал – это благодать Божия» (1 Кор. 15: ю).
И сразу становится всё безопасно. Благодать Божия – это не от себя, это не то, что ты сам решил и людям озвучил. Она осеняет тебя как откровение, устраивает твою жизнь очень мудро и приводит в безопасность.
Дальше апостол говорит о себе такую деликатную вещь: «Мне дан ангел сатанин, чтобы мучить меня. Я много раз просил у Бога, чтобы Он его отнял». И Господь ему ответил: «Терпи. Довлеет тебе благодать Моя». Всё в Его благодати. Терпи! Это терпение даёт тебе крепость смирения, осознание, что всё, что ты имеешь, – великий дар слова, великий дар рассуждения, благодати, – это всё благодать Его (2 Кор. 12: 7–9). Ты сам по себе ничто. Потрудился больше других апостолов, но, если не особенно Его благодатью, то всё, что ты сделал, с тобой и умрёт.
В Евангелии есть такой момент – подходит к Господу юноша и спрашивает: «Учитель благий, что мне делать, чтобы спастись?» И Он ему отвечает, что надо соблюдать заповеди: любить ближнего, не красть, не прелюбодействовать, почитать отца и мать. И этот юноша говорит: «Господи, да я всё исполнил! Во всей полноте исполнил закон Божий». И тогда Господь произносит: «Хочешь быть совершенным, оставь имение своё и следуй за Мной» (Мф. 19: 16–22). А у него было большое имение. Ушёл смущённый, не смог этого понести.
Многие в земном разрезе оценивают его имение как дома, богатства, земли, рабов, драгоценности, а святые отцы смотрят глубже. В чём же его имение? Оно не только земное, это и духовные дары, и духовные достижения, труды. Всё, чего ты достиг в духовной жизни, – научился молитве, послушанию, бдению, соблюдаешь пост, раздаёшь милостыню, – становится твоим духовным имением. И вдруг даже в этом духовном плане Господь может сказать: «Оставь имение своё и следуй за Мной». То есть, если не можешь пожертвовать всем духовным, которое ты приобрёл, то останешься всего лишь со своим мнением и никогда не достигнешь совершенства.
Почему апостол Павел может говорить, казалось бы, такие гордые и дерзкие слова и оставаться апостолом Павлом? Потому что понимает: всё, что он имеет – это ангел, который его мучает. Всё остальное, доброе – от Бога, принимается в Царствие Небесное как труды, как заслуга. Можно жить церковной жизнью долго, искренне, пятьдесят лет ходить в храм, ни одной службы не пропускать, читать Псалтирь, раздавать имение – всё то, что сделал тот юноша, – а, смотрите, Господь ему говорит: «Ничего-то ты ещё не доделал». Если ты всё делал через свою самость: «моё доброе сердце так желало, мой разум, который понял, что мне нужно спасаться, так говорил», – это всё твоё. Попробуй отдать, когда ты приобретал это пятьдесят лет! Приобретал молитву, науку послушания, отдавания, смирения! Но это всего лишь твоё. А когда ты готов всё это отдать, Бог начинает тебя спасать. И это даже для человека, ходившего десятки лет в храм, может быть, служившего литургию, становится откровением, чем-то новым, совершенно неведомым. Когда ты вдруг начинаешь спасаться благодатью Божией, а не своей искренностью, мужеством, усердием, терпением. Всё это перед благодатью Божией рушится, но она – это чудо. Никто не может понять дерзких слов апостола Павла. Он мог это сказать – никто из нас не может.
Помните, когда тот юноша отошёл в печали, апостолы в недоумении спросили у Господа: «Так кто же может спастись, если этот чистейший девственник, который даёт милостыню, исполняет законы, ходит в храм, читает Священное Писание, молится, почитает родителей, вдруг от Тебя отходит печальный, потому что Ты говоришь, что ничего он не сделал?» И тогда Господь произносит ключевую для всех христиан фразу: «Человекам это невозможно».
Ты хоть лоб разбей, хоть всё земное имение раздай, человекам это невозможно, всё возможно только Богу (Мф. 19: 26). К этому нужно прийти через разочарование в самом себе. Вот когда ангел сатанин замучает тебя до той точки, что ты закричишь: «Всё, я ничто, Иисусе, Иисусе! Всё, я лежу мёртвый! Подойди, подыми меня!» – с этого момента начинается христианство. Для кого-то через тридцать, для кого-то через пятьдесят лет, а для кого-то, к сожалению, так и не начнётся. Помрёт он христианином, соблюдавшим заповеди Божии, почитавшим отца и мать, раздававшим имение, но не докончившим чего-то главного, не понявшим, что всё – в Благодати Божией. Всё наше – красиво, как цветок: распустился, порадовал глаз, завял, высох, осыпался, и нет его.
Смотрите, какими были великие апостолы. Иисус идёт на распятие, а они: «Господи, можно спросить? Даруй нам, чтобы мы могли сесть один по правую руку от Тебя, а другой по левую в Царствии Небесном?» (Мк. 10: 37). Это какое безумие надо иметь, чтобы, когда твой отец идёт на смерть, разбираться, кому достанется машина, а кому – квартира? Вот какими были апостолы! Думаете, они стали великими апостолами через переосмысление жизни после распятия Христова? Да никто ничего не может осмыслить! В день Пятидесятницы Господь их освятил Духом Святым, и вдруг с ними что-то произошло.
Никто не может спастись, никто не свят, только Бог. «Человекам это невозможно, Богу возможно всё». Но, чтобы прийти в это состояние, нужно пережить точку глубокого смирения, переосмысления самого себя и своих дел. Господи, спасай Ты меня, я уже наспасался! Иисусе сладчайший, спаси нас!
Пища духовная. О молитве
Человек Богом так премудро устроен: его физиология для поддержания жизни постоянно требует питания. Наша плоть нуждается в воздухе, и поэтому мы всё время дышим. Должны употреблять пищу, иначе умрём. Но как интересно устроен наш ум! Он тоже постоянно требует пищи, информации, чтобы её переваривать, чтобы жить. Иначе он начинает голодать.
Если ум не получает информации, он просто перестаёт существовать, его бытие не имеет смысла. И поэтому постоянно поедает и поедает информацию, всё время чем-то интересуется. Есть такое выражение – «пытливый ум». Это его естество – быть пытливым. Можно ещё сказать, что наше обоняние требует постоянной информации. Оно хочет ощущать запахи. Вообще вся психосоматика человека постоянно нуждается в пище. Физиология требует физиологической пищи, душа – духовной. Ум постоянно потребляет эту пищу и не насыщается. Иначе, если его остановить, он начинает скучать и умирать, человек испытывает дискомфорт.
Все мы понимаем, чем питается наш ум, но мало кто живёт духовную пищу. Мы не живём её и не понимаем. Нашему уму иногда интереснее получать информацию в формате этого мира, а когда мы открываем Псалтирь или Евангелие, он начинает скучать, потому что не переваривает эту информацию, так как она другого плана, иной природы, а ум настроен на земное. У него нет опыта переваривания пищи духовной. Он пытается насладиться информацией в Псалтири, но, если её читать просто земным умом, она становится не очень-то и богатой. Примерно одно и то же. А если ты её прочитал сто, тысячу раз, она перестаёт тебя удивлять, удовлетворять твоё любопытство. Это я говорю о Псалтири, в которой сто пятьдесят псалмов.
А если взять Иисусову молитву, в ней всего несколько слов: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного!» Если мы их воспринимаем как внешнюю информацию, скоро они станут для нас обыденными, банальными, примитивными, потом – скучными или даже ненавистными, если мы не поняли, не уловили, что в этих словах присутствует не только рассудочная информация, а есть информация подтекста, Духа. Она слышится не в логической литературной форме, а живётся через впечатление, которое даёт молитва.
Если человек переформатируется из области логики в область Духа, вдруг оказывается, что в этих словах – бездонная информация, которая никак не насыщает. Он питается ею и не может насытиться, потому что для него это уже не несколько слов, а переживание Царствия Небесного, которое вне формы слова, которое не объяснить. Наш ум начинает питаться информацией, находящейся не в словосочетании, а в глубинном смысле. Она становится глубже всего, что он в жизни искал, чем интересовался, находил, перечитав все библиотеки. Потому что книги написаны от логики, а она ограничена. А эти слова несут Дух, Который вне формата этого мира, не ограничен, бесконечен.
Как часто православные скучают по молитве! Потому что их ум настроен на информацию земного порядка, которая уже триста раз прокрутилась и наскучила. А если бы настроились на информацию Духа… Когда читаешь Псалтирь, и идёт текст логический, а параллельно – текст Духа, который совсем иного плана и другого формата, тогда Псалтирь не наскучивает, Евангелие не наскучивает, не наскучивают пять слов Иисусовой молитвы, повторённые сто, тысячи, миллион раз.
Если мы будем подходить со стороны рассудка, миллион раз одни и те же пять слов – это скука. И вдруг эти несколько слов раскрывают информацию ненасытимую, бесконечную. Хочется снова и снова говорить: «Иисусе, Иисусе, Иисусе…» Это информация другого плана, на неё нужно перестроиться из области логики в формат сердца.
В XX веке был Иосиф Исихаст – чрезвычайный человек даже для Афона. Практиковал сугубо Иисусову молитву. Когда он умирал, заповедовал членам своей маленькой общины не оставаться вместе, а разойтись, чтобы это дело множилось. Они исполнили: стали игуменами, духовниками афонских монастырей. Один из учеников поселился недалеко от столицы Афона. И там был монах, которого сильно тревожил их необычный образ жизни. Однажды он не сдержался: «Вот вы, исхиаты, оставили все чинопоследования святых отцов. Они же писаны Духом Святым! Вы всё оставили и занялись только Иисусовой молитвой». Старец Харлампий ответил: «Мы не оставили. Но если бы ты знал, как по-другому живутся эти чинопоследования, когда ум пребывает в Иисусовой молитве!» Поэтому, да, есть традиция, если человек занимается Иисусовой молитвой, сократить другие правила, чтобы формат времени увеличить именно для неё. Но это необязательно.
Я могу вслед за старцем Харлампием сказать те же слова. Если бы вы знали, как живётся Божественная литургия после того, как немножко организуешь свой ум! Иисусова молитва ведь по-другому ещё называется «умной молитвой». Само это предполагает, что мы что-то делаем с умом. И святые отцы попытались наш непослушный ум приучить.
Попробуйте многократно почитать «Отче наш». Сколько раз за это время вы подумаете не об Отце Небесном, а даже о какой-то пошлости? Умная молитва занимается, во-первых, организацией ума и, во-вторых, – соединением ума с Богом. Но чинопоследования являются вспомогательными, разогревающими на делание сугубой молитвы. Когда Иосифа Исихаста спросили, что предпочтительнее, он ответил: «Для мирян – Иисусова молитва, а для монахов – таинство послушания».
У нас в дореволюционной России Иисусова молитва была очень традиционна. Не надо ассоциировать её с состоянием созерцательности, откровения. Ведь мы Иисусову молитву начинаем просто с устной молитвы, которую можно произносить непрестанно во всех трудах, во всех обстоятельствах. Потом можно прийти к тому, что устно – недостаточно, и очень хорошо продвинуться в сторону умной молитвы.
Когда человек делает Иисусову молитву очень-очень много раз, она постепенно из области логики переходит в область интуиции. Входит в привычку – вторую натуру. И, действительно, у людей есть такое, что они могут работать бухгалтерами, но не оставлять Иисусову молитву. Я сплю, а сердце моё бдит. А пока что во время сна сердце может залезть куда угодно.
В советское время у нас в Оренбурге на лавочках сидели бабушки. Они вязали оренбургские платки, а сами между собой разговаривали, обсуждали что-то. Когда она только начинала вязать, ей нужно было, чтобы мозг был здесь, иначе она петлю потеряет. А когда у неё руки эти движения после многократного повторения уловили, всё ушло в интуицию. Какой результат? Платок связан! Кто-то скажет, что без внимания – это грех. Извините меня, на уровне интуиции человек тоже живёт ответственно, чувствует, что он делает.
У меня есть друг, который, приехав на Афон, попал в общину греческого старца. У него было два греческих ученика, и он согласился взять русского. Мой друг рассказывает: «Я три дня не мог понять, где у нас работает генератор в пустыни. День и ночь: тддддд… На третий день я понял, что это за стенкой старец и днём, и ночью говорит своим баском: «Кирие Иису Христе, элейсон мэ, Кирие Иису Христе, элейсон мэ». Я его спрашиваю: «Геронда, а как вы так можете?» Он отвечает: «Сынок, я здесь живу шестьдесят лет и шестьдесят лет это делаю. Какое-то время, может, год-два-три мне нужно было для этого понуждение. Теперь я даже остановить это не могу, потому что это стало моей второй натурой. А ещё остановить я это не могу потому, что, понимаешь, как физиологически человек должен дышать кислородом, делать вдох и выдох, хоть он спит, хоть он задачу решает, так, когда оживает душа, по Симеону Новому Богослову, она начинает дышать. Но дышит не кислородом, а молитвой: «Иисусе, Иисусе, Иисусе». Она реанимировалась, раздышалась, ожила, заморгала, и теперь, если мне остановить эту молитву, я буду чувствовать удушье, как будто мне перекрыли кислород. Так моя душа начнёт задыхаться, если я не буду вдыхать эту молитву: „Иисусе, Иисусе, Иисусе“».
Начинающие иногда отмечают, что бывает сердечная или головная боль при Иисусовой молитве, и пугаются. Я сразу говорю: не бойтесь, это пройдет, нужно перетерпеть. И святые отцы во многих местах об этом пишут. Просто вы делаете необычную работу со своим умом. Ум привык жить рассеянно, и вдруг вы его нагружаете вниманием, и он начинает болеть. Так же и с сердцем. Когда мы тесним внимание в одно место сердечное, тоже появляется эта боль, но она потом пройдёт, если вы будете идти дальше.
Знаете, я обратил внимание на то, что стереотипами о какой-то страшной Иисусовой молитве болеют люди, которые сами ею не занимаются.
Хочу ответить на один из самых важных вопросов. Ведь если здесь будет ошибка, всё дело пойдёт насмарку, сложится печальная картина, когда человек искренне прилагает усилия, тратит время, а получает даже не нулевой, а отрицательный результат. Часто мне задают вопрос: «Существует в обществе такое мнение, что от Иисусовой молитвы можно повредиться, сойти с ума. Действительно ли это так?» Отчасти это так, если заниматься ею неправильно. Как и в любом другом деле, если выполнять его неправильно, получишь отрицательный результат. Нарушая фундаментальные основы Иисусовой молитвы, конечно, можно повредиться. И мой опыт общения с людьми церковными, ищущими духовной жизни, говорит мне, что такие случаи бывают. Это печально, когда человек берётся за святое дело и имеет очень плохой результат.
В чём суть ошибки? В том, что люди сознательно или бессознательно пренебрегают основополагающими принципами Иисусовой молитвы. Хотят сразу ощущений, состояний духовных, даров. А наука Иисусовой молитвы, наоборот, категорично запрещает желание этих переживаний. Опыт святых отцов, приобретённый потом и кровью, призывает в занятии Иисусовой молитвой к максимальной сдержанности эмоциональной части души. К максимальной до того, что некоторым кажется, что это некрасиво, невдохновенно, безжизненно, мертво. Но как раз это и безопасно. Святые отцы говорят: «Держи ум в безвидности, в безобразности». Я продолжу: не только безвидность и безобразность, но ещё и безэмоциональность, бесчувственность. Да, это кажется некрасивым, невдохновенным, скучным, мёртвым. Но вот в этом-то и есть безопасность для человека, ещё не имеющего опыта различения состояний, понимания, в каком духе он сейчас находится: в духе разгорячения или, действительно, в Святом Духе, духе покаяния.
Есть такое выражение: «Дай мне, Господи, покаяние нелицемерное!» Мало кто задумывается, что покаяние может быть лицемерным. Для нас покаяние – это правильное состояние. Но даже оно может быть лицемерным, если происходит от эмоционального разгорячения. Человек, ушедший далеко от состояния духовного, живёт состояниями душевными, состояниями внешнего сердца. И, конечно, он даже в духовное пространство входит эмоционально. Пусть это будет с добрыми, самыми благими намерениями, но у него нет опыта, его сердце не глубоко. И поэтому все святые отцы говорят, что не нужно ничего: ни эмоций, ни впечатлений. Избави Бог от каких-то даров! Ну, какие дары, когда у тебя в элементарных понятиях ещё не выстроилась духовность? Ты, как слепой котёнок, пытаешься что-то переживать. Это самая главная ошибка, когда люди в Иисусовой молитве начинают искать состояний.
Кто-то может мне возразить, что у святых отцов присутствовали высокие состояния. У святых отцов была культура духа, которая оттачивалась многолетним опытом, у них была культура покаяния. «Дай мне, Господи, покаяние нелицемерное!» Даже покаяние может быть недуховным, а всего лишь душевным, эмоциональным. Оно может быть нечистым, когда человек со стороны наблюдает своё покаяние и сам себе умиляется. Оно становится смрадом перед Богом. Покаяние в Духе Святом отличается от покаяния душевного. Слёзы духовные сильно отличаются от слёз душевных, очень легкомысленных, эмоциональных. Святые отцы проходили науку покаяния и приобретали его в Духе Святом. Духовный рост должен идти параллельно с наукой покаяния. Одно другое уравновешивает. И если, не дай Бог, покаяние отстаёт, а духовный рост опережает, получается дисбаланс, человек переворачивается с ног на голову и становится сумасшедшим при самых благих намерениях. Если его покаяние и все духовные состояния опираются на эмоциональную, впечатлительную часть души, это очень и очень нестабильный фундамент.
И поэтому святые отцы приглушали свою душевность, впечатлительность, сокращая её до минимума, чтобы безопасно пройти начальный этап. Самая главная ошибка, когда люди не хотят его проходить в скуке, в некрасивости, в неумилении, стремясь согревать своё сердце душевными эмоциями и этим вдохновляться. Но вдохновляются не в духе, а всего лишь в своей душевности. Они не согласны пройти путь безэмоционального, безобразного, почти умирания впечатлительной части души. Им нужно здесь и сейчас. И поэтому некоторые из них, если не получают, начинают употреблять в Иисусовой молитве искусственные приёмы, нажимать на своё внешнее сердце, на сердце эмоций и впечатлений. Искусственно теребят эти точки, разгорячают их и получают эмоциональную духовность, эмоциональную Иисусову молитву. И обязательно повреждаются.
Действительно, их начинают посещать какие-то состояния. Духовный, опытный человек сразу понимает, что они собой представляют. Но новоначальный не отслеживает их сути. Ему кажется, что это уже нечто, и он приходит в состояние прелести, которое называется мнением о самом себе: «Вот, у меня уже получается! У меня уже слёзы, у меня уже теплота, какая-то особенная молитва! Я уже что-то слышу, что-то чувствую!» Это начало его духовной деградации.
Сначала его посетит мнение о самом себе, и через это состояние он потеряет благодать Духа Святого, потому что мнению о самом себе сопутствует гордость. И человек повреждается, становится слепым, глухим и безумным. Потом душевная болезнь может перейти в психическую. Избави Бог! Когда-то нам духовник говорил: «Лучше руку или ногу потерять, но только не лишиться духовного разума». Потому что это путь без возврата. Такой человек уже не отдаст своё мнимое, фальшивое сокровище, которое на страшном суде рассыплется в прах.
В этом и ошибка. Святые отцы призывают к неразгорячению, к неисканию состояний, а человек, приходящий в Иисусову молитву, желает их, ищет, приобретает и через это повреждается.
Но виновата здесь не Иисусова молитва. Её принцип другой: умертвить душевность и, пройдя точку её смерти, выйти в духовность. И не тащить в духовное пространство свои эмоции, какие-то нездоровые психические состояния. Ни в коем случае не нужно спешить, всё придёт в своё время. Пусть это будет долго, но безопасно. Постепенность безопасна, ускорение шага всегда чревато.
Конечно, у святых отцов мы читаем рекомендации, что для того, чтобы взогреть своё сердце, можно немножко нажать на точки покаяния, страха Божия, умиления, но, я думаю, безопаснее было бы вообще никуда не нажимать. Даже эти струнки души не возгревать. Делайте сухо. День, месяц, год, десять лет делайте, не желая, не ища этих состояний. Когда посетит Господь, это будет очень объективно, реально, и, самое главное, это будет правда.
От Иисусовой молитвы не сходят с ума, если ею занимаются, соблюдая фундаментальные правила. Если нарушить их, да, можно повредиться, будет печальный результат.
Но это не значит, что не нужно заниматься Иисусовой молитвой. Она по-другому называется «умным деланием». То есть само понятие говорит о том, что мы что-то пытаемся сделать с нашим рассеянным, блуждающим умом. Сами себе часто задаём вопросы: «Почему я это сделал? Что, я вчера был безумным, слепым, глухим?» Это говорит о повреждении ума. Так вот, когда Иисусова молитва делается правильно, как положено, она трезвит ум. Когда это умное делание, а не душевное, когда это сердечное делание, но не делание в области чувств, эмоций, страстей, тогда оно приносит очень хороший плод.
Святые отцы употребляют точное слово – «трезвение». Современный человек похож на пьяного, он не трезв умом. Если занимающийся Иисусовой молитвой неправильно опирается на душевность, он становится нетрезвым. А вот если делает всё правильно, у него происходит протрезвление. Его ум начинает работать очень лаконично, точно, просто, видит чёрное и белое, различает «да» и «нет». Из безумного состояния приходит в трезвое, разумное, у него появляется дар рассуждения не от рассудка, а потому что он видит суть вещей. Ему не нужно возгревать в себе покаяние. Когда ум станет трезвым, он чётко покажет сердцу, насколько глубоко грехопадение. И сердце естественно заплачет.
Его не надо будет искусственно разгорячать ни на плач, ни на покаяние, ни на умиление. Когда трезвый ум трезво видит Бога, он естественно умилится. Не нужно будет употреблять искусственные упражнения, чтобы сердце как-то стало теплее. Всё придёт, когда ум протрезвится. А он протрезвляется, когда мы убираем эмоции, чувства, впечатления. Преждевременные духовные дары опьяняют человека, он становится сумасшедшим.
Но люди не соглашаются на этот путь, потому что он некрасивый, сухой, долгий, а им хочется быстро, эмоционально, ярко. Мы читаем книгу «Откровенные рассказы странника», и нас подводит скорое получение странником духовных даров. Там очень много хорошего, но вот эта деталь часто подводит новоначальных: они сломя голову кидаются в пространство Иисусовой молитвы и повреждаются, желая быстрых состояний, каких-то мгновенных результатов. Почему-то, когда читаем про Иосифа Исихаста, нам западают в сердце моменты его духовных состояний, и мы как-то пропускаем, что их он получил долгим, кропотливым, некрасивым трудом.
Самое печальное, что люди, которые неправильно занимаются Иисусовой молитвой, своим результатом потом хулят это святое делание. И другие, глядя на отрицательный результат, хулят не их, а само делание Иисусовой молитвы, говорят, что это неверный духовный путь. Не Иисусова молитва виновата, а неправильное использование её. Неправильная практика Иисусовой молитвы сводит людей с ума. И, наоборот, если человек идёт верно, закономерно, так, как выстрадано святыми отцами, да, не получит быстрого результата. Он будет постепенный, но очень стабильный, уверенный и благой.
Как-то на собрании Епархии я задал вопрос: «Отцы, все мы стараемся вести нравственный, целомудренный образ жизни, в семьях быть хорошими родителями, мужьями, делать добрые дела, посещаем тюрьмы, больницы, детские дома. А, скажите, что из всего перечисленного не могут делать атеисты?» И повисла пауза. Нравственный закон знают люди других религий. Его знают и пытаются соблюдать даже неверующие. А чем мы отличаемся? Что мы можем делать такого, что не могут они?
Молитва! Молитва – не как выпрашивание у Бога чего-то, а как вхождение в отношения с Ним. Вот это и есть духовная жизнь.
Доброделание, исполнение нравственного закона – это естественная часть духовной жизни, но, как говорят, «без Бога не до порога». Мы живём христоцентрично, в каждом нашем деле ищем Христа. Всё должно проходить через Бога. Иначе будем просто порядочными, добрыми людьми, которые когда-то умрут порядочными людьми.
Всё-таки вечность – это область Бога, а здесь мы ограничены форматом этого мира. Кто-то говорит: «Я могу и без Бога прожить». Конечно, можешь, и даже будешь относительно счастлив. Но твоё счастье когда-то упрётся в точку смерти и станет большим несчастьем и даже трагедией, если твоя жена или, не дай Бог, дети тебя опередят. Твоё счастье просто рассыплется.
Поэтому вхождение в жизнь Бога, в первую очередь, – через молитву. Это и есть духовная жизнь. Батюшка Серафим Саровский в беседе с Николаем Мотовиловым сказал: «Цель жизни – стяжание благодати Духа Святого Божиего». Он отмечает, что разные средства дают нам благодать Духа Святого, перечисляет их и подчёркивает: «Но больше всего даёт молитва». Это непосредственное вхождение в отношения с Богом. И поэтому христиане должны не только нравственные законы исполнять (это естественно для каждого человека), они должны искать Бога.
Церковь наполнена таинствами, Его незримым присутствием, и поэтому необходимо практиковать церковную духовную жизнь. Иначе, как бы красиво, складно ты не строил свою жизненную философию, всё будет нежизнеспособно, потому что Бог есть жизнь. Я не жизнь. Я – жизнь в той мере, в какой Он мне её дал. Но когда-то всё это закончится.
Соломон, подводя итог своей жизни, говорит в книге «Екклесиаст»: «И добродетель – суета». Потому что эта добродетель ради добродетели, а не ради Бога, не во Христе, просто красиво умирает.
Я часто ещё привожу такой пример: мы заботимся о целомудрии своего сердца, чтобы наши помыслы его не оскверняли никаким грехом, но должны понимать, что не это наша главная цель. Целомудрие ради целомудрия – пустое дело. Девица сохраняет целомудрие ради жениха, чтобы отдать ему. Мы занимаемся целомудрием своего сердца ради Божественного Жениха. Каждая наша душа должна стать невестой Христовой. И поэтому цель – не целомудрие, не добродетель, а Христос. Если ты занимаешься только доброделанием, но не занимаешься молитвой, поиском Христа, эта добродетель просто красиво с тобой умрёт. Ты умрёшь хорошим человеком.
Один священник спросил меня: как возможно служить Божественную литургию, произносить ектеньи, возгласы, тайные священнические молитвы на литургии и, не теряя смысла, соединять это с непрестанной Иисусовой молитвой? И сказал такую фразу: «Невозможно же иметь одновременно две мысли в уме». Действительно, невозможно, если мы не понимаем природу души. Она так создана Богом, что в голове живёт рассудок, а ум – в сердце. Головой мы рассуждаем, а сердцем даём окончательную оценку. Рассудок подходит к предмету изучения и анализирует его, рассматривает с разных сторон, но окончательную оценку даёт сердце.
Вы, наверное, согласитесь: бывает так, что рассудок всё разложил по полочкам, и всё вроде бы правильно, а сердце не лежит. Оно смотрит глубоко, в очень тонкие состояния, куда не может проникнуть рассудок. Рассудок вроде бы всё оценил, всё взвесил и одобрил, а сердце говорит «нет», потому что живёт более тонкой природой, которая недоступна рассудку.
В сущности, умная часть души у нас очень сильно повреждена. Мы живём рассудком, безусловно ему доверяем, на него опираемся и постоянно делаем ошибки. Почему-то он не избавляет нас от них. Казалось бы, всё правильно, всё взвесили, разложили по полочкам… И опять получили отрицательный результат, потому что суть вещей видит не рассудок, а ум. Но ума, к сожалению, у нас нет. У нас есть рассудок, способность рассуждать. А ум – это от Бога. Это голос Божий, который нам говорит о сути вещей. Рассудок ходит по вершкам, а ум смотрит в самую суть, в самую глубь.
И чтобы, совершая Божественную литургию, священник произносил ектеньи, читал тайные молитвы внимательно, не упуская ничего, чтобы он сумел соединить это с Иисусовой молитвой, у него должен быть задействован ум, который в сердце. В рассудке мы не можем иметь две мысли, только одну. Одна другой будет мешать. Оказывается, рассудком мы можем служить внешнюю литургию, а умом, который в сердце, непрестанно говорить: «Иисусе, Иисусе, Сладчайший Иисусе!»
Для тех людей, которые живут только рассудочной частью души, это совсем непонятная тема. Но если вдруг ожил ум, который в сердце, реанимировался через правильную духовную жизнь, через питание Иисусовой молитвой, Именем Божиим, ты можешь не то что служить Божественную литургию, произносить возгласы, но и параллельно другой частью души жить Иисусову молитву. Ты можешь быть даже бухгалтером: рассудок станет считать, а сердце будет повторять: «Иисусе, Иисусе, Иисусе, Иисусе!»
Я не говорю, что это легко. Святые отцы посвящали всю жизнь тому, чтобы реанимировать своё сердце не как орган чувств и эмоций, а как центр нашего ума, центр нашего «я». Только в сердце возможно понимать суть вещей. Рассудок может ходить вокруг да около, приближаясь к центру. Но окончательная оценка живёт в сердце, потому что в нём Бог.
Вспомним матушку Ксению и её уникальный подвиг юродства Христа ради. Мало кто понимает его суть. Если мы подходим к вопросу через рассудок, то и получаем через рассудок. Мы никак не можем войти в суть подвига юродивых: что же с ними происходило, чем же они жили, какими силами души, какими тонкими состояниями. Они уходили из рассудка в ум, который в сердце, и предпочитали сердце голове. В голове живут сомнения. А Бог живёт в сердце.
Каким-то чудным образом через откровение вдруг они приходят к сути вещей и видят, в какой стороне находится Бог. Рассудок постоянно живёт вперёд, вовне. И вдруг человек, понимающий, где находится Бог, разворачивается в обратную сторону и идёт внутрь себя, в сердце, туда, где ум, где возможна встреча со Христом.
Представляете, миллионы людей идут в одну сторону, и вдруг один разворачивается наперекор толпе и идёт в другую! Сталкивается со встречными, мешает им, сердит их иногда до ненависти. Они не только раздражаются на него, но и пихают, толкают, пинают, обзывают. Но он всё это терпит, потому что понимает, куда идёт: в сторону Христа, внутрь себя, где, по Евангельскому слову, есть Царствие Божие. Господь говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17: 21). Туда и направляется. А все идут в другую сторону.
Какое отношение будет к этому человеку? «Безумец, сумасшедший!» Он очень сильно всем мешает. И эту ненависть толпы невозможно было бы вынести, если у тебя не было бы в руках жемчужины. Ты знаешь, что ты несешь её, она греет тебя, у тебя есть маленькое сокровище, и всё твоё внимание направлено именно туда. Не к оскорблениям, не к недопониманию, не к агрессии – ты весь направлен туда. Тебя толкают, ты падаешь, сбиваешь колени, встаёшь и всё равно идёшь, у тебя есть своё сокровище. Христос и есть Царствие Божие. Христос и есть Сокровище.
Сколько на земле умных людей в формате рассудка? О-ой, сколько умных! А каков результат? Никакого. Всё только в минус и в минус. Слова умные, глаза серьёзные. Все глупости на земле делаются с умным выражением лица. Но всё это глупости. И вдруг эти безумцы идут наперекор толпе и обличают глупость мира сего. Обличают не из пренебрежения, не из ненависти, они просто обличают сутью своей жизни. Не хотят никому ничего доказать, не перекрикивают никого, просто идут в ту сторону, которая правильная, и этим обличают мир сей. А он не терпит обличения. Этот мир сердится и очень сильно мстит. И кажется иногда, что они проигрывают. Но нужно смотреть на конечную точку, там они выиграют, там они победят. Потому что там Христос победит. А мудрость века сего будет посрамлена. Они не безумствуют, они бегут от рассудка в сторону сердца.
