Великая французская революция
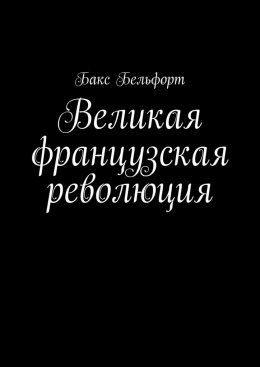
Составитель Сергей Владимирович Зайцев
© Бакс Бельфорт, 2025
© Сергей Владимирович Зайцев, составитель, 2025
ISBN 978-5-0067-6746-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
- Бакс, Бельфорт. Великая французская революция
- Перевод с английского. [1]
- Государственное издательство, Петербург 1920, Петроград, 1918. [2]
I. Литературный пролог
Кардинальной идеей французской революции была политическая эмансипация среднего класса. Средневековая феодальная иерархия во Франция, как и в других странах, подразделялась на три главные социальные группы или сословия; 1) высшее земельное духовенство, 2) дворянство и 3) мелкие землевладельцы, свободные арендаторы и граждане независимых городских общин. Простой серв или виллан (отбывавший барщину), или простой рабочий похож был на раба в древности и не входил в эту классификацию. Владение, или без барщинная аренда, землей составляло условие свободы. Это третье сословие было зародышем нашего среднего класса. Великая задача французской революции заключалась в том, чтобы достигнуть дли третьего сословия независимости и преобладания. Цель эта выражена в следующих словах представителя третьего сословия, аббата Сийеса: «Что такое третье сословие? Ничто. Чем оно желает быть? Всем». Но хотя политическое преобладание среднего класса являлось центральной идеей, единственной, которой суждено было осуществиться (чем на практике было опровергнуто мнение некоторых политиков, утверждающих, что всякие насильственные революции не удаются), наряду с ней возникло и много побочных течений, выходивших далеко за её пределы. Однако, прилив революции не знаменовал собой окончательной и прочной победы прогресса. Волны её отхлынули назад от высшего пункта, достигнутого брожением, оставив, как прочный след своего присутствия, освобождение буржуазии.
Первым из предшественников этого могучего переворота был женевский мыслитель Жан-Жак Руссо (1712—1778). Эта замечательная личность может быть названа мессией революционного кризиса. Произведения его цитировались и читались словно новое евангелие почти всеми выдающимися представителями эпохи. Доктрины Руссо заключались в его раннем опыте о цивилизации, в его «Эмиле, или трактате о воспитании» и «Общественном договоре», его главном произведении.
В первом своем произведении Руссо настаивал на преимуществах дикого состояния над цивилизацией, а все его последующее учение имело центральным пунктом стремление устранить лживость и искусственность современного ему общества и вызвать в его сознании неотложную необходимость вернуться, поскольку это возможно, к естественному состоянию во всех наших отношениях. Это положение он особенно применяет к воспитанию в «Эмиле», где дает очерк воспитания воображаемого ребенка.
«Общественный договор», крупнейшее его произведение, заключает разбор основных принципов социального и политического строя. Уже здесь можно найти магические формулы, служившие лозунгами во время революции, формулы в роде: «свобода, равенство, братство», «священное право восстания» название «гражданин», употреблявшееся тогда же в качестве обращения, и многое другое. Заглавие книги вело начало от теории Локка (или, вернее, Гоббса), предполагавшей, что когда-то между правящими лицами и управляемыми был заключен договор, и выставленной в противовес теории «божественных прав» королей. Мысль эту Руссо кладет в основание своего сочинения, но отрицает безусловный характер договора, на котором настаивали первые авторы теории. Вначале не существовало никакой разницы между управляющими и управляемыми. Договор, если и был установлен, то сводился просто к политическому соглашению на строго определенных условиях. Правители были только делегатами или уполномоченными народа. Форма правления имела для Руссо значение более или менее второстепенное. Хотя демократия и обладала наибольшими преимуществами, тем не менее уполномоченными народа могла быть и особая группа лиц (аристократия) и даже одно лицо (король). Но при всякой форме правления воля народа должна была признаваться выше всего.
Классицизм французской революции также в достаточной степени нашел себе представителя в лице Руссо. Римское государственное устройство неизменно служит ему источником для иллюстрации сто положений и достойным подражания образцом. Что касается терпимости, то Руссо склонен был считать необходимым предоставить государственной власти право подавлять мнения, противоречащие доброй гражданственности. Подобно римлянам, он признавал возможным относиться терпимо ко всем религиям, не угрожавшим государству опасностью. Ни одна книга, вероятно, в течении нескольких лет не оказала такого огромного влияния, как «Общественный договор». Она бы настольной книгой для французской революции. Всякий указ, всякий закон, всякий параграф конституции носят на себе отпечаток её влияния. Но хотя теория разработана у Руссо и с большей логичностью и последовательностью, чем у её первых основателей, его собственные взгляды отличаются крайней узостью и отсутствием исторической точки зрения, что неизбежно во всякой системе, имеющей дело лишь с политической стороной исторических явлений. Конечно, можно восхищаться энергичностью его осуждения окружающего его общества, «оранизованного лицемерия», называемого религией и нравственностью; но в ту эпоху еще невозможно было отыскать их исторических корней, а потому для нас критические рассуждения пылкого женевца теряют значительную часть своего эффекта.
Влияние второго важного предшественника французской революции, Франсу-Марии Аруэ де-Вольтера (1694—1778) было гораздо более косвенным, чем влияние Руссо, и отличалось почти чисто отрицательным характером. Своей едкой насмешкой он уничтожил в умах современников последние остатки уважения к формам старой, отживавшей феодально-католической организации. Хотя в личном характере Вольтера была достаточная доза ловкой пронырливости (selg-seching), все-таки нельзя отрицать, что его негодование против жестокости и его отвращение к католическому лицемерию проникнуты были искренностью и истинным благородством и оказали большое влияние на последующие события. В произведениях Вольтера, этого француза из французов, веет дух сознательного космополитизма и презрения к национальности, впервые распространившийся по время французской революции, а выраженный в знаменитой декларации 1793 года.
Но и в этих взглядах, как и в других, Вольтер не был одинок. Он частью сам вызвал, частью же отражал в себе преобладавшее направление в салонном французском образовании XVIII века. Начало его можно отнести в главных чертах к возрождению наук при дворе Медичи. Здесь мимоходом уместно будет напомнить ту истину, что индивидуальный гений представляет собой лишь особую способность концентрировать и выражать так называемый «дух времени», подготовленный и созданный предыдущими веками. Таким образом, Вольтер и Руссо были обязаны результатами, ими достигнутыми, своей способности воспроизводить в словах смутные и неоформленные мысли миллионов. Относительно Вольтера надо еще упомянуть о необычайно широкой интеллектуальной симпатии, привлекавшей его ко множеству самых разнообразных предметов.
Кроме Вольтера и Руссо укажем ещё на блестящую группу литературных работников и мыслителей, во главе с Дидро и д’Аламбером, создавших великую французскую Энциклопедию, этот памятник трудолюбия и настойчивости. Огромные затруднения встретили издание этого важного труда, несмотря на старание избегнуть в нем выражений открытого прозрения или враждебности против господствовавших предрассудков. Сыграли свою роль также и материалисты-атеисты, среди которых центральной фигурой был барон Гольбах, анонимный автор знаменитой «Системы природы», которая, при всей её незрелости на наш современный взгляд, сделала в свое время доброе дело, чего не достигло бы произведение более глубокого философского достоинства. Достойно внимания, что большинство других выдающихся имен среди писателей, предшествовавших революции, включая сюда Руссо и Вольтера, принадлежит горячим деистам. В числе славных предшественников революции надо упомянуть и Монтескье (1689—1755), «Дух Законов» которого стал как бы руководством юридической философии для революции.
Все эти люди внесли свою долю участия в закладку умственного фундамента для последовавшего вскоре великого переворота. Но ни одному из них, однако же, не удалось видеть практических результатов своих трудов. Руссо, оказавший самое непосредственное влияние на революцию, умер за 11 лет до взятия Бастилии; Вольтер в тот же году; Дидро дожил до 1784 года; д’Аламбер умер за год перед тем; одному Мирабо пришлось видеть начало великого кризиса, в подготовке которого он сам участвовал. Но и он умер в 1791 году, за полтора года до фактического падения монархии. Немногие из перечисленных лиц выходили за пределы круга идей и воззрений свободомыслящей аристократии и класса литераторов. О движении внизу, в слоях народа, они знали очень мало, быть может, даже не догадывались о его существовании. В самом деле, хотя уже с начала столетия, особенно в царствование Людовика XV, у всех было предчувствие близости грозящего переворота и, хотя дважды уже, в 1734 и 1771 годах, старая система, казалось, готова была рухнуть, она все-таки продолжала существовать, и, по-видимому, ей суждено было пережить еще не мало подобных потрясений. Для многих, без сомнения, трон казался столь же прочным и религия столь же популярной, как и прежде. Несмотря на это, через несколько лет оба учреждения ожидала сильная катастрофа.
II. Экономическая прелюдия в провинции
Десять лет неурожаев, отзывавшихся на народе особенно тяжело вследствие недостатков промышленной, фискальной и политической системы, закончились губительным летом 1788 года. Сильный град, сопровождавшийся жестокой бурею, произвел повсюду опустошения. Урожай оказался еще хуже, чем когда-либо раньше. Не только зерновой хлеб, но и вино, каштаны, сливы, одним словом, все земледельческие продукты потребления и вывоза собраны были по всей Франции лишь в жалком количестве. Но даже собранное было настолько попорчено, что оказалось почти негодным для употребления. Из всех провинций приходили однообразные известия об опустошениях, голоде и эпидемиях. Даже сравнительно зажиточные крестьяне принуждены были питаться ячменным хлебом самого плохого качества и водой, между тем как менее достаточные довольствовались хлебом из сухого сена и моченой мякины, что «причиняло смерть многим детям». Англичанин Артур Юнг, путешествовавший в том году по Франции, всюду, куда не появлялся, слышал одну и ту же бесконечную жалобу на нужду и на дороговизну хлеба. «Хлеб, который можно достать, отзывает плесенью и часто вызывает дизентерию и другие болезни. Более крупные города находятся в таком положении, словно они выдержали всю тяжесть долговременной осады. В некоторых местах весь запас зерна и ячменя сгнил и полон белыми червяками».
В довершение всех ужасов за жарким и сухим летом наступила необычайно суровая зима. Начало нового 1788 года ознаменовалось замерзанием Сены от Парижа до Гавра. Такой неблагоприятной погоды по было с 1709 года. С наступлением весны нужда возросла. Промышленный кризис разразился в городах, тысячи рабочих были выброшены на мостовую вследствие введения новых привезенных из Англии машин, которые во многих отраслях промышленности стали вытеснять ручной труд. Бунты и местные возмущения, в единичных случаях уже давно наблюдавшиеся, с каждым дном учащались, и, начиная с марта, все крестьянство Франция можно было считать в открытом восстании, так как за четыре месяца, предшествовавшие взятию Бастилии, в провинциях насчитывалось до трехсот отдельных восстаний.
В 1787 году министр Ломени де-Бриенн созвал 19 новых провинциальных собраний. За окружными собраниями, установленными за несколько лет перед тем, следовали только собрания приходские. Во всех этих собраниях, начиная с приходского и кончая провинциальным, «народ, фермеры и прочие сидели бок o бок с местными властями», – факт, значительно способствовавший уничтожению последних остатков феодальной приниженности и благоговения перед родовитостью. В ноябре 1787 года король обнародовал своё намерение созвать генеральные штаты. 5 июля 1788 года всем местным корпорациям предложено было составить cahiers, «наказы» для представления их королю и генеральным штатам, где представители «третьего чина» присутствовали в двойном числе. Эти cahiers дают массу интересного материала, иллюстрирующего положение Франции накануне революции, и до сих пор еще не вполне разработаны. «Король, гласило воззвание, желает, чтобы с самых отдаленных окраин его королевства, из самых затерянных поселений всякий с доверием приносил ему свои пожелания и жалобы», а эти и подобные им выражения были истолкованы крестьянами в том смысле, что король, действительно, желает освободить их от голодной смерти и нужды. Это придало им смелости настолько, что они решили взять дело в свои руки. В январе наказы были готовы, в нем народ в первые формулировал свои бедствия. Споры на собраниях привели их в сильное возбуждение. Генеральные штаты должны были заняться рассмотрением совершаемых над ними несправедливостей, это правда, но ведь штаты соберутся только в мае, а они сейчас мрут с голоду. Ясно было только одно, что им нужен хлеб. И вот, сообразно с этим, не доверяя местным властям и не взирая на охранителей порядка, по всей Франции стали составляться шайки числом от 300 до 400 и более человек, которые захватывали и грабили житницы, церковные дома, всякого рода склады, именем народа врывались в общественные здания, уничтожая все юридические документы (на которые смотрели, как на орудия своего порабощения), попадавшиеся под руку, провозглашали отмену всех местных повинностей и налогов, предавали смерти всех, осмеливавшихся возражать им во имя закона и порядка, и, ободренные успехом, принялись жечь замки и истреблять и присваивать без разбору дома и прочую собственность достаточных лиц. Число этих шаек увеличивалось не только лишавшимися заработка рабочими Парижа, Руана и т.д., но и профессиональными ворами. Местные власти были безнадежно не способны к борьбе с бунтовщиками; центральная власть в Париже казалась парализованной. Обыкновенно, читатели истории революции, следя за ходом действий в столице, склонны бывают забывать, что все события в ней служат лишь отраженной в увеличенном виде картиной того, что происходило в сотнях мелких городков и деревень по провинциям. Еще до знаменитого 14 июля в большинстве французских провинций установленной власти пришел конец. Никто не дерзал отказывать в повиновении требованиям повстанцев. Невозможно, да и скучно было бы перечислять все обстоятельства этих местных восстаний или даже главные из них. Всюду происходило почти одно и то же, и следующий рассказ о восстании в Страсбурге может служить достаточной иллюстрацией сказанного. Пятьсот или шестьсот крестьян, ремесленников, безработных, бродяг и прочих, воспользовались праздничным днем, чтобы напасть на здание городской думы, причем собравшиеся там власти поспешно скрылись через задний ход. Стекла разлетелись от тучи пущенных камней, двери были выбиты ломами, и толпа, словно бушующий поток, ворвалась в здание. «Тотчас же, читаем в сообщении, посыпались ставни, осколки стекол, стулья, столы, диваны, книги, бумаги и т.д.»
«Общественные архивы были пущены по ветру и соседние улицы покрылись клочками архивных документов. Акты, хартии и т. п. погибли в пламени. В подвалах были разбиты бочки с дорогими винами; мародеры, напившись досыта, оставили вино течь, вследствие чего образовалась громадная лужа в пять футов глубиной, в которой утонуло пять человек. Некоторые же из них, нагруженные добычею, убегали на глазах у солдат, которые скорее одобряли, нежели противодействовали грабителям. В течение целых трех дней город находился во власти черни. В домах, принадлежащих местным знатным и богатым лицам, все было перевернуто вверх дном от подвала до чердака. Возмущение быстро распространилось по всем окрестностям» (Тэн, т. 1, стр. 81—82). За несколько недель до открытия генеральных штатов в Париже в рабочем квартале предместья св. Антуана произошло возмущение, окончившееся кровопролитием и стоившее многих человеческих жизней. По сообщениям, еще за несколько месяцев перед тем Париж стал наполняться отчаянными, готовыми на все голодными людьми, стекавшимися туда под давлением нужды со всех концов Франции.
В некоторых округах вожаки объявляли себя действующими по приказанию короля. Результат всюду был один и тот же – насильственное установление максимальной цены на хлеб и уничтожение налогов. Конечно, недостатка в жестокостях по было. Там чуть ли не сожгли живым юриста, требуя у него выдачи предполагаемой хартии; в другом месте замучили до смерти синьора; в третьем разорвали на клочки какого-то духовного. Стране грозили голод и разорение, особенно резкому выражению которых содействовали финансовые неурядицы двора и средство от которых для того, кто умел читать в «Общественном договоре» Руссо, сделалось непосредственной причиной французской революции. Такое же неизбежное банкротство королевства, вызванное расточительностью двора и повлекшее за собой созвание генеральных штатов, косвенным образом привело также к основанию якобинского клуба, этой главной причины революции. Спор между, двором и местными легальными советами, так называемыми, «парламентами», повел к ограничению их прав королем, а это, в свою очередь, вызвало протестующие депутации со стороны оскорбленных городов. Одна из этих депутаций из Ренна в Бретани образовала для выработки своих жалоб и протестов клуб, известный под именем Бретанского, члены которого собирались в старом монастыре св. Иакова в улице Сан-Оноре. Первоначальный состав этого клуба скоро значительно расширился, а название «Бретанский» было изменено в «Якобинский», по месту его собраний. Таково было происхождение обширной клубной организации, пользовавшейся в последующие годы колоссальным влиянием не только в Париже, но и во всей Франции.
III. Открытие действий в Париже
5 мая 1789 года королевская резиденция Версаль была пышно разукрашена флагами; играла музыка, сверкали эполеты, глаза резало от блеска ярких костюмов и красоты женщин. То был день открытия генеральных штатов, созванных впервые после 1614 года, как последнее средство против грозившего государству разложения и банкротства, и в то же время это был день начала французской революции.
В полдень можно было видеть процессию феодалов, направлявшуюся в церковь св. Людовика. После короля и его семейства первое место заняло «высшее духовенство», одетое в пурпурные мантии с батистовыми рукавами; «низшее» носило простые рясы и четырехугольные шапочки. Затем шли дворяне, в черных костюмах, с залитой серебром грудью, с кружевными галстуками и в шляпах с перьями; замыкая шествие, следовали скромные представители третьего сословия – среднего класса – купцы, фермеры, мелкие землевладельцы, тоже в черном, но без всяких украшений, кроме короткого плаща и простой шляпы. С этою памятной процессией судорожно испустил дух средневековый строй, в течение двух столетий медленно приближавшийся к смерти. Занятия генеральных штатов пошли не так весело, как церемония их открытия. Между сословиями тотчас же произошло столкновение относительно порядка заседании, в результате чего третье сословие образовало из себя Национальное Собрание Франции, отказавшись допустить на свои заседания другие сословия иначе, как при условии общего равенства. Король выразил свое неудовольствие, закрыв перед ними двери генеральных штатов. Собрание ответило знаменитой клятвой 20 июня в манеже для игры в мяч (Salle do jeu de pomme), которой обязалось не расходиться, пока не даст Франции конституции. Через два дня после этой клятвы Национальное Собрание восторжествовало над двором, вернувшись в зал своих заседаний и бросив открыто вызов королю; оно не признало независимости духовенства и знати, формально подтвердило свои постановления предыдущего дня, в которым король отнесся так презрительно, и продолжало свои заседания. Занавес поднялся, и начался первый акт революционной драмы.
Между тем, брожение, вызванное событиями в Версале, охватило всю столицу и стало быстро распространяться по провинциям. Несколько недель спустя, в начале июля, получил отставку министр финансов Неккер, любимец среднего класса. Неккер, надо заметить, был самым безобидным из тех господ, которые под именем министров финансов в течение последних лет грабили государственные доходы. По сравнению с ними он казался почти честным и добродетельным, и население, снисхождение и восхищение которого никогда не имеют границ по отношению к официальным лицам, оказавшимся не особенно плохими, сделало его предметом своего обожания. Процессия, устроенная в виде протеста против отставки министра; была рассеяна вооруженной силой, причем два человека были убиты. Весь город был скоро в открытом восстании. Пале-Рояль, громадное здание для общественных собраний и политических дебатов, было битком набито более чем десятью тысячами человек. На столе, служившем вместо трибуны, стоял молодой человек с тонкими чертами лица и изящной осанкой и обращался к толпе с речью. То был Камилл Демулен, популярный журналист. «Граждане, сказал он, нельзя терять ни минуты, – удаление Неккера – набат для Варфоломеевской ночи патриотов. Сегодня вечером швейцарские и немецкие батальоны придут с Марсова поля, чтобы перебить нас! У нас осталось одно только средство: к оружию!» С этими словами он прикрепил к себе на шляпу золеную и ветку, так как зеленый цвет есть символ надежды.
Все последовали его примеру, и скоро на каштановых деревьях Парижа не осталось ни одного листочка. В тоже время трехцветный флаг впервые был принят в качестве знамени народной партии.
Толпа двинулась по улицам, с триумфом неся бюсты Неккера и Филиппа Эгалите, двоюродного брата короля, бывшего с ним не в ладах; численность её увеличивалась с каждым шагом, пока она не была у королевского моста остановлена немецким отрядом королевской гвардии. Последняя была оттеснена градом камней, и толпа дошла до площади Людовика XV. Здесь произошла громадная свалка, так как против народа выдвинут был эскадрон драгун. Регулярные королевские войска после сильного сопротивления разбили, наконец, мятежных парижан, но победа их имела для защищаемого ими дела более роковые последствия, чем поражение. Рассеянная толпа по всему Парижу разнесла негодующий крик: «К оружию!» Полк французских гвардейцев, расквартированных в Париже, возмутился и обратил в бегство наемные иностранные войска, досланные для его усмирения. Целую ночь раздавался набат с городской думы (Hôtel de Ville), где заседал комитет выдающихся граждан, задавшихся целью собрать оружие. Утром 12 июля Париж был в полном восстании; со всех колоколен гудел набат; треск барабанов раздавался по всем главным улицам; на всяком открытом месте собирались возбужденные группы людей; целый поток лиц «обездоленного» класса хлынул во все ворота Парижа; лавки оружейников были разбиты; отыскивание повсюду оружия было лозунгом дня. Комитет, собравшийся в думе, на все настойчивые требования оружии мог ответить только, что у него его нет. Гражданские власти, вытребованные мятежниками, затягивали время и уклончиво обещали свое содействие. Дома были обшарены сверху до низу; останавливали на улицах экипажи. В суматохе, понятно, не было недостатка в негодяях, воспользовавшихся случаем половить рыбу в мутной воде, которые открыто занимались грабежом. Но всем подобным бесчинствам решительно полагали конец с криком: «Смерть ворам!» Экипажи и другие, принадлежавшие «аристократам» вещи в случае захвата их народом или тут же уничтожались, или отвозились на центральную станцию на Гревской площади. После обеда «купеческий прево» (должностное лицо средневековой иерархии, соответствующее современному «мэру» – городскому голове) объявил о скором прибытии мушкетов и амуниции, с таким нетерпением всеми ожидаемых. Под именем парижской гвардии была сформировала из граждан милиция (ополчение) числом до 48 тысяч человек; повсюду раздавали кокарды красного, голубого и зеленого цвета; но часы шли за часами, а мушкетов все не было. Паника охватила город при мысли, что в следующую ночь на Париж двинутся наемные войска. Наконец, прибыли ожидаемые с амуницией ящики; они жадно были раскрыты, и в них оказалось… старое полотно и обломки деревянной мебели.
Комитету и «купеческому прево» еле удалось ускользнуть. Но прево, уверяя, что сам он был обманут, попытался отвлечь внимание народа, послав его на Шартрё. Наконец, комитет порешил вооружить граждан пиками, вместо огнестрельного оружия, и издал приказ выковать 50 тысяч пик. С целью защиты от воров и грабителей город был освещен в течение всей ночи.
IV. Бастилия
На следующий день, 14 июля, с утра из уст в уста, переходил призыв – «К инвалидам!», т.е. в военный госпиталь. Там, наконец, можно было достать оружие. И народ, действительно, был вознагражден за свое смелое сопротивление собравшимся на Марсовом поле войскам, пробившись к этому большому военному складу.
С триумфом взято было оттуда 28 тысяч мушкетов, кроме пушек, сабель и пик. Между тем, разнесся слух, что королевские полки, расположенные в Сен-Дени, идут на Париж и что, кроме того, пушки из Бастилии направлены на бульвар Сен-Антуана.
Всё внимание Парижа тотчас же обратилось на первый пункт, действительно, господствовавший над самыми населенными кварталами города. Всё утро неумолчно раздавался один только крик – «На Бастилию!» Бастилия была великой эмблемой королевской власти и авторитета. В средние века она служила королям оплотом против буйных феодальных баронов. Но хотя французское дворянство давно уже превратилось из «буйных баронов» в изящных и льстивых придворных, Бастилия, тем не менее, оставалась великим воплощением централизованной теперь власти французского короля. Таким образом, взятием Бастилии был бы нанесен самый чувствительный удар «престижу» короля. Добавьте к этому, что, давно уже перестав служить своему первоначальному назначению, Бастилия была особенно ненавистна народу, как место заключения для лиц, захваченных по тайному приказанию короля (по так называеым, lettres dе cachets). И вот, перед Бастилией со всех кварталов начала собираться сооруженная толпа, пока перед крепостью не образовался как бы целый лес всякого рода оружия. Начались переговоры с комендантом Делонэ, но народ настойчиво кричал: «Нам нужна Бастилия!» От слов перешли, к делу, ударами топоров, как говорят, двух человек, мост был разрушен. Толпа хлынула и атаковала второй подъемный мост, храбро защищаемый небольшим гарнизоном.
Довольно много нападающих пали убитыми и ранеными. Осада продолжалась уже более четырех часов, когда прибыла с пушкой французская гвардия, ставшая уже, как мы видели, на сторону революции. Гарнизон, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, заявил коменданту о необходимости сдаться. Но старый Делонэ предпочитал взорвать крепость и самому погибнуть под её развалинами. Однако, товарищи помешали ему выполнить этот план. После этого солдаты сдались на условии, что им пощадят жизнь. Вожаки народа, стоявшие в первых рядах и давшие в том слово, употребили всевозможные усилия, чтобы защитить гарнизон от неистовства толпы. Но среди тысяч, ворвавшихся в крепость, мало кто знал толком, что, собственно, произошло. В результате, Делонэ и несколько швейцарских солдат из гарнизона погибли жертвами народного гнева.
Между тем, в городской ратуше царили трепет и смятение. Больше всего трепетал «купеческий прево» Флессель, опасаясь мести за свое предательство. Страх этот немало не уменьшился, когда крики «свобода!», «победа!», раздававшиеся из тысячи глоток, достигали до ушей, заседавших в ратуше, и становились громче с минуты на минуту. То были завоеватели Бастилия, с триумфом несшие своих героев в городское здание.
И вот, в зале ратуши вступила восторженная, беспорядочная толпа, растрепанная, испачканная кровью, вооруженная пиками, мушкетами, топорами и всем, что только подвернулось под руку. Над головами толпы кто-то держал ключи Бастилии, другой «правила» тюрьмы, третий воротник (collar) коменданта.
Всеобщая амнистия захваченных защитников Бастилии была принята после сильного сопротивления. Но «купеческому прево» отделаться было ещё труднее. На трупе Делонэ найдено было письмо, в котором Флессель заявил, что он пока забавляет парижан кокардами и обещаниями, и что если крепость продержится до ночи, то помощь подоспеет. В Пале-Рояле решено было учинить над ним импровизированный суд, но по дороге туда кто-то застрелил его из пистолета.
Когда прошло возбуждение, были удвоены предосторожности против возможных попыток со стороны королевского двора овладеть столицей. Повсюду строили баррикады, выворачивались камни из мостовой, коваля пики. Все население целую ночь занято было работой на улицах. Насколько основательны были опасения парижан, становилось очевидным для всякого, побывавшего в то время в Версале, где Бретель, первый министр, только что обещал королю в три дня восстановить авторитет королевской власти; в эту ночь назначено было нападение на мятежников, и королевским войскам раздавались подарки и происходило угощение.
Собрание, заседавшее непрерывно, собиралось послать лишнюю депутацию к королю (две уже оно посылало раньше), как он явился лично. Получив ночью сообщение обо всем происшедшем от своего «grand maître de garderobe», он воскликнул: «Да это бунт!» – «Нет, ваше величество, ответил тот, это – революция». Когда король в Собрании стал уверять в своих неизменных чувствах к подданным, заявивши, что он отдал приказ об удалении чужеземных войск из Парижа и Версаля и вверяет себя охране одних только народных представителей и т.д., Национальное Собрание в восторге поднялось с своих мест и в полном своем составе проводило короля до дворца.
Новость распространилась быстро. Чувства кругом сразу же изменились: страх перешел в воодушевление, ненависть – в благодарность. Общий восторг еще увеличился благодаря возвращению Неккера на пост министра, вступлению Людовика XVI в Париж и принятию им трехцветной кокарды. Так закончился подготовительный период революции. Нечего и говорить, что впечатление, произведенное на всю Францию победой народа, было огромно, и с тех пор каждый город стал революционным центром с определенной революционной организацией.
На два пункта следует указать в этой старой, давно всем известной истории падения Бастилии. Первый – это громадное значение народной «силы», примененной в удачно выбранный момент. Прежде могло бы показаться нелепым утверждение, что грубая, «недисциплинированная чернь» могла взять крепость и парализовать усилия реакции, обладающей регулярной армией. На самом же деле оказалось именно так.
Далее следует указать на ненадежность людей, принадлежащих к производящему революцию классу и даже называющих себя его представителями, как скоро их личный интерес и положение оказываются связанными с существующим порядком. Флессель, принадлежавший к третьему сословию, главный его представитель в Париже, как оказалось, больше всех боялся ниспровержения феодальной иерархии. А почему? Потому что он составлял часть её. «Третье сословие» включено было в средневековую систему. Он был его представителем, как одного из феодальных сословии. Правда, оно находилось в подчиненном положении, но теперь, когда его значение стало возрастать, руководители его могли выиграть значительно больше, держась за хвост аристократии и помогая ей против революции, к которой стремился весь средний класс, нежели содействуя осуществлению последней, ибо тогда они потеряли бы свое личное привилегированное положение. История повторяется. Современные трейд-юнионы завоевали себе признанье и покровительство со стороны среднего класса. Но вожди их не обнаруживают особенного стремления к переменам, которые, освобождая и доставляя торжество, представляемому ими классу, в то же время отодвинули бы в область прошлого как трейд-юнионы, так и кабинет министров и лорд-мэров, заигрывающих с парламентскими представителями последних. Нет, подобные перспективы вовсе не улыбаются вождям трейд-юнионов.
V. Продавцы конституции
Конституция была в полном ходу. Революция была официально признана.
Отступать было уже поздно. Фулон и Бертье, «два перворазрядных администратора» старого режима, были публично повешены народом на фонарном столбе – à la lanterne. Первый ряд революционеров уже занял своя посты. Мирабо, Лафайет, Байи были центральными фигурами учредительного собрания; Дюпор, Барнав, Ламет – его крайними элементами. Граф Мирабо (1749—1796), один из дореволюционных писателей, являлся вождем умеренной партии в собрании. Громадное ораторское дарование делало его полезным союзником и опасным противником. Двор не замедлил понять это, и Мирабо был скоро подкуплен, чтобы не пропускать в собрании ни одного полезного для народа постановления; тем не менее, на словах он продолжал горячо стоять за дело свободы и народа. Потерпев в этом неудачу, популярный оратор не задумался прибегнуть к заговору и интригам.
Маркиз Лафайет (1757—1834), приобретший известность в американской войне за независимость, был аристократ, усвоивший себе еще до революции, передовые взгляды и стремления, популярные тогда среди его класса, был военным представителем умеренной партии в собрании, в качестве командира национальной гвардии, и верным пажом Мирабо. Байи (1736—1793), избранный мэром Парижа через день после взятия Бастилии, тоже старался внести больше умеренности в действия революции. Что касается крайних, то в действительности они стояли лишь за самую умеренную форму конституционной монархии. Положение партий ясно видно из того факта, что Барнав стоял за право короля временно приостанавливать постановления собрания. Мирабо горячо настаивал на безусловном veto. Надо заметить, что право налагать запрещение на вредные меры было бы не одной только простой формальностью. Таким образом, даже самые передовые парламентарии того времени не шли дальше современной прусской конституции. Тем не менее, обстоятельства уже рано заставили это робкое и сравнительно реакционное собрание прибегнуть к энергичным политическим мерам и, прежде всего, – в знаменитую ночь 4 августа, к отмене всех синьоральных прав и привилегий. Впоследствии, когда собрание перешло в Париж, крики с галерей и трибун, занятых передовыми революционерами, оказывали несомненное влияние на постановления собрания. Члены его отлично знали, что жизнь их в руках парижского населения, а жизнь их жен, детей, не говоря уже о собственности, в руках деревенского населения.
Первым важным постановлением собрания после взятия Бастилии была декларация прав человека, в подражание американской, провозглашенной по окончании войны за независимость. Декларация прав человека содержит ряд параграфов, излагающих принципы политического равенства. Большая часть их неопровержимы и даже элементарны; характерен §17, категорически утверждающий неприкосновенность частной собственности. Возникший вслед за тем вопрос об организации палаты представителей и её отношениях к королю не представляет для нас особенного интереса. Достаточно заметить, что, пока собрание забавлялось спорами относительно «временного veto» и «абсолютного veto», двор, т.е. королева и её приближенные в Версале, задумывали переселение короля в Мец, где расквартированы были наемные немецкие войска и откуда легко было вступить в сношения с эмигрировавшими из Франции аристократами и реакционными иностранными державами. План заключался в том, чтобы объявить Париж и Национальное Собрание мятежными и двинуться на них с войсками для восстановления монархии. Эти версальские махинации интересны тем, что дали повод к первой демонстрация парижского пролетариата во время революции. Ближайшим толчком к этой демонстрации послужил совет Марата, популярного журналиста, высказанный им за несколько дней (в газете «Друг народа») по поводу недостатка и дороговизны хлеба.
Вспышка разразилась таким образом. Женщина прошла по улицам, ударяя в барабан, с криком: «хлеба, хлеба!» Скоро ее окружила большая толпа других женщин, двинувшаяся к думе с требованием хлеба и оружия. В то же время поднялся крик: «В Версаль», подхваченный всем парижским населением с характерной для него быстротой и стремительностью. К толпе присоединилась национальная гвардия и французская гвардия с таким единодушием, что Лафайет после нескольких часов тщетных переговоров принужден был стать во главе её, так как она было двинулась в путь без него.
Неожиданное появление толпы, с женщинами впереди и внушительной вооруженной силой в арьергарде естественно повергло королеву и двор в удивление и смятение. Лейб-гвардия тотчас же окружила дворец.
Женщины, впрочем, обнаружили миролюбивые намерения и через свою представительницу изложили перед королем и Собранием свои жалобы на голод и дороговизну хлеба. Между тем, перед дворцом, на дворе, переполненном толпой, произошла ссора, причем королевский офицер ударил национального гвардейца. То было сигналом немедленного столкновения между двумя вооруженными отрядами. Народ и национальные гвардейцы рассвирепели, и стычка кончилась бы более значительным кровопролитием, если бы не наступила ночь и, если бы королевским солдатам не было отдано благоразумного приказания прекратить стрельбу и отступить.
Суматоха мало-помалу улеглась, толпы постепенно рассеялись с приближением ночи. Королевская семья разошлась спать в два часа. Лафайет, всю ночь остававшийся на ногах, в 5 часов утра решил немного отдохнуть. Но напрасно. Часов около шести некоторые из вчерашней толпы, не покидавшие Версаля, оскорбили одного лейб-гвардейца, который выстрелил и ранил одного из них. Неусыпный «герой двух миров» был скоро на месте происшествия; он нашел значительные остатки вчерашней толпы, бешено рвавшиеся во дворец. Нападающие скоро были рассеяны, но тотчас же собрались снова, требуя короля. Король появился на балконе, обещая, в ответ на требование народа, вернуться в Париж вместе с семейством.
Королева, главная виновница всего происшествия, вскоре тоже появилась на балконе в сопровождении утонченно-вежливого Лафайета, с глубоким почтением поцеловавшего руку женщины, задумывавшей избиение того самого народа, пред которым этот лицемерный шарлатан рассыпался в выражениях преданности. Но унижение парижан еще не кончилось. Лафайет ушел и скоро вернулся с одним из зловредных лейб-гвардейцев; приколов к груди его трехцветную кокарду, он обнял его. При, всех этих комедиях собравшаяся толпа разражалась одобрительными криками. Затем королевское семейство отбыло в Париж, и Тюльери стало с тех пор его постоянной резиденцией.
VI. Новая конституция
После только что описанных событий, относящихся к 5 и 6 октября 1789 года, течение революции на некоторое время отличалось мирным, парламентарным характером. Национальное Собрание, заседавшее до того времени в Версале, последовало за двором в Париж. Переселение это как бы послужило сигналом для энергичной переборки феодальной системы со стороны этого столь умеренного до той поры учреждения. Главными верхами и бастионами, подвергшимися нападению, были собственность и независимая организация церкви. Впрочем, предварительно Национальное Собрание восстановило карту Франции, уничтожив старое деление на провинции и заменив его существующим до сего времени делением на департаменты. В средние века провинции фактически являлись как бы отдельными независимыми государствами. Разделением на департаменты все королевство подчинялось одной центральной администрации и влекло за собой полное преобразование судебной системы. Было образованно 83 департамента, разделенных на округа, делавшиеся на кантоны. Департамент имел свой административный совет и исполнительное правление, кантон же был лишь избирательной единицей. Коммуна или город, управлялись генеральным советом и муниципалитетом, подчиненным департаментскому совету. Выборы все были не прямые, и всё здесь было как бы нарочно устроено с таким расчетом, чтобы устранить рабочий класс и крестьянство от влияния на законодательство.
Объявление церковных земель и вообще церковных имуществ национальной собственностью было ускорено в виду жалкого состояния казначейства. Неккер придумывал всевозможные планы, чтобы выпутаться из беды, но неудачно, когда, наконец, предложен был указанный проект, как единственное средство, хотя временно удовлетворяющее требованиям положения. В настоящем кратком очерке не представляется возможным подробно описать все последовательные стадии, через которые проект прошел в Национальном Собрании. Декрет об обращении церковных имуществ в национальную собственность был издан 2 декабря, и с того момента духовенство, как корпорация, стало заклятым врагом нового режима. В начале духовенство, по-видимому, более чем дворянство было склонно на уступки в надежде удержать за собой свои владения, но теперь, когда жребий быль брошен, оно стало неумолимо. Трудности, сопряженные с продажей церковной собственности, были, однако, велики, и в виду настоятельных нужд казны невозможно было ожидать её реализации. Отсюда явилась необходимость в выпуске ассигнаций, бумажек с принудительным обращением, обеспеченных ценностью экспроприированной земли. Подобная мера сводилась к применению бумажной денежной системы в обширных размерах и грозила неминуемо финансовым крахом.
Мероприятия эти были очень интересны и указывали на похвальное стремление к деятельности со стороны собрания; но они мало касались толпы, которую можно было видеть ежедневно у булочных и которая то и дело подымала уличные бунты. Рабочие Парижа ходили в Версаль просить просто хлеба, а Лафайет дал им королевскую семью. Всякий дальнейший ропот, конечно, надо было подавлять энергичными мирами. Сообразно с этим издан был военный закон и муниципалитету предоставлено право силой разгонять всякое скопление народа после однократного приглашения разойтись. Лафайет ждал только случая, чтобы применить на деле это постановление. Но случай пока не представлялся.
Клубы теперь начали играть руководящую роль во влиянии на общественное мнение. Главными из них были клуб якобинцев и клуб кордильеров. Потом был основан Лафайетом третий клуб – фельянтинцев, представителей «конституционных принципов». Якобинский клуб, предназначенный стать впоследствии, как бы великим неофициальным воплощением революции, мало мог насчитать своих приверженцев в Национальном Собрании, хотя Барнав и Ламет были его членами; случайное покровительство оказывали ему и некоторые «созидатели конституций», вместе с самим Мирабо. Среди якобинцев выделялась одна фигура, всегда безукоризненно одетая, произносившая не менее безукоризненно подготовленные речи. То быль один из депутатов, Максимилиан Робеспьер, адвокат по профессии, уроженец Арраса.
Клуб кордельеров состоял из передовой кучки якобинцев. Среди его постоянных посетителей можно было заметить стройного и дюжего землевладельца Дантона и короткого, коренастого, с резкими чертами лица журналиста Марата. Но пока еще клуб и их ораторы оказывали лишь самое отдаленное и косвенное влияние на ход событии, хотя они и энергично обсуждали всякие возникавшие вопросы.
Тем временем, несмотря на случайные смуты и опасения, что король готовится к бегству, дело сравнительно гладко подвигалось вперед к завершению конституции, к установлению политического господства среднего класса
Шли приготовления к торжественному празднованию годовщины падения Бастилия. По этому поводу заседание Национального Собрания должно было состояться на Марсовом поле. «Передовые» из дворянства, чтобы не отстать в патриотизме, предложили ради национального праздника уничтожить титулы, гербы и прочие эмблемы феодальных привилегий. Предложение это с энтузиазмом было принято Собранием. Конечно, оно возбудило живейшее негодование среди остальной знати и содействовало дальнейшему развитию организовавшегося движения эмиграции аристократов.
14 июля 1790 года, несмотря на дурную погоду, население Парижа хлынуло со всех концов в праздничных костюмах, среди развевающихся трехцветных знамен, к Марсову полю, где в центре искусственного амфитеатра был воздвигнут гигантский алтарь. Королевское семейство, Национальное Собрание и муниципалитет сгруппировались вокруг него, и популярный епископ Талейран (впоследствии знаменитый дипломат и остряк) в полном епископском облачении совершил перед ними богослужение. Лафайет первый подошел к алтарю и от имени национальной гвардии всего королевства принес торжественную присягу в верности «нации, закону и королю». Салюты артиллерии и громкие крики: «да здравствует нация!», «да здравствует король!» сопровождали эту клятву. Ту же присягу принесли затем президент Национального Собрания, депутаты, департаментские советы и прочие. Но самым торжественным моментом был тот, когда сам Людовик XVI, король Франции, приблизившись к алтарю, дал клятву хранить конституцию, данную Национальным Собранием. Эта часть церемонии, как и всегда в подобных случаях, закончилась появлением королевы с дофином на руках, к великому восторгу и восхищению собравшейся толпы, приветствовавшей ее долгими кликами. День прошел среди радостных восклицаний и выражений благодарности.
Таково было объявление первой французской конституции. Не смотря, однако, на новую и блестящую свободу, толпы голодных парижан продолжали ежедневно тесниться у булочным и уходили оттуда ни с чем.
VII. Конституция при смерти
Все государственные чиновники, военные и гражданские, а также духовенство должны были принести теперь присягу новому порядку вещей. Это повело к возмущению со стороны большинства дворян и духовенства, негодование которых дошло до высшего предела вследствие утраты ими своих привилегий и доходов. Офицеры-аристократы массами стали покидать армию и страну, чтобы присоединиться к своим собратьям за границей. Другие, как, например, Буйе, подчинились в расчете воспользоваться армией для контрреволюции. В то время офицерство состояло почти исключительно из аристократов, и это подавало повод к многочисленным вспышкам и восстаниям. Бунт трех полков в городе Нанси был подавлен Буйе лишь после большего кровопролития. Большая часть духовенства отказалась как дать присягу, так и покинуть свои поместья добровольно, при чем находила себе поддержку со стороны громадного большинства епископов, с папой во главе. Они заявили, что новая конституция, подчинив духовную власть светской, ведёт к захвату привилегий духовенства; папа отказался посвятить новых епископов вместо старых, удаленных за неуступчивость, и не признал избрания всех новых духовных, сделанного согласно новой конституции. Между тем, удаление непримиримых священников продолжалось, и их преемники посвящались епископами Отенским и Лидскими, беспрекословно принявшими конституцию. Противоположная же партия стала отлучать от церкви всех признававшихся «самозванцами», как она их называла. Так началась междоусобная война церкви и революция. Духовенство само подготовило народный ум к восприятию и усвоению учений писателей-предтеч революции, которые до того времена являлись, главным образом, достоянием незанятых и образованных классов, приводя народ к логической дилемме – дружественное отношение к революции и враждебное к христианству, или обратно.
Что касается аристократов «эмигрантов», то их целью было возбудить ненависть иностранных держав к революции и сплотить их в коалицию для насильственного ниспровержения её путем вторжения извне. Почти три года эти интриги с «иностранцами» велись при полном потворстве со стороны королевского двора, пока, наконец, падение монархии не привело к «борьбе на ножах» с державами, известной под названием «революционной войны».
Для понимания положения дел надо вспомнить, что со времени падения феодализма, как живого политического строя, с его ссорами между королем и его более или менее номинально вассальными баронами, власть все более и более сосредоточивалась в руках короля; в то же время национальности вполне точно определились и обособились. В результате этого внутренняя политика, преобладавшая в феодальный период, начиная с XVI века, стала уступать место политике внешней, при которой монархи Европы, перестав бояться соперничества и притязаний дворянства в области их юрисдикции, нашли поводы для столкновений со своими же собратьями-монархами, обыкновенно – в целях приобрести новые владения. Наконец, французская революции для материка открывает собою новый периода в борьбе монархов, борьбе не с дворянством внутри страны и не друг с другом, но с народом, т.е. со средними классами, за спиной которых стоит пролетариат. Борьба эта началась в Англии лет на сто раньше, чем на материке, но, в действительности, снова стихла с революцией 1689 года.
