Шахтёр. Роман
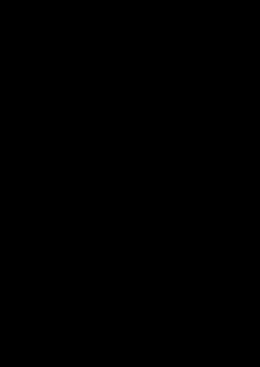
Переводчик Pavel Sokolov
© Сосэки Нацумэ, 2025
© Pavel Sokolov, перевод, 2025
ISBN 978-5-0067-6581-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Нацумэ Сосэки. Шахтер
Во глубине японских руд. Предисловие от переводчика
Роман «Шахтёр» (яп. «кофу», 1908) занимает особое место в творчестве Нацумэ Сосэки (1867—1916) – одного из наиболее значимых писателей японской литературы периода Мэйдзи (1868—1912). Это произведение, созданное на стыке двух важных этапов в карьере автора, отражает его переход от сатирического психологизма ранних работ к более глубокому философскому осмыслению человеческого сущестования.
Нацумэ Сосэки начал работу на книгой в конце 1907 года, вскоре после того, как оставил преподавательскую деятельность в Токийском императорском университете и полностью посвятил себя литературному труду. Роман создавался в эпоху стремительной модернизации Японии, когда традиционные ценности сталкивались с западным индивидуализмом, что нашло отражение в конфликтах главного героя. «Шахтёра» можно рассматривать как своеобразный мост между ранними сатирическими произведениями Сосэки («Ваш покорный слуга кот», 1905) и его зрелыми философскими романами («Сансиро», 1908; «Затем», 1909 и «Врата», 1910).
В отличие от более известных произведений автора, «Шахтёр» остаётся одним из наименее изученных текстов, что связано как с его экспериментальной формой, так и с неоднозначной оценкой критиков. Однако именно в этом произведении Сосэки впервые столь явно затрагивает тему экзистенциального одиночества, которая позже станет центральной в его творчестве.
Главный персонаж, молодой отпрыск из обеспеченной токийской семьи, оказывается втянут в абсурдную ситуацию, которая заставляет его переосмыслить свою жизнь. Он, никогда ни дня не работавший физически, оказывается простым шахтёром на медных рудниках. Этот сюжетный ход позволяет Сосэки исследовать темы отчуждения, самоидентификации и бессмысленности социальных условностей.
К слову, саму историю шахтёра писатель взял из жизни. К нему в дом явился бывший работник медного рудника и предложил литератору купить у него историю. Нацумэ Сосэки внимательно выслушал гостя, записал интересные детали и факты. Сколько, в итоге, было заплачено бывшему горняку, история умалчивает, но это и не так уж важно. Писатель создал не документальный роман, а философский.
Книга написана в характерной для Сосэки манере, сочетающей иронию, психологическую детализацию и элементы гротеска. Повествование балансирует между реализмом и аллегорией, а диалоги часто строятся на недоговорённостях, что создаёт эффект интеллектуальной игры с читателем.
Важной особенностью «Шахтёра» является его композиционная фрагментарность, которая, с одной стороны, затрудняет линейное восприятие текста, а с другой – усиливает ощущение дисгармонии, свойственное внутреннему миру безымянного героя. Некоторые исследователи видят в этом влияние западного модернизма, с которым Сосэки был знаком благодаря своим исследованиям английской литературы. Буддийские мотивы переплетаются с дантовскими, двойники в духе Достоевского сцепляются с японскими ёкаями.
При жизни автора «Шахтёр» не получил широкого признания, отчасти из-за своей сложности и отсутствия привычной тогдашнему читателю структуры. Однако впоследствии литературоведы стали рассматривать его как важный этап в творчестве Сосэки, где впервые чётко обозначились мотивы, развитые в поздних произведениях: кризис личности, конфликт между долгом и свободой, трагическое осознание невозможности подлинного понимания между людьми.
«Шахтёр» – это не просто история о неудачливом молодом человеке, но глубокое философское исследование человеческой природы. Теперь русскоязычные читатели имеют возможность оценить глубину гения Нацумэ Сосэки в том числе в этом произведении. Автор этого предисловия надеется, что однажды будет издано полное собрание сочинений писателя на русском языке.
Павел Соколов
Шахтёр
С тех пор как я очутился в сосновой роще, та казалась всё протяжённее и протяжённее. Гораздо более тёмная, чем виделась на картинках. Сколько ни идёшь – повсюду одни сосны, и конца им не видно. Сколько бы я ни шагал, если уж только сами деревья не решат расступиться – толку всё равно не будет. Лучше уж с самого начала встать и уставиться на них в упор, как в игре «гляделки».
Из Токио я выехал вчера вечером, около девяти, и всю ночь без устали шагал на север, пока не выбился из сил и не свалился от усталости. Гостиницы у меня не было, да и денег тоже, поэтому я забрался в тёмный павильон какого-то храма и прикорнул. Кажется, это был храм Хатимана. Проснулся от холода – ночь ещё не кончилась. С тех пор я просто шёл вперёд, не останавливаясь, но эти бесконечные ряды сосен отнимают всякую охоту двигаться вперёд.
Ноги стали тяжёлыми, словно к икрам привязали железные молотки, и каждое движение даётся с трудом. Полы хакама я, разумеется, подоткнул. Да и под ними никаких брюк или подштанников нет, так что в обычных условиях я мог бы и пробежаться. Но против этих сосен мне всё равно не устоять.
Вот придорожная чайная. Сквозь бамбуковую штору видно, как над глиняным очагом висит закопчённый чайник. Две-три пары соломенных сандалий болтаются над скамьёй, выдвинутой на пару шагов на дорогу, а на ней сидит, повернувшись ко мне спиной, мужик в каком-то подобии рабочей куртки.
Присесть отдохнуть? Или пройти мимо? Я бросил взгляд искоса, и вдруг этот тип резко обернулся. Из-за толстых губ показались почерневшие от табака зубы – он ухмылялся. Мне стало не по себе, но в тот же миг его лицо вдруг стало серьёзным. Видимо, он только что болтал с хозяйкой чайной о чём-то весёлом, а теперь, не подумав, повернулся к дороге с тем же выражением – и вдруг осознал, что наткнулся на мою физиономию. Как бы то ни было, раз он стал серьёзным, я немного успокоился. Но не успел я вздохнуть с облегчением, как снова почувствовал неладное.
Мужик застыл с серьёзным лицом, но его белки глаз начали медленно двигаться – так, что это бросалось в глаза. Взгляд полз от моего рта к носу, от носа ко лбу, поднимаясь всё выше. Перевалив за козырёк моей кепки, он достиг макушки, а затем так же медленно пополз вниз. На этот раз, минуя лицо, он остановился где-то между грудью и пупком. У меня там висела поясная сумка – с тридцатью двумя сэнами внутри. Белоглазый взгляд уставился на неё сквозь ткань куртки, переполз через пояс и наконец добрался до промежности. Ниже были только голые икры. Смотреть там не на что – разве что на грязь, которой налипло побольше обычного. Белки глаз задержались на этом месте, будто специально, а затем медленно опустились до самых гэта, на подошвах которых чёрнели отпечатки больших пальцев.
Если описать это подробно, может показаться, будто я долго стоял на месте, демонстрируя себя, но это не так. На самом деле, едва началось это движение белков, мне тут же расхотелось заходить в чайную, и я быстро зашагал прочь. Однако, видимо, мои ноги не сразу послушались, потому что к тому моменту, как я успел скривить пальцы и развернуть сандалии, взгляд уже закончил своё путешествие. К сожалению, он был быстр. Если уж «медленно» – значит, должно было занять время, подумал бы кто-то, но это ошибка. Да, он двигался неторопливо, но при этом был поразительно быстр. Проходя мимо чайной, я успел лишь подумать: «Бывают же глаза с такими странными свойствами».
И всё же – неужели нельзя было повернуться быстрее, пока он не успел меня так обстоятельно рассмотреть? Это как если бы тебя выставили на посмешище, а потом сказали: «Ну всё, свободен, мы закончили», – и ты встаёшь, униженно кланяясь. Я выглядел дураком, а он был доволен.
Первые пять-шесть сяков я шёл, кипя от злости. Но раздражение быстро прошло. А вот ноги снова отяжелели.
Что поделать – ведь это всё равно что шагать с железными молотами, привязанными к ногам. Быстрых движений тут не получится. И то, что меня так внимательно разглядели, наверное, не только из-за моей нерасторопности. Стоило мне так подумать – и злость показалась глупой.
Да и не до того мне было. Раз уж я сбежал, возвращаться домой не было никакого смысла. Я не мог оставаться даже в Токио. Да и в деревне мне не найти покоя. Если остановлюсь – меня настигнет прошлое. Если в голове будут крутиться вчерашние тревоги – никакая деревня не спасёт. Поэтому я просто шёл.
Но поскольку цели у меня не было, пространство перед лицом расплывалось, как испорченная фотография. И это мутное пятно растекалось впереди без границ, без намёка на то, что оно когда-нибудь прояснится. Даже если я проживу пятьдесят или шестьдесят лет, сколько бы ни шёл или ни бежал – оно так и останется. Ах, как тоскливо! Я шёл не потому, что не мог стоять на месте, и не для того, чтобы вырваться из этого тумана. Я знал – вырваться невозможно.
С тех пор как я покинул Токио вчера в девять вечера, я смирился с этим. Но стоило сделать шаг – и снова стало не по себе. Ноги тяжелели, сосны надоедали, но хуже всего было внутри. Не понимать, зачем идёшь, и при этом знать, что не сможешь прожить и мгновения без движения – это особая мука.
Более того, чем дальше я шёл, тем глубже погружался в этот туман, из которого, казалось, не было выхода. Оглянувшись, я видел, что освещённый солнцем Токио уже в другом мире. Сколько ни тянись – не достать. Совсем иная реальность. И всё же тёплый, яркий Токио по-прежнему стоял перед глазами, словно живой. Так отчётливо, что хотелось крикнуть ему из тени: «Эй!». Но в то же время впереди была лишь бескрайняя мгла. И в эту мглу – бесконечную, покуда живёшь, – я брел, теряя ориентиры.
Если этот туманный мир так и будет стоять на пути, пока не иссякнет карма, – это невыносимо. Подняв ногу в тревоге, я делал шаг вперёд – и двигался прямо в беспокойство. Гонимый им, ведомый им, я полз вперёд, но сколько бы ни шёл – конца не было. Всю жизнь мне идти сквозь этот нескончаемый страх. Лучше бы туман постепенно сгущался в темноту. Тогда, ступая из тьмы в тьму, я скоро оказался бы в мире, где даже собственное тело не разглядеть. Вот тогда бы я вздохнул свободно.
Но, как назло, мой путь не становился ни светлее, ни темнее. Вечный полумрак, вечное беспокойство. Жить незачем, но и умереть не получается. Хочется уйти туда, где нет людей, и остаться в одиночестве. А если не выйдет – тогда уж…
Странно: мысль «тогда уж…» не вызвала ни страха, ни волнения. Раньше, в Токио, когда я задумывался об этом, сердце всегда ёкало. А потом, очнувшись, я думал: «Хорошо, что не сделал». Но сейчас – ни ёканья, ни дрожи. Видимо, тревога заполнила грудь настолько, что мне стало всё равно: пусть хоть ёкнет, хоть задрожит. Да и где-то в глубине было ощущение, что «тогда уж…» – не сейчас. Может, завтра, может, послезавтра, а то и через неделю. А то и вовсе отложу на неопределённый срок. Наверное, я подсознательно чувствовал, что до водопада Кэгон или кратера Асамы ещё далеко. Пока не окажешься на краю – кто станет пугаться? Поэтому и мысль «тогда уж…» казалась осуществимой.
Если этот туманный мир мучителен, но есть шанс избежать боли, не доводя до страха, – стоит тащить эти тяжёлые ноги вперёд. Видимо, я примерно так и решил. Но это лишь позднейший анализ. В тот момент я просто хотел оказаться в темноте. Шёл, стремясь только к ней. Теперь это кажется глупым, но в определённых обстоятельствах мы начинаем видеть утешение в движении к смерти. Правда, смерть должна быть где-то далеко – вот в чём дело. По крайней мере, я так думаю. Если она слишком близко – утешения не получится.
Размышляя так, я шёл вперёд, ловя облака, как вдруг сзади раздался оклик: «Эй!». Как ни странно, даже когда душа блуждает, её можно вызвать голосом. Я обернулся без мысли ответить – просто машинально. И только тогда осознал: от чайной я отошёл не больше двадцати сяку. На дороге перед ней стоял тот самый тип в куртке, оскалив свои табачные зубы и энергично махая мне.
С тех пор как я покинул Токио прошлым вечером, я не говорил ни с кем. Не ожидал, что кто-то вообще захочет завести диалог со мной. Был уверен, что не заслуживаю ничьего внимания. И вдруг этот оклик – с улыбкой, пусть и некрасивой, но искренней, с энергичным жестом. И когда я в замешательстве обернулся, ноги сами понесли меня к нему.
Честно говоря, ни лицо, ни одежда, ни манеры этого субъекта мне не нравились. Особенно когда он уставился на меня своими белками – тогда внутри даже шевельнулось отвращение. Но не прошло и двадцати сяку, как прежние чувства куда-то испарились, и я повернул назад с каким-то тёплым ощущением. Не знаю, почему.
Я ведь собирался идти в темноту. Возвращаясь к чайной, я сворачивал с пути. Отступил на шаг от тьмы. И тем не менее, это отступление почему-то обрадовало меня. Позже я не раз убеждался, что такие противоречия встречаются на каждом шагу. И не только у меня. В последнее время я вообще считаю, что никакого «характера» не существует. Писатели любят рассуждать: «Вот этот герой – такой, а тот – сякой», – и важничают. Читатели тоже умничают: «Ах, этот персонаж – такой, а тот – этакий». Но всё это – просто игра: одни сочиняют небылицы для забавы, другие радуются, читая их.
По правде говоря, никакого «характера» нет. Да и правда – не для литераторов. Даже если написать её как есть – роман не получится. Настоящий человек – штука неуловимая. Даже боги не справятся – так он не поддаётся определению.
Впрочем, может, это я такой бесформенный, а остальные – не такие. Тогда я просто оскорбляю их.
Так или иначе, я вернулся к полосатому занавесу, и человек в куртке фамильярно сказал:
– Эй, парень!
Он втянул массивный подбородок в воротник, уставившись мне в лоб. Я остановился и вежливо спросил:
– Вам что-то нужно?
В обычное время я бы не стал так любезно отвечать на «эй, парень» от какого-то оборванца. Разве что буркнул бы что-то невнятное. Но в тот момент мне почему-то показалось, что этот несимпатичный тип и я – одного поля ягоды. Я не старался казаться скромным – просто так вышло.
И он, видимо, почувствовал то же самое, потому что спросил без всякого высокомерия:
– Не хочешь подработать?
До сих пор я был уверен, что у меня нет иной цели, кроме как идти во тьму. Поэтому вопрос «не хочешь подработать?» застал меня врасплох. Я не знал, что ответить, и просто стоял, вытянув голые икры, с глупым выражением лица.
– Не хочешь подработать? Всё равно ведь работать придётся, – повторил он.
К этому времени я немного пришёл в себя и смог ответить:
– Могу и подработать.
Это был мой ответ. Но чтобы он сорвался с губ, в голове должна была произойти хоть какая-то работа – пусть даже наспех.
Я не знал, куда бреду, но твёрдо решил отправиться туда, где нет людей. Однако, обернувшись и явившись к человеку в куртке, я почувствовал к себе странную жалость. Ведь даже этот оборванец – всё же человек. Я хотел уйти от людей, но был притянут обратно – это доказывает, насколько силен человеческий магнетизм, и одновременно то, насколько я слаб, раз не смог устоять перед ним.
Короче говоря, я собирался уйти во тьму, но на самом деле шёл туда лишь по необходимости, а если бы нашлась зацепка – с радостью остался бы в обычном мире. К счастью, этот тип сам подал её, и мои ноги машинально повернули назад. Можно сказать, я на мгновение предал свою главную цель.
Если бы он спросил не «хочешь подработать?», а что-то вроде «тебе в поле или в горы?» – я бы вспомнил о забытой было цели, мне стало бы страшно от мысли о тёмных, безлюдных местах, и я бы вздрогнул. Но даже эта толика привязанности к миру уже начала прорастать во мне, стоило мне повернуть назад. И чем ближе я подходил к нему, тем сильнее та становилась. Когда я оказался перед ним, вытянув голые ноги, как столбы, – она достигла пика.
И в этот момент он спросил: «Не хочешь подработать?».
Жалкая куртка, но очень ловкий способ уговорить, играя на моём состоянии. Сначала я растерялся от неожиданного вопроса, но, очнувшись, понял: я уже снова стал частью этого мира. А раз так – мне нужно есть. А чтобы есть – нужно работать.
– Могу и подработать.
Ответ выскользнул из моих губ без усилий. Куртка сделал вид, будто так и должно быть, и я, к своему удивлению, кивнул.
– Могу и подработать, но что именно нужно делать?
– Дело прибыльное. Хочешь попробовать? Гарантирую – заработаешь.
Он улыбался, ожидая моего ответа. Его улыбка, конечно, не отличалась обаянием – такое лицо создано скорее для того, чтобы пугать. Но почему-то она показалась мне милой, и я согласился:
– Да, попробую.
– Попробуешь? Отлично! Ты разбогатеешь!
– Мне не нужно так уж много…
– Что?
Он издал странный звук.
– О чём вообще речь?
– Расскажу, если возьмёшься. Но если передумаешь – будет сложно. Ты точно согласен?
Он настаивал. Я ответил:
– Готов взяться.
Но на этот раз ответ дался не так-то легко. Словно я выдавил его. Видимо, я был готов взяться за что угодно, но в крайнем случае – сбежать. Поэтому сказал не «сделаю», а «готов».
Писать о себе, как о постороннем, – странно, но человек по природе непостоянен. Даже о себе нельзя сказать ничего определённого. А уж о прошлом – и подавно. Всё превращается в «может быть». Может, это безответственно, но такова правда. И впредь я буду придерживаться этого правила.
Куртка, видимо, решил, что дело улажено, и сказал:
– Ну, заходи. Выпьем чаю, обсудим.
Возражений не было, и я вошёл в чайную, сев рядом с ним. Криворотая хозяйка лет сорока налила мне чашку чая с каким-то странным запахом. Выпив, я вдруг осознал, что голоден. То ли голод пришёл, то ли я просто заметил его. В поясной сумке лежало тридцать два сэна. Подумал: может, поесть?
– Куришь? – Куртка протянул мне пачку «Асахи».
Весьма любезно. Правда, угол пачки был порван, и она казалась грязной и сплющенной, словно табак внутри слипся в один комок. Видимо, из-за отсутствия карманов он засовывал её куда-то под куртку.
– Спасибо, не надо.
Он не расстроился, достал одну сигарету закопчёнными пальцами и закурил. Сигарета была смята и выгнута, как меч, но, судя по всему, не порвана. Он затягивался, выпуская дым через нос. Удивительно, как она вообще не развалилась.
– Сколько тебе лет?
Он то называл меня «парень», то «ты» – без видимой логики. Судя по всему, «ты» появлялось, когда речь шла о заработке. Видимо, это его сильно волновало.
– Девятнадцать.
Так оно и было.
– Ещё молодой, – сказала криворотая хозяйка, вытирая поднос спиной ко мне.
Не разобрать, кому она это говорит – ему или мне.
– Точно, девятнадцать – это молодость. Самый возраст работать, – подхватил Куртка, словно подчёркивая, что трудиться всё равно придётся.
Я молча встал со скамьи.
Прямо передо мной стоял прилавок со сладостями. Рядом с потрёпанной коробкой лежало большое блюдо, прикрытое синей тряпкой, из-под которой выглядывали круглые жареные булочки. Мне захотелось их попробовать, и я подошёл к прилавку. Но стоило мне остановиться, как с блюда в разные стороны разлетелись мухи. Я удивился, но, собравшись, присмотрелся к булочкам.
И тут мухи, словно сговорившись, снова уселись на них. На жёлтой, пропитанной маслом корочке запестрели чёрные точки. Я уже хотел взять одну, но тут эти точки размножились, как звёзды на ночном небе, и я в замешательстве застыл.
– Хотите булочку? Они свежие, позавчера только жарили.
Хозяйка, закончив вытирать поднос, стояла по другую сторону прилавка. Я поднял на неё глаза, и она вдруг резко обмахнула блюдо:
– Ох, сколько мух!
Она помахала рукой несколько раз.
– Если хотите, я вам выберу.
Она быстро достала деревянную тарелку, взяла длинные бамбуковые палочки и переложила семь булочек.
– Вот эти получше.
Она поставила тарелку на скамью, где я сидел. Мне ничего не оставалось, как вернуться на место. Мухи уже снова начали слетаться. Я смотрел на них, на булочки и на тарелку, затем повернулся к Куртке:
– Может, одну?
Это было не только из вежливости за «Асахи». Отчасти мне хотелось посмотреть, станет ли он есть булочки, облепленные мухами.
– А, спасибо!
Он без колебаний взял верхнюю и откусил. По тому, как шевелились его толстые губы, видно было, что ему нравится. Тогда и я решился, выбрав с краю относительно чистую, и откусил.
Сначала на язык попал вкус масла, затем – резкая горечь начинки. Но сейчас это не имело значения. Я спокойно проглотил и, к своему удивлению, потянулся за следующей.
Куртка к этому времени уже взял вторую и перешёл к третьей. Он ел гораздо быстрее меня и при этом молчал, словно забыв и о работе, и о заработке.
Семь булочек исчезли за несколько вдохов. Я съел только две, остальные пять достались ему в мгновение ока.
Как бы ни было противно сначала, стоит лишь начать – и дальше уже не так страшно. Позже, в горах, я убедился в этом, но тогда это казалось мне откровением.
Я всё ещё был голоден. Да и Куртка ел так легко, словно булочки с песком и мухами были деликатесом. Это пробудило во мне дух соперничества, и я решил, что нервы тут только мешают.
В итоге я попросил у хозяйки добавки.
На этот раз я не предлагал Куртке, а сразу взял одну. Он тоже молча последовал моему примеру. Мы по очереди брали булочки, и когда осталась последняя, шестая по счёту, – та досталась мне. Затем я попросил ещё.
– Ты, однако, ешь много, – заметил Куртка.
Я не считал, что ем много, но, по его тону, выходило именно так. Хотя это он сам начал уплетать то, что мне не хотелось есть, и разбудил мой аппетит. Но этот субъект говорил так, словно это я объедался. Мне захотелось оправдаться, но я не нашёл слов. Лишь смутно думал, что и он в чём-то виноват, но не мог понять – в чём именно.
– Ты, видно, очень любишь жареные булочки, – продолжил он.
Конечно, я не мог любить позавчерашние булочки с песком и мухами. Но раз я съел уже три порции – вряд ли они мне не нравились. Поэтому я промолчал.
Тут вмешалась хозяйка:
– Наши булочки знамениты. Все их хвалят.
Мне показалось, что она надо мной издевается.
– Лучше не бывает, – поддержал Куртка.
Не понять – искренне или из вежливости. Но булочки были не важны. Я решил вернуться к главному:
– Вы говорили о работе. Дело в том, что мне действительно нужно зарабатывать на жизнь. О чём именно речь?
Куртка смотрел на прилавок, но тут резко повернулся ко мне:
– Ты разбогатеешь. Честно, это выгодное дело. Попробуй!
Он снова обратился ко мне на «ты» и настаивал на заработке. Его лицо стало серьёзным: скулы втянулись, а в свете из окна глубокие морщины у носа стали похожи на лук.
От этого вида мне стало как-то не по себе.
– Мне не нужно так уж много. Но работать я готов. Если труд благороден – возьмусь за что угодно.
На лице Куртки мелькнуло недоумение, но затем его «лукообразные» морщины разошлись в стороны, обнажив почерневшие зубы. Он рассмеялся – как потом стало ясно, потому что не понял словосочетания «благородный труд».
Ему казалось жалким, что человек, не знающий даже, как зарабатывать деньги, разглагольствует о высоких материях.
А я до этого момента был готов умереть. Или, по крайней мере, уйти туда, где нет людей. Раз не вышло – решил работать, чтобы жить. Мысли о заработке не было. Её не было даже в Токио, когда я жил на родительские деньги. Более того – я презирал стяжательство. Думал, все в Японии разделяют эти взгляды.
Поэтому мне было странно, почему Куртка так настаивает на прибыли. Это не раздражало – у меня не было ни положения, ни обстоятельств, чтобы раздражаться. Но я и представить не мог, что это – лучший способ уговорить человека.
В итоге он надо мной посмеялся. И даже тогда я не понял почему. Теперь это кажется глупым. Человек в куртке, закончив свой особый смешок, спросил с внезапной серьёзностью:
– А ты вообще когда-нибудь впахивал?
Работать или не работать – я ведь только вчера сбежал из дома. Весь мой трудовой опыт ограничивался уроками фехтования и тренировками по бейсболу. Зарабатывать на жизнь мне ещё не доводилось.
– Нет, не работал. Но теперь придётся.
– Так и есть. Если не трудился… Значит, и денег не зарабатывал?
Он констатировал очевидное. Я промолчал.
– Работать – значит зарабатывать! – вдруг вставила хозяйка чайной, поднимаясь из-за прилавка.
– Верно, – подхватил Куртка, – но сейчас не так-то просто найти доходное место.
Он говорил это с видом благодетеля.
– Точно! – равнодушно бросила хозяйка и вышла во двор.
Её «точно» засело у меня в голове. Мне показалось, что за этим последует что-то ещё, и я машинально проводил её взглядом. Но та подошла к старой сосне и… начала справлять малую нужду. Я поспешно отвернулся.
– Только я, понимаешь, могу сделать тебе такое выгодное предложение, – снова заговорил Куртка, всё тем же покровительственным тоном. – Другой бы и разговаривать бы не стал.
Из вежливости я ответил:
– Благодарю вас.
– Дело вот в чём… – начал он.
Я приготовился слушать.
– Дело вот в чём… Ты поедешь на медные рудники. Если я тебя устрою – сразу станешь шахтёром. Прямо шахтёром, понимаешь? Это серьёзно!
Меня будто подталкивали ответить, но поддакивать его напору не хотелось. Шахтёр – значит, рабочий в подземных туннелях. Среди всех профессий я считал её самой тяжёлой и низкой. И вдруг он заявляет: «Прямо шахтёром – это серьёзно!».
Я внутренне ахнул. Получалось, существуют занятия ещё хуже шахтёрского? Как если бы после Нового года вдруг оказалось, что впереди – бесконечная череда дней. Сначала я заподозрил, что он, считая меня юнцом, попросту морочит мне голову. Но нет – он говорил вполне серьёзно.
– Сразу шахтёром, понимаешь? Шахтёр – лёгкая работа! Деньги польются рекой, всё будет как надо. Там даже банк есть – копи, клади на счёт. Как думаешь, хозяйка? Сразу шахтёром – недурно, а?
Он обратился к женщине, которая вернулась с тем же отсутствующим взглядом:
– Ещё бы! Станешь шахтёром – через четыре-пять лет денег будет завались. Тебе ведь девятнадцать… Самый возраст… Зарабатывать надо, пока молод.
Каждую фразу она произносила с паузами, словно разговаривая сама с собой. Выходило, она тоже настаивала на шахтёрстве. Впрочем, мне было всё равно. Странно, но в тот момент я ощущал небывалое спокойствие. Наверное, согласился бы на что угодно. А ведь всего сутки назад я взорвался от накопившихся обид, несправедливостей, душевных терзаний – и сбежал. Казалось бы, откуда взяться такому смирению?
Но никакого противоречия я не чувствовал. Вернее, мне было не до размышлений. Человек целостен лишь физически. Тело – вот что едино. Поэтому, даже поступая сегодня вопреки вчерашнему, мы уверены, что остаёмся собой. А когда нас уличают в непоследовательности, мы не говорим: «Моя душа – лишь воспоминание, на самом деле она рассыпана».
Хотя я не раз сталкивался с такими противоречиями, мне всё же трудно избежать чувства ответственности. Видимо, человек устроен так, чтобы быть удобной жертвой общества.
Наблюдая, как моя раздробленная душа беспорядочно мечется, я понимал: нет ничего ненадёжнее человека. Те, кто осознаёт свою душу, не могут давать обещаний. А требовать их исполнения – верх глупости. Большинство обещаний исполняется через силу. Не по велению души. Осознай я это раньше – не пришлось бы ни ненавидеть людей, ни мучиться, ни сбегать из дома. Доберись я до этой чайной и сравнил бы своё поведение с Курткой и хозяйкой – возможно, что-то бы да понял. Жаль, тогда мне было не до самоанализа. Только злость, боль, тоска, ярость, стыд, отвращение к миру, неспособность порвать с людьми – и бессмысленная ходьба, пока не наткнулся на Куртку и не наелся булочек.
Вчера – вчера, сегодня – сегодня. Час назад – час назад, через полчаса – через полчаса. Только сиюминутные переживания. Обычная разорванность души стала ещё очевиднее. А воспоминания за год сгустились в туманное пятно, как кошмарный сон, нависший в пустоте. В иное время я бы потребовал объяснений: почему шахтёр – это хорошо? Что может быть хуже шахтёра? Я ведь не из тех, кто работает ради денег! Но сейчас я молчал. Не только внешне – внутри тоже не было сопротивления. Видимо, я просто хотел работать. Лишь бы работать. Лишь бы эта неустойчивая душа оставалась в теле. Лишь бы не доводить до самоубийства. Шахтёр или нет, прибыльно или нет – не имело значения. Лишь бы работа. Поэтому я слушал его россказни, даже зная, что это ложь для приманки. Даже понимая, что согласие может запятнать мою репутацию. В такие моменты сложный человек становится удивительно простым. К тому же слово «шахтёр» почему-то обрадовало меня.
Сначала я хотел умереть. Потом – просто уйти от людей. Затем – работать. А среди работ шахтёр ближе всего ко второму варианту. Даже к первому. Работать в безлюдье, в шаге от смерти – вот идеал. Шахтёр – по названию видно: человек в норе. Внизу, в темноте, вдали от мира. Должно быть, мрачно. Как раз то, что мне нужно. Я создан быть шахтёром. Это моё призвание. Конечно, тогда я не формулировал это так конкретно. Но слово «шахтёр» вызвало мрачное и почему-то радостное чувство. Теперь я понимаю, что воспринимал это как что-то постороннее.
– Я готов работать изо всех сил, – сказал я Куртке. – Вы действительно устроите меня шахтёром?
Он важно ответил:
– Сразу шахтёром – сложно. Но если я похлопочу – точно получится.
Я задумался.
– Если Тёдзо-сан замолвит слово – шахтёром возьмут обязательно! – снова вставила хозяйка.
Только тогда я узнал имя Куртки – Тёдзо. Позже, в поезде, я пару раз окликал его так. Но как пишется «Тёдзо» – не знаю до сих пор. Странно: имя человека, вырвавшего меня из дома и перевернувшего мою жизнь, я помню лишь на слух.
Раз уж Тёдзо и хозяйка гарантировали, я решил:
– Прошу вас, устройте меня.
Хотя как именно – понятия не имел. Но раз они настаивают – значит, Тёдзо что-то придумает. Он поднялся со скамьи:
– Тогда пошли сейчас же. Ты готов? Не забыл ничего?
Я ушёл из дома в чём был – забывать тут нечего.
– Всё моё при мне.
Но, встретившись взглядом с хозяйкой, я вспомнил: не заплатил за булочки. Тёдзо уже стоял у входа. Я достал поясную сумку с тридцатью двумя сэнами, заплатил за три порции и оставил пять сэнов на чай. Сколько стоила каждая порция – так и не вспомнил.
– Заработаешь в шахтах – заходи на обратном пути, – сказала хозяйка.
Позже я бросил шахты, но так и не вернулся в ту чайную. Мы с Тёдзо вышли на сосновую аллею. Вскоре сосны кончились, и мы оказались у въезда в городок, похожий на Итабаси. По дороге катили телеги.
Тёдзо обернулся:
– Поедешь на телеге?
– Можно.
– А не поехать?
– Можно и не ехать.
– Так как?
– Как угодно.
Пока мы препирались, телега скрылась вдали.
– Тогда пойдём пешком.
Мы зашагали. Впереди, в солнечных лучах, висела пыль от телеги. Постепенно людей становилось больше, дома – богаче. Наконец мы вышли на оживлённую улицу, как в Кагурадзаке. Люди, магазины, одежда – всё как в Токио. Таких, как Тёдзо, почти не было.
– Как называется это место? – спросил я.
Тёдзо удивился:
– Ты не знаешь?
Он не стал смеяться и сразу ответил. Название я опущу. Видимо, моё незнание поразило его, потому что он спросил:
– А ты откуда родом?
До этого он ни разу не поинтересовался моим прошлым. Но сейчас вопрос прозвучал просто из любопытства.
– Из Токио, – ответил я.
– А…
Больше он ничего не спросил и повёл меня в боковую улицу. По правде говоря, я был сыном человека довольно высокого положения. Не выдержав сложных обстоятельств, я сбежал из родительского дома – но не из-за какой-то детской обиды на родителей. Просто мир стал мне противен, а вместе с ним опостылел и отчий дом. Я больше не мог смотреть ни на папу с матерью, ни на родственников.
Я пытался взять себя в руки – но было уже поздно. Чем больше я старался, тем сильнее раздражался. В конце концов терпение лопнуло, и в одну из ночей я навсегда покинул дом.
Всё началось с одной девушки. Вернее, с двух.
Первая то сближалась со мной, то отдалялась. По цепной реакции я тоже то распахивал душу, то закрывался. Но, поступая так, я предавал вторую девушку – ту, с которой был связан с самого рождения.
Я, несмотря на молодость, хорошо понимал своё положение. Но чем больше я осознавал вину перед второй, тем сильнее метались мои чувства к первой. Вскоре перемены коснулись не только настроений, но и всего образа жизни. Вторая девушка смотрела на это с укором. Родители и родственники тоже наблюдали это. Весь мир видел.
Я изо всех сил пытался скрыть свои душевные метания. Но первая девушка то приближалась, то отдалялась – и скрывать стало невозможно. Родители пришли в негодование. Я и сам считал своё поведение недостойным, но их возмущение было вызвано совсем другими причинами. Я пытался оправдаться – меня не слушали.
Больше всего злило, что родной отец не верил ни единому моему слову. Я понимал: если останусь рядом с первой девушкой – не знаю, что могу натворить. Но уйти не мог. А перед второй девушкой мне становилось всё стыднее. Так, запутавшись в противоречиях, я оказался в паутине, где любое движение лишь сильнее опутывало меня. Я перепробовал всё – но ничего не помогало. И тогда я понял: раз это мои страдания – значит, только я могу их прекратить. До этого я страдал сам, но ждал, что другие изменятся и решат всё за меня. Как если бы, стоя на дороге, я ждал, что прохожие посторонятся передо мной. Как если бы, глядя в зеркало, требовал, чтобы отражение изменилось первым. Если уж законы мира – это неподвижное зеркало, то лучше мне просто уйти из его поля зрения.
Я решил исчезнуть из этой запутанной истории – испариться. Но единственный способ испариться – умереть. Я несколько раз пытался покончить с собой – но каждый раз меня охватывал ужас. Самоубийству не научишься. Тогда я решил: раз не могу уйти сразу – начну с медленного саморазрушения. Но в родительском доме, где у меня было всё, разрушать себя было невозможно. Пришлось бежать. Я понимал: даже сбежав, не избавлюсь от прошлого. Но, может быть, избавлюсь? Пока не попробуешь – не узнаешь. Даже если муки последуют за мной – это моя проблема. Зато те, кто останется, наверняка вздохнут с облегчением. Да и бежать вечно я не смогу. Раз уж сразу уничтожить себя не получается – побег станет первым шагом. Если прошлое настигнет меня – тогда уж медленно угасну. А если и это не поможет – тогда уже точно покончу с собой.
Выглядит жалко, но иначе не описать. Да и разве герой романа не может быть таким же растерянным? Вообще, если подробно описать обеих девушек, все повороты событий, мои переживания, родительские упрёки и советы родни – получилась бы занимательная история. Но у меня нет ни времени, ни таланта. Поэтому ограничусь историей о шахтёрах. Так или иначе, я сбежал – готовый и к смерти, и к медленному угасанию. Но, как бы я ни опустился, мне не хотелось рассказывать Тёдзо о своём происхождении. Да и вообще никому не хотелось. Я чувствовал себя жалким – даже перед самим собой.
К счастью, Тёдзо, вопреки обычаям вербовщиков, ни о чём не расспрашивал. Честно говоря, я тогда ещё плохо врал и считал обман страшным грехом. Если бы он спросил – то бы растерялся.
Мы свернули в переулок. Через пару кварталов дома поредели, кое-где виднелись узкие полоски полей. «Оживлённый район – но только вдоль главной улицы», – подумал я.
Тёдзо снова свернул – и мы вышли к вокзалу. Только тогда я понял: чтобы стать шахтёром, нужно ехать поездом. Я-то думал, что в городе есть контора шахты, откуда нас отправят под конвоем.
В нескольких шагах от входа я спросил:
– Тёдзо-сан, мы поедем поездом?
Впервые назвал его по имени. Он обернулся без удивления:
– Ага, поедем.
И зашагал вперёд. Я остановился у входа.
«Неужели он собирается ехать со мной до самого конца? Слишком уж любезно для незнакомца. Может, он мошенник?» – мысль пришла так запоздало, что мне расхотелось садиться в поезд. Я уже повернулся к выходу – но не решился уйти. Тупо уставился на красный занавес вокзального буфета. Вдруг раздался крик.
Я узнал голос Тёдзо – тот самый, что слышал ещё в сосновой роще. Обернулся: тот выглядывал из-за угла туалета, энергично помахивая мне рукой. Раз уж зовёт – я пошёл к нему.
«Перед поездом лучше сходить», – сказал он.
Я отказался, но Тёдзо настаивал – и мы справили малую нужду бок о бок. Тут мои мысли снова переменились. У меня ведь ничего нет. Ни денег, ни репутации – меня нечем обманывать. Бояться Тёдзо – всё равно что уволенному чиновнику переживать из-за задержки жалования. Этот мужик, конечно, необразованный, но и без особых знаний он мог с первого взгляда понять: обманывать меня бесполезно.
Наверное, просто получит процент, когда устроит меня на шахту. Что ж, пусть. Вычтут из зарплаты. Так я размышлял, справляя нужду. Целый логический вывод – и всё за несколько секунд. Но даже после таких умственных усилий я не понял, что Тёдзо – самый настоящий сводник. Молодость – великий недостаток.
Подойдя к залу третьего класса, я важно сказал:
– Вам не стоит беспокоиться и ехать со мной. Здесь мы можем расстаться.
Тёдзо молча уставился на меня. Видимо, я выразился недостаточно вежливо.
– Благодарю вас за заботу. Дальше я справлюсь сам.
Я поклонился.
– Сам-то справишься? – спросил он, на этот раз без «парень».
– Как-нибудь справлюсь.
– А как именно?
Я смутился:
– Раз уж вы так любезны… Может, мне просто назвать ваше имя на месте?
Тёдзо фыркнул:
– И думаешь, с моим именем тебя сразу возьмут в шахтёры? Не надейся. Шахтёром стать не так-то просто.
Делать нечего – я пробормотал:
– Всё равно неудобно вас утруждать…
– Да брось! Провожу – и всё. Чем чёрт не шутит. Ха-ха-ха!
«Благодарю вас», – сказал я в последний раз. Мы уселись рядом на скамейке, и постепенно вокзал начал наполняться людьми. В основном это были провинциалы. Среди них попадались и такие, как Тёдзо – в рабочих куртках, некоторые даже с коромыслами за плечами. Встречались и типичные городские торговцы в глянцевых передниках и мятых котелках.
Когда толпа у входа загудела, кассир открыл окошко. Люди бросились к железной решётке.
Тёдзо сохранял полное спокойствие. Он держал в толстых губах скрученную сигарету «Асахи» и повернул ко мне своё угловатое лицо:
– Деньги на билет есть?
Признаюсь, я до сих пор не задумывался о билетах. Совершенно не представлял, сколько они стоят и нужно ли вообще платить. Глупость несусветная! В глубине души я, видимо, надеялся, что Тёдзо всё устроит. Хотя сам этого не осознавал. Даже сейчас мне неловко в этом признаваться. Но если бы не эта подсознательная уверенность – разве мог бы я, даже будучи глупым девятнадцатилетним парнем, не думать о билетах? И всё же я отказался от его сопровождения!
В подобных ситуациях я в конце концов выработал теорию. Как у болезней есть инкубационный период, так и у наших мыслей и чувств есть скрытая фаза. Мы можем носить в себе идеи, находиться под властью эмоций – и не осознавать этого. Если внешние обстоятельства не выведут их на поверхность – мы так и проживём под их влиянием, уверенные, что ничего подобного с нами не происходило. При этом будем действовать вопреки самим себе. Со стороны это выглядит как противоречие. Иногда мы и сами удивляемся себе. А иногда страдаем, даже не понимая причины. Мои мучения из-за той девушки тоже начались с неосознанных чувств. Если бы можно было впрыснуть сильнодействующее средство и убить этих внутренних «невидимок» – сколько бы противоречий и несчастий удалось избежать!
Но, увы, это невозможно. Когда Тёдзо спросил о деньгах, я растерялся. После булочек и чая от тридцати двух сэнов почти ничего не осталось. Какой же я наглец – соглашаться стать шахтёром, не имея денег даже на билет! Щёки мои пылали.
Сейчас, будь у меня долги, я бы лишь развел руками. Но тогда я покраснел перед каким-то сводником! Мне хотелось сказать, что деньги есть. Но врать не стал – обман тут же раскрылся бы у кассы. Признаться в отсутствии денег было стыдно. Я уже не ребёнок, но и не взрослый. Уже есть смутные желания, томления – но нет настоящего здравого смысла.
– Немного есть, – пробормотал я, покраснев ещё сильнее.
– Немного – это сколько? – переспросил Тёдзо, не обращая внимания на мой смущённый вид.
Я и сам не знал точно. После трёх порций булочек и чая остались гроши.
– Очень мало. Вряд ли хватит.
– Я добавлю. Давай, что есть.
Мне не хотелось пересчитывать мелочь при всех. Да и скрывать жалкие остатки – стыдно. Я вытащил поясную сумку – крокодиловую, дорогую, подаренную отцом, – и отдал её Тёдзо.
– Хм, неплохая, – сказал он, не заглядывая внутрь, и сунул её за пазуху.
– Я куплю билет. Жди здесь. Если разойдёмся – шахтёром не станешь.
Он ушёл, не оглядываясь. Раньше он не отходил ни на шаг, даже из уборной выглядывал. А теперь, получив сумку, будто забыл обо мне. Может, из-за толпы? Я же не сводил с него глаз, наблюдая, как этот тип продвигается к кассе.
«Вот твой билет», – вернувшись, он протянул красный билет, не упоминая о деньгах. Я тоже промолчал. И о сумке – тоже. Так она и осталась у Тёдзо. Мы сели в поезд. Ничего примечательного не случилось. Рядом со мной уселся мужчина с гноящимися язвами на лице. Мне стало дурно, и я пересел. Странно: я сбежал из дома, готовый стать шахтёром, но не вынес соседства с больным человеком. Даже перед самоубийством я бы не смог сидеть рядом с таким. И в то же время с Тёдзо и хозяйкой чайной я вёл себя необычайно покорно. Конечно, отчасти из-за голода. Но не только. Опять противоречия… Да бросьте!
У меня есть привычка в свободное время мысленно возвращаться к самому яркому периоду моей жизни, полному приключений. Каждый раз, вспоминая свое прошлое, я безжалостно препарирую себя анатомическим скальпелем, крест-накрест рассекая свои чувства вдоль и поперек. Но результат всегда один и тот же – в конечном счете я ничего не понимаю. Нельзя сказать, что я просто забыл – ведь это был единственный по-настоящему значимый опыт в моей жизни. Нельзя списывать всё на юношескую глупость и неразбериху, свойственную возрасту до двадцати лет. Да, тогда я действительно метался в слепых порывах, но путь, приведший меня к этому, можно осознать лишь теперь, с холодным рассудком.
Эта поездка на рудник – словно сон из прошлого, увиденный сегодня. Поэтому я могу описать ее так, чтобы другим было понятно. Дело не только в том, что, утратив былой пыл, я обрел смелость выложить все как есть. Без возможности вытащить того себя на свет и тщательно изучить под микроскопом, я бы никогда не смог написать об этом так откровенно.
Обыватели думают, что пережитое в момент события – самое достоверное. Это грубая ошибка. Сиюминутные впечатления часто искажаются мимолетными эмоциями, порождая самые нелепые заблуждения. Если бы я тогда записывал свои чувства в дневник, получилось бы нечто инфантильное, напыщенное и фальшивое. Уж точно не то, что можно показывать людям.
Когда я, спасаясь от Гнилоглазого, пересел на другую сторону, Тёдзо лишь мельком взглянул на нас и остался сидеть на месте. Его нервы оказались куда крепче моих, что меня немало удивило. Более того, он спокойно заговорил с Гнилоглазым, и тут я уже слегка вознегодовал.
– Опять в горы собрался?
– Ага, вот еще одного веду.
– Этого что ли? – Гнилоглазый посмотрел на меня.
Тёдзо, кажется, хотел ответить, но, встретившись со мной взглядом, сжал толстые губы и отвернулся. Гнилоглазый, следуя его взгляду, сказал:
– Ну и заработаешь же ты теперь!
Едва услышав это, я высунулся в окно и плюнул. Ветер от поезда швырнул мое плевок мне же в лицо. Мерзкое ощущение.
Впереди двое незнакомцев оживленно беседовали:
– Допустим, залез вор.
– Мелкий воришка?
– Да нет, грабитель. И вот он, допустим, угрожает тебе ножом.
– Ну?
– Ну, а хозяин, видя, что перед ним вор, дает ему фальшивые деньги и выпроваживает.
– Ну и?
– А потом вор понимает, что деньги фальшивые, и начинает всем рассказывать: «Тот хозяин – фальшивомонетчик!». Как думаешь, кто виноват больше?
– Кто?
– Хозяин или вор?
– Ну-у… – Собеседник затруднился с ответом.
Меня начало клонить в сон, и я, прислонив голову к окну, задремал.
Когда спишь, время исчезает. Поэтому сон – лучшее средство от мучительного ожидания. Наверное, то же самое и со смертью. Но умереть кажется простым, на деле не так-то легко. Простым смертным куда удобнее обходиться сном.
Знатоки дзюдо иногда просят товарищей пережать им сонную артерию. В долгие летние дни, когда одолевает лень, можно «умереть» в додзё на пять минут, а потом, вернувшись к жизни, чувствовать себя заново рожденным – так, по крайней мере, говорят.
Я же, опасаясь, что могу умереть по-настоящему, никогда не решался на такую рискованную терапию. Сон, конечно, не столь эффективен, зато и опасности «не вернуться» с ним нет. Для тех, кого гложут тревоги, терзают муки или кто, как я, в порыве саморазрушения решил стать шахтером, сон – величайший дар природы.
И вот этот дар неожиданно свалился на меня. Не успев даже мысленно поблагодарить судьбу, я погрузился в забытье, безвозвратно растеряв те часы, которые, будь я в сознании, пришлось бы терпеливо пережить.
Но вот я проснулся. Как выяснилось позже, я заснул во время движения поезда, а остановка вырвала меня из объятий сна. Получается, даже во сне я остаюсь чувствителен к перемещениям в пространстве, хоть и теряю ощущение времени.
Значит, чтобы по-настоящему забыться, нужно по-настоящему умереть. Но, конечно, как только исчезнут муки, тут же захочется вернуться к жизни. По правде говоря, идеальным было бы попеременно умирать и оживать.
Может, это звучит как неуместная шутка, но я говорю совершенно серьезно. Это не какие-то запоздалые домыслы – именно такая мысль пришла мне в голову, когда поезд остановился и я внезапно проснулся.
Да, ощущение дурацкое, почти комичное. Но раз уж оно возникло, ничего не поделаешь. И чем нелепее кажется мне сейчас эта мысль, тем больше жалости я испытываю к себе тогдашнему. Ведь если я всерьез мечтал о таком абсурде, значит, находился в поистине жалком положении.
Я открыл глаза – поезд стоял. Первой мыслью было не «поезд остановился», а «я еду на поезде». И тут же, будто прорвало: Тёдзо здесь, я становлюсь шахтером, у меня нет денег на билет, я сбежал из дома, что же делать…
Все это нахлынуло разом, с такой скоростью, что не подберешь слов – молниеносно, мгновенно. Позже я слышал, что утопающие в последний миг видят перед собой всю свою жизнь, как на ладони. Судя по моему опыту, это не ложь.
Короче говоря, я в мгновение ока осознал свое место и положение в этом мире. И вместе с этим осознанием пришло омерзение. Просто омерзение – другого слова не подобрать. Хотя, пожалуй, это чувство и не описать. Тот, кто испытывал нечто подобное, поймет. А кто не испытывал – тем более счастливчик, ему и знать не надо.
Тем временем несколько пассажиров в вагоне поднялись с мест. Снаружи вошли новые. Кто-то озирался в поисках свободного места, кто-то проверял, ничего ли не забыл, кто-то без причины менял позу, высунувшись в окно или зевая.
Все это слилось воедино, и мир вокруг заколебался. Я видел, как все вокруг приходят в движение, но сам, в отличие от обычных людей, оставался безучастным.
Даже когда чьи-то рукава касались меня, а колени сталкивались, моя душа будто принадлежала призраку, забредшему сюда из другого мира, не имеющему здесь ни корней, ни связей.
До сих пор я как-то держался наравне со всеми, но стоило поезду остановиться, как мир вокруг оживился, а я, наоборот, погрузился в мрак. Мы явно не могли сосуществовать.
Грудь и спина будто сплющились, внутренности сжались в тонкий лист бумаги. Душа провалилась сквозь землю. Невыразимое, унизительное чувство опустошения охватило меня.
Тут подошел Тёдзо:
– Эй, просыпайся. Выходим здесь.
Только тогда я наконец очнулся и встал. Странная штука – даже когда душа уже наполовину ушла под землю, стоит позвать, и она возвращается, пока в жилах течет кровь. Но если зайти чуть дальше, душа уже не так охотно возвращается в тело. Позже, когда я потерпел кораблекрушение у берегов Формозы, она чуть не отказалась от меня навсегда, и мне пришлось несладко.
Всегда есть, куда стремиться выше. Но если решить, что ты достиг предела, и расслабиться, жди беды. Тогда же это ощущение было для меня в новинку и казалось невыносимо горьким опытом.
Выйдя со станции, нюхая запах поношенного хаори Тёдзо, мы очутились на главной улице постоялого городка. Прямая, как стрела, дорога оказалась неожиданно широкой – более того, настолько прямой, что это буквально бросалось в глаза. Остановившись посреди этого просторного тракта, я устремил взгляд к дальнему концу улицы у выезда из городка. И тут меня охватило странное чувство. Поскольку это ощущение тоже было новым в моей жизни, я опишу его здесь заодно.
Едва успев вернуть на место душу, готовую выскользнуть через провалившееся дно в груди, и обретя подобие человеческого разума, я только что осмелился показать лицо в городке. Душа, подчиняясь вдохам и выдохам, едва успела вернуться в тело, но все еще болталась там неустойчиво, без малейшей опоры.
Поэтому – был ли я в этом мире, сошел ли с поезда, вышел ли со станции или стоял теперь посреди улицы – все это происходило словно по инерции, словно душа нехотя выполняла какие-то формальные обязательства. Ничто не воспринималось мною как подлинное, сознательно принятое на себя дело. Я пребывал в тупом, полусознательном состоянии.
И вот, шатаясь, с помутненным сознанием, утративший ко всему интерес, я раскрыл свои потухшие глаза – и прежде ограниченный со всех сторон стенками вагона мир вдруг раздвинулся, устремившись вдоль прямой улицы на добрых десять кварталов. А в конце этого пути, на почтительном, но не заслоняющем вид расстоянии, высилась гора, покрытая зеленью, которая втягивала в себя мои мутные зрачки. Вот тогда-то меня и охватило то самое чувство.
Во-первых, прямая и ровная дорога, как гласит поговорка, дарит ощущение ясности и безмятежности. Говоря проще, она не сбивает взгляд. Будто приглашает: «Иди сюда, не бойся» – не оставляя места сомнениям или колебаниям. Более того, стоило мне принять это приглашение и пойти по прямой, как дорога обещала вести бесконечно.
Странное дело – глазам не хотелось сворачивать в переулки. Чем прямее была дорога, тем невыносимее и неприятнее становилось смотреть куда-либо кроме как прямо. Я твердо уверен, что широкие тракты созданы для свободного движения взгляда.
А по сторонам выстроились дома – с черепичными и соломенными крышами – но разницы между ними не было. Чем дальше, тем ниже становились крыши, пока сотни домов не выстроились в единую линию, будто нанизанные на проволоку, тянущуюся от окраины до того места, где я стоял. Все они аккуратно, под одним углом, уходили вдаль, приближаясь к земле.
Виднелись двухэтажные дома по бокам от меня (кажется, это были гостиницы). Приходилось задирать голову, чтобы увидеть их там на окраине. Кое-где колыхались на ветру занавески, где-то на перегородках были нарисованы большие ракушки – конечно, попадались и такие детали, – но если проследить линию крыш вдаль, то целая миля влетала в глаза за полсекунды. Настолько все было ясно.
Как я уже говорил, моя душа пребывала в состоянии похмелья и везде таскала за собой это мутное состояние. И вот, едва выйдя со станции, я внезапно столкнулся с этой кристальной ясностью – пейзажем, понятным даже слепому. Душа должна была бы изумиться. И она действительно изумилась. Но для того, чтобы переломить инерцию нечеткого, ленивого блуждания и резко перестроиться, требовалось время.
То самое странное чувство, о котором я говорил, возникло в узком промежутке – после того, как душа заметила необычайную ясность пейзажа, но еще не успела перевернуться.
Этот вид был настолько просторным, настолько отчетливым, так непохожим на все, что я испытывал до сих пор, таким бодрящим – но стоило душе по-настоящему обратить на него внимание, как, несмотря на всю ясность и непринужденность, он превращался в обычный факт реального мира. А став фактом, даже самый лучезарный пейзаж терял свою прелесть.
К счастью, из-за особого состояния моей души – способной воспринимать ясность внешнего мира, но не обладающей достаточной остротой, чтобы осознать это как реальность – я видел эту прямую дорогу, эти прямые линии крыш как яркий сон, равный действительности. С той степенью ясности и сопутствующей ей освежающей радостью, которые возможны только в этом мире, я переживал чувство, подобное видению потустороннего.
Я стоял посреди широкой дороги. Она тянулась бесконечно, абсолютно прямая. Если идти, можно дойти до самого конца. Этот городок действительно можно было пройти насквозь. Дома по бокам – их можно было потрогать. На второй этаж – подняться. Я понимал, что все это возможно, но при этом полностью утратил само понятие возможности, стоя там и впитывая лишь непосредственные впечатления своими глазами.
Я не ученый, поэтому не знаю, как называется такое состояние. К сожалению, из-за незнания термина пришлось так расписывать. Люди образованные, возможно, посмеются, но ничего не поделаешь.
Позже я не раз испытывал нечто подобное, но никогда – с такой силой, как тогда. Поэтому я и решил описать это здесь – вдруг кому-то пригодится. Впрочем, это чувство возникло и тут же исчезло.
Солнце уже клонилось к закату. Стояла ранняя летняя пора долгих дней, и по свету можно было судить, что сейчас немногим больше четырех часов, вряд ли еще пять. Погода, возможно из-за близости гор, была не такой хорошей, как ожидалось, но раз светило солнце, нельзя было сказать, что плохая.
Когда я взглянул на солнце, косо освещавшее длинную улицу, мне показалось, что это запад. Выходило, мы ехали из Токио все севернее и севернее, но, сойдя с поезда, я совершенно потерял ориентацию. Если идти прямо по улице, в конце упрешься в гору, которая, судя по направлению, тоже была на севере – значит, мы с Тёдзо по-прежнему двигались на север.
Гора казалась довольно далекой. И отнюдь не низкой. Густо-синего цвета, причем затененные участки казались черноватыми на синем фоне – возможно, из-за того, что свет падал сбоку. Хотя, скорее, это было связано с обилием криптомерий и кипарисов. Так или иначе, гора выглядела густо поросшей.
Переведя взгляд с клонящегося к закату солнца на эту зеленую гору, я задумался: одинокая ли это вершина или начало цепи, уходящей вдаль? Шагая рядом с Тёдзо по направлению к горам, я мог представить только бесконечные хребты, уходящие все дальше и дальше на север.
Хотя, возможно, это ощущение возникало потому, что, сколько бы мы ни шли к горам, их подножие никак не приближалось, и казалось, будто те отступают вглубь. Или потому, что по мере того, как солнце опускалось, поверхность гор и нижний слой синего неба, забыв о своих границах, начали вторгаться в чужие владения, и мои глаза уже не могли четко разграничить, где кончается гора и начинается небо.
Переводя взгляд с гор на небо, я терял ощущение, что оставил горы позади, и продолжал видеть в небе их продолжение. А небо было огромным. И бесконечно тянулось на север. А мы с Тёдзо как раз шли на север.
Вчера вечером я покинул Токио, дошел до большого моста в Сэндзю, так и не расправив полы своего хаори – ни в сосновой роще, ни в чайной лавке, ни в поезде – все время оставался в своих гэта на босу ногу. И даже при этом мне было жарко. Но в этом городке босые ноги почему-то замерзали. Вернее, не то чтобы замерзали – скорее, было одиноко. Молча шагая рядом с Тёдзо, я словно пробирался сквозь осень.
И тут я снова проголодался. Постоянно писать о том, как мне хотелось есть, – дело сомнительное, да и сейчас голод кажется совсем не поэтичным, но ничего не поделаешь. На самом деле я проголодался. С тех пор как покинул дом, я только и делал, что ходил, не съев ни крошки человеческой пищи – конечно, я моментально проголодался.
Каким бы скверным ни было самочувствие, какие бы мучения ни терзали, как бы ни норовила сбежать душа – желудок требовал своего. Нет, пожалуй, правильнее сказать, что для успокоения души требовалось подношение в виде еды.
Пробираясь с Тёдзо по середине улицы, я по сторонам высматривал закусочные, пока мы шли через длинный городок. И таких заведений здесь оказалось немало. Гостиницы и рестораны нам, конечно, не подходили, но харчевни, куда мы с Тёдзо могли бы зайти, попадались то тут, то там. Однако Тёдзо и не думал останавливаться.
Он даже не спросил, как тогда с извозчиком: «Эй, поужинаем?». Хотя при этом сам явно высматривал что-то по сторонам. Я был уверен, что вот-вот он найдет подходящее место и пригласит меня поужинать, и терпеливо шагал все дальше на север по длинной улице.
Признаюсь, я проголодался, но не настолько, чтобы падать в обморок. В желудке еще оставалось немного съеденных ранее булочек. Поэтому я мог идти. Просто, едва сойдя с поезда, мой почти угасший дух, выброшенный на середину прямой улицы, вдруг встрепенулся – и горный воздух, прохладный в лучах заката, коснулся кожи, вызвав резкую перемену в настроении, и мне захотелось чего-нибудь съесть.
В принципе, можно было бы и обойтись без еды. Я не был настолько голоден, чтобы просить: «Тёдзо, дай мне что-нибудь поесть». Но, видимо, во рту было пусто, и мое внимание то и дело привлекали соломенные занавески, тушеные блюда и закусочные.
А Тёдзо, словно сговорившись, тоже заглядывал то направо, то налево, отчего мой аппетит разгорался еще сильнее. Пока мы шли через длинный городок, я насчитал целых девять забегаловок, подходящих для таких, как мы.
Дойдя до девятой, я увидел, что даже этот протяженный городок наконец подходит к концу, и еще квартал – мы окажемся на выезде. Стало не по себе. Вдруг я взглянул направо и увидел вывеску «Сакэ-мэси». И в душе возникло чувство: это последний шанс.
Возможно, поэтому слова «Сакэ-мэси» и «Закуски», грубо написанные на закопченной перегородке, произвели на мой мозг самое сильное впечатление. Эти иероглифы до сих пор не стерлись в памяти. И «сакэ», и «мэси», и «закуски» – все видно как наяву. Даже если я впаду в маразм, эти пять иероглифов смогу воспроизвести на бумаге один в один.
Пока я вглядывался в последнюю вывеску «Сакэ-мэси», странное дело – Тёдзо тоже уставился на перегородку заведения. «Ну на этот раз даже крепкий Тёдзо не устоит перед едой», – подумал я. Однако он не вошел. Вместо этого резко остановился.
За перегородкой мельтешило что-то красное. Взглянув на лицо Тёдзо, я понял – он пристально следит за этим красным пятном. Конечно, это был человек. Но почему Тёдзо остановился и уставился на этого красного человека – для меня оставалось загадкой.
Человек – несомненно, но в полумраке виднелось лишь смутное красное пятно, и разглядеть лицо было невозможно. Озадаченный, я тоже замер на месте – и тут из-за перегородки выскочило красное одеяло. Кто-то скажет: «Какое одеяло в мае, даже в горной глуши?». Но этот парень действительно укутался в красное одеяло. Правда, под ним оказалась лишь одна домотканая рубаха – так что в итоге разницы между нами почти не было. Впрочем, рубаху я заметил уже потом – когда он выскочил из-за перегородки, то был просто красным пятном.
Тёдзо вдруг шагнул к красному парню и спросил:
– Эй, работать хочешь?
Тот же самый вопрос он задал и мне при нашей первой встрече. «Опять вербует», – подумал я, с интересом наблюдая за ними. Тогда я окончательно понял: Тёдзо – тот самый тип, который, завидев подходящего молодца, неизменно спрашивает: «Работать хочешь?». То есть его ремесло – вербовка рабочих, и меня он вовсе не считал каким-то особенным кандидатом в шахтеры.
Наверное, с кем бы и где бы он ни сталкивался – методично повторял эту фразу, словно штампуя ее. Удивительно, как этот человек не устал за долгие годы такого ремесла. Вряд ли Тёдзо от природы был создан для вопрошаний «Работать хочешь?». Наверное, какие-то обстоятельства вынудили его отчеканивать эту фразу. Если так, то он совершенно безобиден. Просто у него нет других талантов – но он и не мучается этим, а с невозмутимым видом делает свое дело, будто уверен: «Никто не справится лучше меня».
Будь у меня тогда такое понимание личности Тёдзо, возможно, все показалось бы куда забавнее. Но моя душа едва не выскользнула из тела, и до подобных размышлений мне было далеко. Это понимание пришло лишь сейчас, когда я, словно посторонний наблюдатель, переношу на бумагу воспоминания юности. Оно, вероятно, так и останется лишь на бумаге. И все же, сравнивая с тогдашним восприятием Тёдзо, вижу немалую разницу.
Слушая разговор Тёдзо с Красным одеялом, я осознал: Тёдзо не видел во мне ни капли личности. Хотя «личность» – тут не совсем уместное слово. В конце концов, беглец из Токио, опустившийся до шахтера – какая уж тут «личность»? Я и сам понимаю абсурдность. Даже сейчас, написав это слово, я едва не рассмеялся от его нелепости.
Нынешнее положение, когда воспоминания вызывают смех, – куда лучше прежнего. Но тогда было не до смеха. Тёдзо действительно не видел во мне личности.
И вот он ловит этого молодца из-за вывески «Сакэ-мэси» и уговаривает того стать шахтером – тем же тоном, с той же манерой, теми же словами, даже с той же степенью рвения, что и меня. Почему-то это показалось мне возмутительным.
Если объяснять суть возмущения, выйдет примерно так: даже тогда, с моими скромными познаниями, я не мог считать шахтерское ремесло «прекрасным занятием», как утверждал Тёдзо. По шкале престижа шахтер стоял где-то между лошадью и коровой – положение незавидное. Я это понимал. Поэтому вроде бы не должно было беспокоить, что кроме меня кандидатов оказалось больше – вот хоть этот тип в красном одеяле.
Но способ обращения с ним был идентичен – и это задело. Вернее, я почувствовал себя наравне с Красным одеялом. Идентичность обращения наводила на странный вывод: значит, и объекты идентичны. Видимо, я невольно пришел к этому.
Тёдзо вел переговоры с Красным одеялом – но тот был мной. Казалось, не кто-то другой стоит там, завернутый в одеяло, а моя душа, покинув тело, вселилась в него – и теперь Тёдзо уговаривает этого паренька стать шахтером. Становилось жутко.
Когда я сам говорил с Тёдзо, мне было не до «личности». Но теперь, наблюдая со стороны, как меня-Красное-одеяло уговаривают: «Эй, заработаешь кучу денег!» – я потерял опору. «Неужели я такой?» – с охладевшим интересом разглядывал я Красное одеяло.
И вот странность: тот отвечал так же, как и я. Причем не только внешне – внутри этот парень был моей копией. «Как же это убого», – подумал я.
А потом случилось нечто еще более убогое: Тёдзо, к моему раздражению, оставался беспристрастным, не показывая, что я больше подхожу для шахтерского дела, чем Красное одеяло. Он действовал, как механизм. «Я первый, мог бы и предпочесть меня», – подумалось мне.
Выходит, человеческое тщеславие неистребимо. Даже в отчаянной ситуации, на грани становления шахтером, я сохранял его. Наверное, у воров есть своя честь, у нищих – свои манеры, все того же порядка.
Но это тщеславие, осознание «я – Красное одеяло», приносило куда больше горечи, чем само по себе унижение.
Пока я пребывал в этом унынии, переговоры неожиданно завершились. Не потому что Тёдзо так уж искусен – просто Красное одеяло оказался глуповатым.
Называя его так, я вовсе не презираю этого человека – ведь тогда и я был таким же глупцом, покорно слушая Тёдзо и соглашаясь стать шахтером. Разница между нами – лишь в том, что он был укутан в красное одеяло, а я – в полосатое кимоно.
Так что «глупец» – скорее, «несчастный», с оттенком сочувствия.
И вот два глупца отправились вслед за Тёдзо на медные рудники. Когда я пошел рядом с Красным одеялом, то заметил, что прежнее уныние уже рассеялось. Человеческое восприятие – удивительно изменчиво. Только успокоишься – оно уже исчезло. Решишь, что исчезло – а вот оно снова здесь. Его природу не постичь.
Позже, томясь на горячих источниках, я читал всякую чепуху, и среди прочего наткнулся на фразу: «Ум непостижим в трех мирах». «Три мира» – конечно, преувеличение, но «непостижим» – как раз об этом. Правда, один человек, услышав такое, возразил: «Нет, это о мыслях, а не об уме». Я промолчал – пусть каждый верит во что хочет.
К чему это я? Просто многие умники совершенно не понимают человеческой души. Они считают ее чем-то твердым – «если моль не съест, то и в этом году будет как в прошлом». И с таким простодушием берутся воспитывать, переделывать людей по своему усмотрению. Вода течет – и не вернется. Застоится – испарится.
Главное запомнить: когда я зашагал рядом с Красным одеялом, прежние унылые мысли испарились.
И тут я сам удивился – идти с Красным одеялом стало приятно. Парень был из деревеньки в префектуре Ибараки или откуда-то еще, говорил с противным носовым выговором. Что он называл «батат» «батетом» – история для последующих глав, но с первых шагов его голос резал слух.
К тому же лицо у него было неказистое. Рядом с ним даже Тёдзо с угловатой челюстью и толстыми губами казался внушительным. Более того, он никогда не бывал в Токио, только шатался по деревням в Ибараки. Да и красное одеяло отвратительно пахло.
И все же в этой глуши я радовался, будто обрел союзника по дороге на рудники. Я ведь все равно был обречен – но лучше падать вдвоем, чем в одиночестве. Говорить так – невежливо, но правда в том, что, хотя мне в нем не нравилось ничего, сама возможность падать вместе казалась благом.
Поэтому, едва мы тронулись в путь, я уже заговорил с ним, будто мы старые друзья. Видимо, тонущий тащит за собой и лодочника. Окажись я в аду – выбрал бы тот, где есть демоны.
Так я внезапно проникся симпатией к Красному одеялу. Пройдя пару кварталов, я снова почувствовал голод. Часто упоминаю голод, но это продолжение прежнего, а не новый приступ.
Сначала, в состоянии душевной опустошенности, я вышел из поезда. Затем, увидев прямую улицу, уходящую к горам, постепенно пришел в себя. Это пробудило аппетит. Потом я осознал, что Тёдзо не видит во мне личности – и впал в уныние. Но тут появился собрат по шахтерскому ремеслу – и настроение немного улучшилось. А теперь голод вернулся.
Но последняя забегаловка осталась позади. Городок заканчивался. Впереди – темная горная тропа. Надежды не было. К тому же Красное одеяло, недавно поев, бодро шагал вперед. Я сдался.
Решившись на последнее, я обратился к Тёдзо:
– Тёдзо, мы будем переходить через ту гору?
– Эту ближнюю? Да там ад! Нет, свернем налево.
И он зашагал быстрее. Делать нечего.
– Еще далеко? Я немного проголодался…
Наконец-то я признался в своем голоде. Тёдзо ответил:
– Таак? Ну что ж, поедим батата.
И тут же юркнул в лавку слева. Удивительно, но там действительно оказалась бататная лавка! Преувеличивая, назову это божьей милостью.
Вспоминая, как удачно все сложилось, я не только смеюсь – но и радуюсь. Конечно, это была не токийская лавка. Невозможно описать, насколько она была закопченной. Хотя батат там был, но не только он. Что еще они продавали – забыл. Наверное, слишком увлекся едой.
