Дубль Два
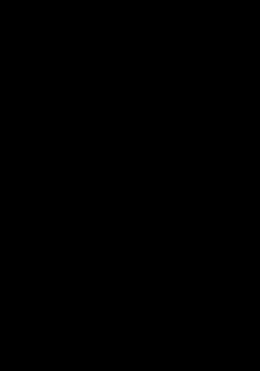
Глава 1. Начало конца
Её звали Катя. Я знал её восемь лет. Из них три мы прожили вместе.
Наверняка, таких историй – вагон и маленькая тележка. Хотя, скорее, большая. Слишком уж типично и по-современному всё вышло.
Мы вместе учились, на последнем курсе сыграли свадьбу. Дальше – как в хорошем кино: сделали ремонт в квартире, что досталась мне от бабушки. Нашли работы по душе. На выходные катались к моим родителям, которые всё лето жили в деревне. Завели собаку.
Она первой и ушла. Добрую и весёлую спаниельку кто-то накормил булавками, засунутыми в кусок мяса. При том, что она сроду никогда ничего у чужих не брала. Умирала долго и нехорошо. Понимая, что сделать уже ничего не возможно, я согласился с предложением врача прекратить мучить бедную собаку. Закопал под берёзкой на высоком берегу канала имени Москвы. И час потом не мог за руль сесть: перед глазами всё плыло, и как вернуться к Кате без Чапы – даже представить себе не мог.
Через выходные стояли с отцом на крыльце деревенского дома, которое как раз по весне подновили. В тот год батя больше советовал, чем помогал. Я у них с мамой появился поздно и к тому, что отец гораздо взрослее всей родни моих одноклассников и одногруппников давно привык.
– Как с Катей у вас? – неожиданно спросил он, глядя на яблоню возле сарая. Год должен был быть урожайным – завязей было очень много.
– Нормально, – ответил я, – дружно.
Они с мамой всегда говорили, что в семье надо дружить.
– Она шустрая у тебя, толковая. Держись за неё, – проговорил отец.
– Держусь, – я кивнул. Они с мамой всегда говорили, что старших надо слушать и уважать.
– Но если что-то случится – спину держи. Ничего не бойся. Зубы сжал – и вперёд, – вдруг сказал батя твёрдо, как-то по-особенному. Я ещё, помню, удивился тогда. Но слова запомнил.
Он ушёл через две недели. Инсульт, кома, паралич. В больнице сделали всё, что могли. Нейрохирург из Москвы, привезённый мной, осмотрел, изучил документы, снимки, записи. И сказал:
– Неделя максимум. Держись! – а я впервые вспомнил про «держи спину». Выпрямился и стал держаться.
Я держался, катаясь между кладбищами и ритуальными фирмами, где работали настолько непробиваемо-спокойные люди, что я диву давался. Потом решил, что у них просто на тех местах, где у нормальных, обычных, находятся чувства, набита рабочая мозоль, твёрдая, как конское копыто.
Я держался, когда на одной руке висела мать, а на другой – Катя. Обе рыдали. А я держался. Только когда молоток в первый раз треснул, будто выстрел, забивая гвоздь в крышку гроба – вздрогнул. На остальные удары уже не реагировал.
Я держался, когда на поминках говорили много хороших слов. И когда Катин дядя, врач-травматолог, гудел мне в ухо, что нужно скорее детишек заводить. Что жизнь не останавливается никогда, потому что она – и есть движение. Дядька тот умер через месяц. Инфаркт разбил прямо за рулём, машину вынесло на встречку и загнало под фуру так, что вынимали его пять с половиной часов.
Я держался, когда через три недели после этих похорон с закрытым гробом меня с радостной улыбкой, как постоянного клиента, встретил менеджер ритуальной фирмы: «О, а Вы снова к нам?». Да, я снова к вам. Мама ушла тихо, во сне. Соседка всё рыдала в платок, пока слесарь из ЖЭКа при участковом вынимал замок. А я держался. Ключ в замке с той стороны был повёрнут на девяносто градусов – мама боялась жуликов. Открыть дверь своим ключом я не мог.
Сидя на том самом крыльце, что подновили весной, глядя на те же самые яблоки, что наливались красными крапинами на ветвях, я думал, как же так могло получиться? Ну и пил, конечно. Катя в деревню не поехала. Сказала – тебе надо побыть одному. А у меня никак не получалось – я всё видел вокруг отца и маму. Молодых. Живых.
Дом в деревне продали за какие-то невнятные деньги – Катя нашла риелтора. Квартиры, и нашу, и родительскую, продали значительно выгоднее – центр, жилой фонд хоть и старый, но спрос на него был всегда. Тот же риелтор так и сказал. А мы погрузили в багажник всё, что сочли нужным, остальное, что было жалко оставлять, отправили специально нанятой ГАЗелью. И вечером уже расставляли мебель в новой квартире, в одном из спальных районов очень ближнего Подмосковья – МКАД было видно из окна. Если бы у меня были друзья или другая родня – наверное, сказали бы, что это абсолютная глупость. Хотя, скорее даже не наверное, а наверняка. Отговорили бы. Остановили. Но ни другой родни, ни близких друзей у меня не было. Я с детства был не самым общительным ребёнком, больше любил книги и игры на компе. И в походы с батей ходить, пока он ещё выбирался.
Я устроился торговать стройматериалами на рынке – на маршрутке туда было всего минут сорок ехать, если без пробок. Катя нашла работу в креативном агентстве. Мы, как бы странно это ни звучало, стали редко видеться, хотя и жили в одной квартире. Я уходил раньше, оставив ей завтрак на столе. Денег, как она говорила, всегда ни на что не хватало, поэтому я не отказывался от предложений кому-нибудь что-нибудь погрузить, распилить, подогнать или покрасить. А ночами делал заказы на сайте для копирайтеров. Всё копейка в дом, как мама говорила. И держался.
Продолжал держаться, когда Катя купила в кредит красивый, хоть и немного подержанный, спортивный автомобиль. Продолжал, когда через неделю он встал прямо посреди Садового кольца. Когда узнал, сколько будет стоить замена или ремонт автоматической коробки переключения передач – тоже держался. И когда Катя в первый раз не пришла ночевать и не отвечала на звонки – тоже. Выяснил, что похожих по приметам девушек не было ни в приёмных покоях, ни в моргах. И решил просто подождать. И держался.
Утром Катя пришла и сказала, что очень устала от этого всего. Что я никак не занимаюсь ростом и развитием. Что мне плевать на деньги и красивые вещи, «а здесь без этого никак!». Что у нас почти не осталось ничего общего, кроме фамилии.
– У тебя кто-то есть? – мне самому было противно от того, как по-киношному, по-мыльно-сериальному это прозвучало.
– Скорее да, чем нет! – ответила Катя.
И я отпустился. Перестал держаться. Мне было больше не за что. И незачем.
Мои вещи поместились в багажник старого Форда Галактики. Да, семейная машина у меня появилась раньше, чем семья. И продержалась дольше. Он был вдвое моложе меня, но выглядели мы, наверное, похоже. Оба были готовы грузить и везти что угодно куда угодно, не задаваясь вопросами вроде «кому и зачем это надо?». Может, и не особо красивые, но функциональные. Удобные.
Катя, наверное, рассчитывала на какой-то другой вариант развития событий. В котором я не выхожу за дверь с одним чёрным мешком, потом возвращаюсь за вторым, и, наконец, в три приёма выношу свои «дурацкие книжки», перевязанные шпагатом. Повесив на вешалку свои ключи. Кажется, даже плакала и что-то говорила. Просто тогда уже некому было слушать.
Летом хорошо. Летом можно жить в машине. Главное – не на одном и том же месте, чтобы не смущать бдительных граждан. Я начал ходить в бассейн. Потому что там был душ. Пару раз ночевал в подсобке на работе, хозяин точки дал мне ключи, наговорив разного про подлых баб. Продажи шли не очень – собеседник из меня был откровенно слабый. Да и человеком я, судя по взглядам окружающих, был таким же. Сам на себя в зеркало старался не смотреть – было страшно, что увижу ровно такое же сочувственное выражение лица.
Выходные проводил на кладбище. Приезжал, садился на скамеечку, что поставил сразу, как только осела земля на второй могиле. И держал спину.
От Кати пришло сообщение, что нужно приехать в ЗАГС и где-то расписаться. Она вышла из какой-то другой машины, новее. Я приехал на автобусе – Форд стоял на сервисе, где мне в очередной раз пытались объяснить значение постулата: «кроилово ведёт к попадалову».
– Ты же оставишь мне фамилию? Я сейчас на новую должность выхожу, прошла безопасников, а с новыми документами всё придётся сначала начинать, – она заглядывала мне в глаза так, будто спрашивала, с чем я буду пельмени – с кетчупом или майонезом. Да, на заре наших отношений мы были менее избирательны в еде.
– Хорошо, – странный голос. Странное и совершенно не к месту слово. Вся ситуация странная.
– И тут нотариус рядом – зайдем сперва, подпишешь же документы на твою долю в квартире? Ну, или я смогу выкупить, – наверное, она как-то не так расценила моё молчанием. На лице появились холодность, решимость и превосходство.
– Пошли, – сказал я, глядя ей куда-то над левым плечом. Это так воздух странно себя вёл, словно марево над горячим асфальтом? Или с глазами что-то?
С нотариусом, прожжённым носатым и лысоватым дядькой в синем свитере и жилетке поверх, она шутила и смеялась, обсудив погоду, политику, современные нравы и то, что жизнь в любом случае продолжается. Я сказал «Здравствуйте», когда зашёл. Вышел молча. В ЗАГСе было ровно то же самое.
На улице я смотрел на бумагу странного серо-голубого цвета с какими-то траурно-синими квадратами по углам, в котором было написано, что мы с моей Катей теперь чужие друг другу люди. Хотя, наверное, не теперь. Просто раньше надо было думать. А я всё спину держал.
– Ну всё, пока, Ярик! Счастливо тебе! Звони, если что, – она резко развернулась, так, что длинные тёмные волосы едва не мазнули мне по груди. Запах какой-то новый. Раньше Кензо пахла. Белыми.
Машина вылетела с парковки, как будто навстречу новому счастью, что совершенно точно ждало где-то, уже поглядывая на часы. Катя смеялась, держа телефон возле уха. Мне пришло сообщение от сервиса, что можно забирать Форда.
С ним мы приехали на строительный рынок.
– Заур, я не смогу завтра на работу выйти, – сказал я хозяину.
– Э-э-э, Ярик, совсем мало наработал за месяц, нельзя так! Ну давай, послезавтра приходи, так и быть, – ответил он быстро и шумно, как всегда, поднимая голову от стола, заваленного бумагами, образцами продукции и чёрт знает чем ещё.
– Нет, Заур, послезавтра тоже не получится. Уезжаю я. Домой. Сможешь мне сколько-нибудь за отработанные смены дать?
– Домой? Дом – это хорошо, это правильно! Дома стены помогают, так, вроде, вы говорите? У нас говорят, что иногда сосед бывает ближе, чем родня. Держи, дорогой. Пусть всё хорошо у тебя будет дальше! – и он сунул мне в нагрудный карман две оранжевых бумажки с видами Хабаровска и две сине-зелёные, с Ярославлями. И затряс руку, провожая из его хозяйского закутка. Двенадцать тысяч за две недели было мало, конечно. Для графа де ля Фер. Для Атоса – даже лишку. Мне – в самый раз, наверное.
В бардачке Форда, выкидывая всякие платочки, резиночки, заколочки и прочую расстраивающую до дрожи память, нашёл на самом дне два ключа: большой и маленький. Тот, что поменьше – от навесного замка, а побольше – от врезного. Гараж стоял в ряду точно таких же, на Внуковской улице. Мне нужно было доехать до кладбища на Красной Горке, положить цветы, переехать по мосту канал имени Москвы, свернуть на Пушкинской налево. Наши ворота были четвёртыми от конца. За лентой гаражей начиналось Внуковское кладбище.
Ехал молча и в тишине. Нервы в последнее время вовсе плохо работали. Или хорошо, но так, будто были не внутри, как природой задумано, а снаружи. И цеплялись за всё: за песни, которые когда-то в других условиях звучали точно так же, но воспринимались гораздо приятнее, не перехватывая дыхания. За машины, похожие на ту, в которой уехала Катя, глядя на которые сердце почему-то поднималось к горлу и колотилось там. За кафе, в которых обедали. За заправки, на которых заливались бензином перед совместной поездкой.
На кладбище выбросил старые цветы и положил новые. Посидел недолго.
Гараж открывал, наверное, целый час. Я не был тут года три, наверное, с самой свадьбы. И Катя про него не вспомнила. Зато прислала сообщение, что заплатила вместо меня госпошлину за развод, но, так и быть, прощает мне невнимательность. Я прочитал, вздохнул, подышал носом поглубже, чтоб сердце перестало прыгать под кадыком, и продолжил заливать замок ВэДэ-шкой. Обтерев ключ от густой ржавчины о ветошь, что достал из кармана на водительской двери, открыл-таки ворота. Где-то на треть. В нос прилетел воздух трёхлетней давности, когда всё ещё было хорошо. Он был холодным, пах пылью и песком. И масляной краской. И плесенью, потому что потолок явно подтекал – по стенам тоже было заметно. А ворота открылись не на полную потому, что упёрлись в песок и траву, что наросла перед ними за это время. Нашел справа, под выключателем, который не работал, совковую лопату и убрал лишний грунт и зелёные насаждения.
Форд в гараж помещался будто бы с трудом, впритирку и то, если сложить одно зеркало. Раньше гаражи делали под другие автомобили, менее габаритные, но более народные. Вперёд я подъехал до лёгкого касания стены номерной рамкой. Вышел, закрыл ворота на здоровенные шпингалеты, дверь – на засов. Сел в машину. Открыл крышку на бутылке, глотнул. Специально взял такую, чтоб не было рассекателя – надолго растягивать удовольствие не было никакого смысла. Хотя, удовольствия тоже никакого не было. Глотнул ещё. Откинул спинку сидения, вытянул ноги. И задремал. Двигатель не глушил.
Утро было недобрым по всем критериям. Болела голова. Хотелось пить и наоборот. Очень. А самым поганым показалось то, что оно в принципе настало. Изначально мысль была другой, конечно. Я вышел, шатаясь, за ворота и обошёл гаражный блок. Там меня два раза вырвало и удалось решить вопрос с «наоборот». Пить хотелось по-прежнему, и голова раскалывалась так, что даже глаза слезились, хотя по небу ползли низкие сероватые облака, заслоняя от меня Солнце. Или меня – от него.
Форд признаков жизни не подавал. Никаких. Ни лампочки, ни стрелочки, ничего не горело и не издавало звуков. Ну, хоть кто-то…
Я закрыл гараж, поправив за плечом потёртый, видавший виды рюкзачишко. Добрался, щурясь и покачиваясь, до Игнатовки – идти было минут пятнадцать. Но сперва дошёл до «Магнита», где взял воды, сигарет и ещё бутылку. Судя по всему, мой внешний вид и продуктовая корзина продавщицу не удивили. Но и ничего позитивного в ней не пробудили. Что логично, в принципе.
«Пятьдесят третий» от автоколонны 1784 подошёл минут через сорок. И без того поганый день наполнился ароматом солярки, горелой проводки, дерьмового табака, кислого пота и куриного помёта. Странно как – всего час от Москвы, а такой контраст. До села Вороново ехать всего минут двадцать, а я словно весь пропитался этим сельским колоритом.
Наш дом был от остановки третий, через один от церкви. Мама часто туда ходила последнее время. Отец не жаловал. Я вообще не бывал ни разу. Перед нашим домом стоял чужой забор. За ним – чужая машина, большая, чёрная. А за ней – чужой дом на месте нашего. Тоже большой, со стеклопакетами, обшитый каким-то камнем, под крышей из синего металлопрофиля. На месте яблони, на которой красными крапинами полыхали яблочки при нашей последней встрече, не было даже пня.
Я развернулся, вышел к дороге и пошёл по обочине. Обгонявшие машины, особенно грузовые, обдавали жаром, пылью и выхлопным угаром. Я шёл не торопясь. Мне было некуда торопиться. Направо показался поворот на садовое товарищество «Соколово». С тамошними «соколами» часто бодались наши «во́роны», когда встречались на автобусной остановке. Сейчас об этом смешно и странно вспоминать, но тогда синий железный павильон с буквой «А» в кружке был центром Вселенной: там решались жизненно важные вопросы, создавались и распадались союзы, военные и гражданские. Оттуда же отправлялись торговые и дипломатические караваны на вечеринки в клуб. Якоть, село с древней историей, тогда было известно нам только своим клубом. И драками вокруг него, конечно. В одной из них погиб мой друг Саня. Подумалось о том, что у него, на Будённовском кладбище, я тоже давно не был. В прошлом году, на день рождения, в апреле, ещё заезжал. А в этом – нет.
Километрах в трёх после «Соколова», там, где под дорожным полотном в трубе текла-булькала ещё узкая в этих местах речка Якоть, свернул в лес. Лет семьдесят назад ниже по течению на реке сделали плотину, отрыли кучу прудов и заселили их рыбой. До сих пор тут можно было поймать сига, осетра, форель, не говоря уже обо всяких карпах-сазанах. Мы с детства любили наблюдать за азартными охотниками за щуками и белым амуром, и за обстоятельными карпятниками. Хорошее было время. Давно это было.
Про эти края всегда ходила дурная слава. И машины в этом месте бились каждый год, и грибники-ягодники терялись регулярно. Была история про сотню заключённых, которых утопили в кусковском болоте, откуда брала начало речка. Говорили и о княжне, не то Орловой, не то Беклемишевой, что удавилась где-то тут от несчастной любви.
Я шёл вдоль речушки через перелесочек и заболоченное поле, стараясь далеко от воды не отходить. Но поле всё сильнее проминалось и ходило ходуном под ногами – пришлось принять левее, к густому лесу. Под ветками налетело лютое звонкое комарьё. Сломав веточку, начал было отгонять кровопийц. Но вскоре передумал. Всю кровь не выпьют, а и выпьют – мне не жалко.
Через минут десять понял, что машин с дороги уже почти не слышно, а следов и тропинок в этом лесу сроду не было – местные сюда не ходили и неместных тоже не пускали. Впереди, если я правильно помнил карту, должна была скоро показаться какая-то просека. Но не доходя до неё, увидел, как ёлки разошлись в стороны и образовали странную полянку, размером с большую комнату в нашей квартире… в Катиной квартире… с два гаража, в общем. С одной стороны, откуда я вышел, торчал из-под земли серовато-зелёный каменюка метра два в диаметре. На самой середине грелась змея. Гадюка.
Я сел рядом. Змея посмотрела на меня непонятно – я не знаток змеиной мимики. И уползла с камня, словно решив, что мне погреться нужнее. Или что я тут не надолго. Я закурил и достал бутылку, осматривая окрестные деревья. То, что слева, показалось мне вполне подходящим. И ветка торчала в мою сторону крепкая такая, внушительная. Хорошо, что полянка нашлась – обычно крепкие большие ветви у сосен в лесу высоко начинаются.
Голова проходить и не думала, продолжая болеть так, что казалось, будто беспрерывный комариный писк звучит не снаружи, а изнутри, на одной ноте, изматывающе. Хотя, может, так и было. В глазах плыло. Потянувшись за бутылкой, уронил её на камень, но разбиться она почему-то не успела – подхватил. Просто немного пролилось. Ну, ничего страшного. Мне не жалко.
Из рюкзака достал трос, вынутый утром из багажника мёртвого Форда. Там как раз крюки удобные на концах, тяжёленькие, кидать сподручно должно быть. А вон на тот пригорочек я встану. Там вниз уклон, под той самой нужной веткой и начинается. Почти метр, должно хватить. Так, это продеваем сюда. Тут перехлестнём. Осталось придумать, как на ветке закрепить свободный конец.
Я с задумчивым видом осматривал оранжево-желтую с зелёными пятнами ветвь сосны над головой. Сзади, от камня, вдруг раздался глуховатый старческий голос:
– Бог в помощь!
Глава 2. Странное знакомство
– Спасибо, – с трудом выговорил я, обернувшись.
Будь я в лучшей форме – наверняка подумал бы о том, что эту самую фразу, произнесенную этим же самым хрипловатым голосом, уже где-то слышал. Там и ситуация, вроде бы, сходная была. Только людей среди участников не было. Как и лучшей формы у меня сейчас.
На камне сидел усатый дед с сивой щетиной на тяжёлом подбородке. На ногах у него были вытертые до серой ткани стоптанные кирзовые сапоги с заправленными в них синими брюками. Тоже очень не новыми. На плечах висела застиранная куртка от старого камуфляжа – «Флора», ещё не «Цифра». На голове – фуражка с треснутым в двух местах козырьком и зелёной лентой околыша. Пограничник, наверное. Хотя я в армии не служил, а знания черпал в основном из книжек. И преимущественно – бесполезные.
– Я бы узел другой вязал, – продолжал неожиданный дед, скрутив самокрутку и прервавшись после слова «узел», чтобы лизнуть край газетного листка.
А я вдруг понял, кого он мне напоминал этой фуражкой. Дядю Митю из кино «Любовь и голуби».
– Почему? – озадачился вопросом болевший всё сильнее мозг.
– Узел-то? Так этим ты либо кожу прищемишь, либо об крюк трахею порвёшь. И будешь долго тут плясать, под веткой-то. Надо сзаду узел вязать, скользящий, чтоб позвонки сразу – хрусть! А то что это за дело – висишь себе, а тебе через дырку в шее воздух под верёвкой всё равно проходит? И кровь ещё туда зальётся наверняка. Утопиться и попроще можно, – прерываясь на глубокие затяжки, пояснил он.
– Или, может, ты из этих? – подозрительно глянул он на меня из-под седых бровей, сошедшихся у переносицы.
– Из каких? – на всякий случай уточнил я.
– Ну, из тех, которым чем хуже – тем лучше. Или тех, что специально ищут, как бы себе побольнее сделать.
Я задумался всерьёз. Повспоминал. И ответил уверенно:
– Нет. Не из таких.
– Это хорошо, – похвалил дед. – А то кого только не увидишь нынче. Странные дела в мире творятся.
– Странные, – кивнул я. Посмотрел ещё раз на ветку, но решил, что продолжать было бы невежливым по отношению к собеседнику. И предложил, кивнув на бутылку:
– Угощайтесь, пожалуйста.
Старик изогнул бровь, глянул на посуду. Полез за пазуху, достал и расстелил на камне газету. Вынул два варёных, вроде бы, яйца. И спичечный коробок, хотя прикуривал от зажигалки. Если я ещё хоть что-то понимал – в коробке́ должна была обнаружиться соль. С другой стороны он вытянул завёрнутые в чистую тряпицу два куска ржаного хлеба. У меня внутри что-то булькнуло вопросительно.
– Подходи давай, гость нежданный. В одиночку пить – примета плохая, – дед похлопал рукой по камню напротив себя. Мне показалось, что камень вздрогнул, будто вздохнул. Я тоже вздохнул. Примета и вправду была – так себе.
– Как звать-то тебя, альпинист… промышленный? – казалось, он нарочно пропустил какое-то важное связующее слово во фразе. А сам тем временем осторожно очищал с одного, тупого конца, яичко, оказавшееся сырым.
– Ярик, – ответил я, не сводя глаз с его толстых пальцев, ловко управлявшихся и со скорлупой, и с самым сложным – тоненькой плёночкой под ней.
– Ярослав, выходит? – уточнил старик, не сводя глаз с яйца, которое посыпал крупной солью из коробка. Я кивнул.
– Странно. Не похож, – заключил он, вручив мне в правую руку бутылку, а в левую – яйцо.
Я глотнул и тут же запил-закусил одновременно. Водка была тёплая, а белок и желток – прохладные, солёные и какие-то поразительно вкусные. Или это из-за того, что я до этого ел позавчера?
– А Вас как зовут? – спросил я старика, чувствуя, как проходит голова и перестают чесаться комариные укусы. Это чьим яичком он меня угостил, Жар-Птицыным?
– А нас зови Алексеичем, – разрешил дед и приложил горлышко к усам, сразу ополовинив оставшееся. – Только на «Вы» не надо. Один я тут.
Он занюхал горбушкой чёрного, протянув второй кусок мне. Я принял, кивнув с благодарностью. Показалось, что последние слова странный старик произнёс с какой-то старой грустью.
– А почему я не похож на моё имя? – заинтересовался я. И сам удивился этому забытому чувству. Простого живого интереса и вправду давно не испытывал.
– Ярослав – два корня: «ярый» и «слава». Слава о тебе была бы дрянная, залезь ты на сосну-то. А яри в тебе ни вот столечко нету, – он показал маленькую щепотку соли, прежде чем засыпать её во второе яйцо, очищенное точно так же, как и первое.
– А Вы… А ты, Алексеич, откуда знаешь? – дед как раз снова снабдил меня всем необходимым, заняв мне обе руки. Дождался, когда я продышусь, и ответил:
– А чего там знать-то? Я ж леший. Ты только с дороги свернул ко мне – я всё и понял!
Я уставился на старика с опасливым недоверием. Странно. Вроде бы моя нервная система уже давно системой не была, а тут вдруг ни с того ни с сего – критическое мышление. Да после всего.
– Правда? – ничего умнее спросить не придумалось. Рано хвастался.
– Нет, конечно! – возмущённо вскинулся дед. – Тебе сколько лет-то, Ярик, что в сказки веришь?
– Двадцать восемь, – честно, как учили, ответил я.
– Риторический был вопрос, – буркнул старик, глотнув и откусив хлеба на удивление белыми и крепкими зубами.
Я решительно ничего не понимал. Со мной в подмосковном лесу беседовал дядя Митя, который оказался лешим, или не оказался им – тут пока не ясно. Мы выпивали, закусывали и беседовали о риторике. При этом я, вполне возможно, лежал сейчас синим и холодным на водительском сиденьи Форда, тоже синего. И тоже холодного.
– Гляди-ка вон, пока последние мозги-то не сломал, – хмыкнул Алексеич, вынимая из-за пазухи ещё и планшет. Пространственный карман у него там, что ли?
Планшет был китайский, недорогой и не новый, но заботливо завёрнутый в полиэтиленовый пакет. Я таких давно не видел – сейчас перешли на тонкие, шуршащие. Новый материал назывался «ПВД», «полиэтилен высокого давления». Он был экономичнее, дешевле и гораздо слабее того, который «низкого давления» – тот потолще, поплотнее и покрепче. Когда я был маленьким – мама стирала пакеты и вешала сушиться на кафельный фартук между плитой и раковиной, мазнув по плитке коричневым хозяйственным мылом. С тонкими шуршащими недоразумениями такой номер вряд ли прошёл бы. Да и недостатка в них теперь не было – в каждом магазине по нескольку рулонов, рви – не хочу. У деда же пакет выглядел стиранным неоднократно – почти непрозрачный. С историей вещь.
– Вот! Сын подарил, – гордо похвалился старик. – Гляди, видал такое?
И показал мне на экране планшета одну из иконок приложений. Там их было всего штук пять-семь, даже удивительно. А указывал он на синий квадратик, в котором распахнула крылья какая-то белая птица с хохолком и раскрытой книгой на груди. Это я знал – сам таким же пользовался. Импортных новинок детективов, хоррора и прочей жести, что любила читать Катя, там не было, зато современной отечественной прозы – почти вся. Я читал про попаданцев и городское фэнтези. Было интересно. Иногда задумывался, что тогда, в прошлом, было как-то проще и честнее, что ли.
– Тут один сочинитель пишет знатно, про ведьм, оборотней, упырей всяких, что вокруг нас живут, – оживлённо вещал Алексеич, – забавно выходит у него. А парни, типа тебя, Сашка да Валерка, попадают в разные истории.
Я моргнул и сглотнул. Легче не становилось. Дядя Митя, сидя на камне и дымя самокруткой, продолжал мне рассказывать, в деталях и весело, про банкира и архивариуса, о которых я и сам с удовольствием читал раньше. Пока… Ну, в общем, можно сказать так, что с «Миром Ночи» я познакомился до того, как всю мой собственный мир поглотила чёртова тьма.
– А про Кортеса и Головина читали? – робко спросил я, когда дед выдохся рассказывать про старую паскуду Шлюндта.
– Про Головина чего-то помню, было недавно. Он ещё с Волковым и банкиром одним барагозил, тоже интересно. А Кортес – он пират, вроде, не? – заинтересовался старик.
Я рассказал странному деду про «Тайный город». Про зелёных ведьм он слушал с особым вниманием. Про рыжих рыцарей и воинов Нави – с меньшим интересом. Но автора и название записал. Я же про историю какого-то Волкова не читал – видимо, недавно вышла книга. За последние полгода я читал в основном свидетельства. Чаще – лилово-фиолетовые. И серо-синее вот недавно.
– А ты мне номер свой дай, я тебе ссылку на цикл и пришлю, – воодушевлённо предложил старик. Я продиктовал ему цифры, но сказал, что телефон в гараже забыл. Случайно.
– Ну ничего, вернёшься – почитаешь, – не расстроился, кажется, он, – а фамилие какое у тебя? – так и сказал, в среднем роде.
– Змеев, – ответил я. А дед едва не выронил пустую уже бутылку, что ставил на камень. И посмотрел на меня как-то странно. Очень пристально, будто пытался вспомнить, где видел раньше. Или прочитать что-то, написанное у меня на лбу. Мелким шрифтом. С внутренней стороны.
Крякнув, поднялся с камня. Взял за края газету, на которой лежали две пустых скорлупы и хлебные крошки. Донёс до той самой сосны, с гостеприимно протянутой веткой. Высыпал под корень, что-то, кажется, приговаривая, и погладил дерево по коре, будто прося прощения за что-то. Подошёл к камню, складывая на ходу и убирая обратно за пазуху бумагу. Вслед за ней спрятал планшет и коробок с солью. Бутылку поместил в боковой карман брюк. Оглядел полянку придирчиво. И протянул мне руку.
– Пойдём со мной, Ярослав Змеев, – проговорил он серьёзно. И продолжил другим тоном, попроще, – если ты не планируешь дальше птичек ловить, качельку ладить, ну или чего ты там собирался, на суку́-то.
– Куда? – запоздало насторожился я, уже протянув ему ладонь и поднимаясь с камня. В ушах зашумело, а вокруг будто чуть темнее стало.
– Крышу мне починить поможешь. Лесник я здешний, Евсеев Дмитрий Алексеич. Глядишь, и я тебе помогу. С крышей-то у тебя тоже беда явно, – будто под нос буркнул он последнюю фразу и шагнул в сосны, махнув следовать за собой.
Надо же, и вправду дядя Митя оказался. Не обмануло предчувствие, или чего там это такое было? Интуиция? Не верил я в неё никогда. Сказки это.
Лесник шёл широким шагом, но плавно, неспешно, будто плыл через лес. Мы прошли насквозь полянку с можжевельником – никогда не слышал, чтоб он вот так рос, целыми островами. Обошли густой ельник, пройдя под серо-чёрными старыми осинами. На следующей поляне оказалась огромная необхватная липа. Не встречал никогда их в лесу. Думал, только на аллеях растут. Под деревом стояли пять ульев. Удобно кто-то придумал. Здесь, пожалуй, и вправду можно взять настоящий липовый мёд. Катя любила пионовый. Он стоил впятеро дороже обычного. А на мои слова о том, что там в банке точно такое же разнотравье, как и в соседней, потому что пчеле не объяснишь, что с этого цветка брать можно, а с соседнего – нет, лишь хмыкала. Говорила, что я ничего не смыслю в марке́тинге. Ну да. Я даже в том, где там ударение надо было ставить уверен не был. Думал, что на «а».
Через минут пятнадцать или около того показался просвет между деревьями. Ещё через какое-то время мы вышли на открытое место. В кольце странного глухого забора, будто бы плетня между живых, растущих кустов и деревьев, стояли три постройки. Тянулась в небо стрела «журавля», видимо, над колодцем. Сто лет таких не видал. Старик отодвинул плетёный щит, который я бы не нашёл ни за что, и пропустил меня вперёд, заслонив проход, как и было. Домишко с подворьем был небольшой, на два окна, и низенький. В дальнем от него конце, ближе к колодцу, стояла закопчёная совсем уж крошечная избушка. Наверное, баня. И какой-то странный круглый не то сарай, не то овин, или где там зерно раньше хранили. На память пришло слово «гумно», но в нём я уверен не был. Странный день продолжался.
Дядя Митя усадил меня на колоду возле бани, а сам начал на стоявшей рядом такой же щепать лучину. Махнув с десяток раз топориком, снял фуражку, утёр пот носовым платком, повесил снятую куртку на торчавший из бревенчатой стены гвоздь. И надел головной убор обратно. Волосы у него были короткие, густые и совсем белые. А гвоздь в стене был кованый, трёхгранный. Я такие только в краеведческом музее видел.
– Воды набрать сможешь? – спросил он меня, выйдя из бани, откуда уже тянуло дымком.
В руках лесника было два ведра, обычных, оцинкованных, но с верёвочными дужками. Я молча взял их, кивнув и направившись к торчащей вверх шее «журавля». Оказалось – ничего сложного, опустил длинный, метра на три, шест вниз, поднял, перелил, повторил. Даже не облился почти. Только голова закружилась сильнее.
– Умойся, полегчает, – раздалось из-за спины.
Я умылся, отойдя от колодезного сруба несколько шагов в сторону забора-плетня. Тут были какие-то грядки. Я узнал лук и перец, острый, красный, мелкими стручками. Он рос под какой-то колбой чуть ли не в полметра высотой, покрытой изнутри испариной. И вправду полегчало. Вода была ледяная, но как будто даже сладкая.
Я вернулся на ту же самую колоду. Алексеич сходил в дом, возвратился с какими-то простынями и полотенцами на плече. В руках держал запотевшую трёхлитровую банку с чем-то тёмным, похожим по цвету на хороший чёрный кофе, и два гранёных стакана. Поставил стекло на пень, где щепал лучину, а тряпки повесил на шнур, тянувшийся от бани к странному овину. Или гумну. Наполнил осторожно оба стакана и дал один мне. От поверхности отрывались крошечные пузырьки, а в нос ударил добрый дух ржаных сухарей. Обоняние не подвело – квас оказался высшего класса, в меру сладкий, в меру кислый, и не в меру холодный. Но зашёл как родной.
– Ну, рассказывай, Змеев Ярослав, – вздохнул лесник, осушив свой стакан. По стенке стекал мутноватый осадок оттенка кофе с молоком.
– О чём? – на всякий случай уточнил я. Квас, казалось, шибанул не только в нос.
– О том, с какой такой сильной радости ты взялся по соснам лазить, – терпеливо ответил он.
В последнюю очередь я думал, что сегодня придётся с кем-нибудь беседовать. Тем более об этом. Хотя, наверное, вряд ли подготовился бы, даже если б знал. Вздохнул поглубже. Хлебнул ещё кваску, чуть остудив сердце, что снова подпрыгнуло над ключицами. Нашарил сигареты, прикурил. Дед молча ждал.
– С женой развелись вот, – выдохнул я, наконец, немного собравшись с мыслями. Фраза оказалась скучная и совсем не страшная. Снаружи. Внутри от неё продолжало колотить.
– Неужто последняя? – ахнул с ужасом Алексеич, и даже ладонь к усам прижал.
– Кто? – растерялся я.
– Жена, кто! – нетерпеливо воскликнул он.
– Как это «последняя»? – продолжал тормозить я, – она одна у меня была всего…
– У тебя – это понятно! – уже как-то даже возмущённо перебил дед. Прозвучало немного обидно. – Но вообще в мире – последняя же? Единственная на планете баба ушла от тебя к другому, бросив тебя, бедолагу, на тоскливо-позорном перепутье между целибатом и содомией?!
Такой постановки вопроса я точно не ждал. И тяжело закашлялся, подавившись дымом. Со стороны смотрелось, будто внутри меня готовился к извержению вулкан: следом за дымом надо было ждать облаков пепла и потоков лавы.
– Нет, – чуть продышавшись, ответил я на все части вопроса, и про единственную, и про перепутье.
– Ну слава Богу, – облегчённо выдохнул лесник. – Я-то испугался было – то четыре миллиарда оставалось, а то вдруг последняя от Славки ушла!
Я смотрел на него растерянно. Странный дед, видимо, издевался над моим горем, но это почему-то не казалось обидным.
– Думаю, не всё ты мне рассказал. Давай-ка с самого начала, – и он снова посмотрел на меня тем же пристальным взглядом, что и в лесу.
И меня как прорвало. Я начал с самого начала – с садика и школы. С города, в котором рос, и деревни, где отдыхал каждое лето. С мамы и папы. Не забыл про Сашку, лежавшего под серым камнем на Будённовском кладбище. И про Чапу, что лежала под берёзкой на берегу. Про все события этого года, про весь их проклятый чёрный хоровод. Говорил долго. Остановился на том, где с камня уползала толстая старая змея, будто решив, что я её солнечное место надолго не займу.
Алексеич поднялся, подошёл и крепко обнял меня. Как батя когда-то давно. Потом отпустил, похлопал по плечу как-то по-особенному бережно, и скрылся в бане. Оттуда послышались звуки, будто он взялся полы подметать. Вернулся красный и вспотевший. Снял с лавочки у двери какие-то лоскутные половички, которых я до этого времени не замечал, и нырнул обратно.
– Пошли, Славка, париться. «Баня парит, баня правит», как раньше говорили, – позвал он, усевшись на ту же лавку и стягивая старые сапоги. Под ними обнаружились портянки. Чистые.
– А почему Вы… почему ты меня Славкой зовёшь, дядь Мить? – спросил я неожиданно даже сам для себя.
– Потому что Славы в тебе пока мало, дай Бог если на Славку наберётся. А Яри как не было – так и нет. Племяш, – ответил он, хмыкнув в конце.
Мы разделись и зашли в низкую тёмную парную через совсем уж крошечный предбанничек. Алексеич наказал не трогать руками стены и потолок, садиться и ложиться только на полки́, крытые половиками. Дух в бане стоял какой-то совсем непривычный – не было ни эвкалипта, ни мяты. Зато я, кажется, узнал можжевельник, что пах в точности как утром на той полянке. И сладкий душистый липовый цвет. И, кажется, багульник, чуть круживший голову. Несколько ароматов крутились в памяти, но уверенности в их названиях не было.
Первый заход короткий, минут пять, наверное. Но пот покатился с меня сразу, густо. Вышли чуть остыть на лавочку, глотнули квасу – и обратно, во мрак и жар.
Второй раз сидели дольше. Старик ровно дышал, закрыв глаза, а я слушал сердце, которое то снова подскакивало к горлу, то замирало, будто пропуская пару ударов. Когда вышли на воздух снова, Алексеич сходил в дом и вынес мне кружку какого-то отвара. Он горчил и холодил одновременно. Наверное, с мятой был.
В третий раз лесник загнал меня на верхний поло́к и поддал на каменку, скрывавшуюся в тёмном углу и различимую лишь по еле слышимому пощёлкиванию остывавших белых фарфоровых изоляторов, какие на старых столбах линий электропередач встречаются, и запаху раскалившегося металла. Под потолком разлилась шипящая волна, пахну́вшая донником и, кажется, ромашкой или пижмой. А дед выудил из какого-то ушата пару веников. Меня удивило то, что один из них, вроде бы, был крапивный с можжевельником. И то, что я знал слово «ушат».
Глава 3. Занимательная история
Заходили, кажется, раз семь, но один-два я, пожалуй, мог и не запомнить – Алексеич раскочегарил-наподдавал так, что, как говорится, уши в трубочку заворачивало. В глазах старика под конец мне тоже пару раз мерещился отблеск огня. Но не багровый или красный. Именно пламя, бело-желтое, солнечное. Совершенно неожиданное и, кажется, абсолютно неуместное в лесной бане по-чёрному.
На лавочке сидели молча, потягивая из глиняных чашек какой-то травяной чай, что лесник принёс из дому. Все в белом, как два новорождённых. Или ангела. По поводу одежды вышел странный разговор.
– Держи, надевай, – он протянул мне стопку белья.
– А мои вещи где? – удивлённо спросил я, принимая, между тем, выданное.
– Ты не родной, что ли? Чтоб после бани, да в ношенное рядится? – возмущённо нахмурился старик. – Бери, чистое.
Я натянул на отмытое до хруста тело такие же хрусткие от крахмала, или чем там обрабатывают бельё при стирке, рубаху и кальсоны. Натуральные подштанники, с вязочками внизу, на тряпочных пуговках. Это было то самое нательное, которое я видел только в старых фильмах про войну. Но пахло какой-то особенной свежестью. И, кажется, какими-то травами.
Я не мог вспомнить, когда последний раз так себя чувствовал. Тело словно не весило вовсе, и хотелось ухватиться рукой за лавку, чтобы не улететь в тёмное небо, к разгоравшимся звёздам. Солнце зашло, кажется, не так давно, но темнота здесь, в лесу, меж высоких сосен с одной стороны, и елей ещё выше – с другой, наступала будто бы мгновенно. Было удивился, когда вышли и сели, почему комаров нет. Хотя по детству прекрасно помнил: свирепствующие до десяти, половины одиннадцатого – край, после этого времени они в наших краях дисциплинированно ложились спать, пропадая все до единого. Мы с Саней удивлялись по этому поводу, а его бабушка, баба Шура, объяснила, что носатым и на ярком солнце плохо, и на сильном ветре, и в темноте вечерней тоже. «Капризная скотина комар» – так она сказала тогда. Саня многих ребят из «соколовских» до трясучки потом этой фразой доводил, про капризную скотину.
Ветра не было. Тянуло дымком и травами из раскрытой двери бани. Смолой и хвоей – из-за странного плетня. И росой. Никогда не думал, что у росы есть запах, и что я смогу его различить.
– Зачем я тебе, дядь Мить? – спросил я в звенящей тишине ночного леса под далёкими звёздами.
– Хороший вопрос, Славка. Правильный. Только прежде, чем я тебе на него отвечу – сам себе ответь вот на какой: «зачем ты себе сам?». Пойдём укладываться, завтра поговорим. Утро вечера мудренее, – дед со вздохом встал с лавочки, занёс в предбанничек ведро воды и чистое полотенце, что так и висело на шнуре слева.
– Благодарю, батюшка-банник, за парок добрый, уважил так уважил. Попарься и сам на здоровье, – проговорил он в темноте, поклонившись печке.
– Давно один в лесу живу, да и старый уже, привык разговаривать с тем, кого нету, – будто бы смущённо пояснил Алексеич.
В дом заходили по невысокой, ступенек в пять, лесенке. Дед держал фонарь, диодный, китайский, на батарейках, светивший пронзительно-холодным белым светом. Как в морге.
Справа – подворье под крышей: дровяник, какие-то пустые загоны по грудь высотой, для скотины, наверное. Наверху – настил, откуда доносился запах сена.
– Сортир – там, – махнул он прямо, на крашеную зелёной, кажется, краской дощатую дверь с непременным сердечком, выпиленным в средней доске. Удачное изобретение – туалет под крышей и сразу за стенкой. Таскаться на край участка впотьмах не надо.
Слева, скрипнув, отворилась тяжелая невысокая дверь, и мы по очереди, пригнувшись, вошли в дом. Лесник прошёл вперёд, скрывшись во тьме, которую почти сразу разогнал неровный жёлто-оранжевый свет. Свечи?
Точно. Дед вышел из-за печки с подсвечником в одной руке и, вроде, керосиновой лампой в другой. За стеклом керосинки плясал огонёк свечи. Судя по запаху – настоящие, восковые, не стеариновые, или из чего там их сейчас делают?
Справа от двери нашёлся на стене серый железный рукомойник с раковиной, внутри бело-рыжей от ржавчины, снаружи чёрной, и ведром под ней. Дальше вдоль стен метра на полтора тянулись полки с какими-то банками, пузырьками и свёртками крафт-бумаги. Потом шла печь, настоящая, русская, будто бы недавно побелённая. В маленьком доме она, казалось, занимала если не половину, то точно треть свободного места. За печкой, судя по углу стола и стулу с гнутой спинкой, была кухня, где вдвоем и встать-то, наверное, проблема. Через перегородку от неё – горенка, видимо, в которой я увидел только спинку кровати. Старая, панцирная, с шишечками по углам. Слева, за вешалкой, был дверной проём, закрытый занавесками. Нарисованные на них гроздья красной смородины почему-то приковали мой взгляд сильнее, чем остальные детали, громко говоря, интерьера.
– Там ложись, – махнул дед на смородиновый занавес. – Там сын мой ночует, когда в гости заезжает. Бельё чистое, ляг и спи. Там травы поверху висят, головой, смотри, не зацепи, да руками не маши особо.
– Почему? – уточнил я, будто привык с детства в гостях перед сном махать руками.
– Зацепишь – осыплется, спать будет неудобно. Сухая трава колется, – как дураку объяснил хозяин.
Я зашёл, неся свечную керосинку, что дал мне в руку дед. Комнатёнка узкая, как купе. Слева койка, впереди тёмное окно за занавесками. Под потолком гирляндами шнурки с метёлками свисавших трав. Поставил, задув свечу, светильник на пол, на такой же лоскутный половик, как и в бане. Сел на скрипнувшую кровать, стянул ногами войлочные чуни, тапки из валенок с отрезанными голенищами. Носки с футболкой и трусами, выстиранные по наказу деда, висели на шнурке, что пропадал в темноте по направлению к гумну. Или овину.
– Спокойной ночи, дядь Мить, – сказал я в сторону занавесок. С этой стороны смородина на них была чёрная.
– Доброй ночи, Славка, – раздалось оттуда. – Наконец-то доброй, – последняя фраза прозвучала еле различимо. Или вообще послышалась мне.
Едва голова коснулась подушки, как стала тяжёлой, будто школьный ранец, когда впереди восемь уроков, и книжки в нём лежат так плотно, что пряжка еле застёгивается. Снилась мне смородина. Чёрная. Крупная и сладкая.
Разбудили запахи. Сытные и живые. Давно таких не было по утрам.
Не раскрывая глаз, будто боясь спугнуть ощущение, я внюхивался, как потерявшийся щенок, учуявший след хозяина. Так было в детстве, когда просыпаешься на выходных, в школу не надо, а с кухни звучат голоса родителей и доносятся ароматы завтрака. Я любил сырники с вареньем, смородиновым или вишнёвым. А ещё колбасу, жареную. Ей и пахло сейчас. А ещё гренками из чёрного хлеба на настоящем, подсолнечном, а не пальмовом с добавлением подсолнечного, масле. Голова была ясной и чистой, будто вчера и её вымыли. Изнутри.
На занавесках обнаружились сказочные птицы в коронах и с пышными хвостами, глядящие друг на друга. И на лучи солнца, что пробирались через сосны за плетнём.
– Доброе утро! – сказал я, выйдя из-за занавесок в сторону кухни, где заметил спину лесника в белой майке.
– Доброе, Славка! – откликнулся он, не поворачиваясь. – Умывайся – и за стол, почти всё готово как раз. Твоё полотенце правое.
Я позвенел носиком рукомойника, умывшись с серым хозяйственным мылом. С ним же, пальцем, почистил зубы. Полотенце, висевшее на указанном месте, оказалось настоящим рушником, которые я до сих пор видел только в том же музее, где и трёхгранный кованый гвоздь. На моём были вышиты какие-то угловатые птицы. Наверное, петухи, судя по гребням и шпорам. Красные. На висевшем рядом рушнике, видимо, дедовом, птицы были чёрные.
На столе стояла большая чугунная сковорода, в которой шкворчала яичница с колбасой, радостно тараща на меня свои ярко-оранжевые глаза. Таких в городе не купишь, пожалуй. Поднимался парок от стопки ржаных гренок и от чашек с чаем.
– Садись, чего застыл, как не родной? – махнул Алексеич на табуретку. Основательную, как и всё здесь, массивную, крашенную белой краской и с круглым лоскутным покрывалом-подушечкой сверху.
– Приятного аппетита, – вежливо кивнул я старику.
– И тебе на здоровье, – ответил он и захрустел гренком.
Завтракали в тишине. Я всегда любил именно так. Разговаривать надо после, а с утра пищу требуется принимать вдумчиво, с почтением – ей тебя весь день греть и питать. Просто так под пустой разговор напихать в живот чего попало, а потом жаловаться на гастриты и прочие упадки сил – не мой вариант. Так Катя обычно делала: ела с телефоном наперевес, или читая, или глядя какие-то ролики, не обращая внимания на то, что глотала и как жевала.
Мысль о ней впервые, кажется, за несколько недель не заставила вспоминать правила дыхания «по квадрату» и искать на запястье, на гороховидной кости, точку, что помогала при тахикардии и аритмии. Я даже замер, перестав жевать.
– Ты про еду лучше думай, а не про бывшую свою, от неё пользы всяко больше, от еды-то, – пробурчал лесник, отхлебнув чаю. Он внимательно смотрел на меня поверх своей эмалированной кружки.
– А как ты узнал, дядь Мить? – я даже вздрогнул от неожиданности.
– Так я ж леший. И колдун я, ага, – ухмыльнулся он, поставив чашку. – Мне, Славка, лет много, я живу долго, видел всякое. Вот не поверю, хоть убей, что ты сейчас взялся размышлять о творчестве поздних импрессионистов или биноме Ньютона.
Ну да, логично. И я подцепил вилкой ещё яичницы, продолжая повторять про себя слова деда про то, что от еды всяко больше пользы-то.
– Во-о-от, другое дело! – похвалил он. – А чтоб повеселее стало – музыку заведём, пожалуй.
И он потянулся к близкому подоконнику, где между горшками с геранью и столетником примостился маленький приёмничек. Из него зазвучали звуки пианино, будто в старых фильмах про пионеров. С такими как раз или на завтрак строиться, или на зарядку.
– Ты гляди-ка! Как по заказу! – вскинул в удивлении брови старик.
А весёлый женский голос запел: «Если тебе одиноко взгрустнётся, / Если в твой дом постучится беда, / Если судьба от тебя отвернётся, / Песенку эту припомни тогда.»*
Я вспомнил эту песню. Батя любил напевать её раньше. На словах про «если к другому уходит невеста – то неизвестно, кому повезло», у меня поползли брови наверх. На «если ты просто лентяй и бездельник – песенка вряд ли поможет тебе» я отложил вилку и уставился на приёмник с подозрением. Критическое мышление, проснувшееся, видимо, от сладкого чаю, отметило, что как-то странно много совпадений в одной песне для конкретно взятого жизненного участка не менее конкретно взятого Ярика. Или Славки?
– Чего напрягся-то? – веселился дед, глядя на тревожного меня.
– Странно как-то, – неопределенно кивнул я на приёмник.
– Ещё как, – ухмыльнулся он. – У тебя детей-то нет, да сестёр-братьев меньших не было, вот и странно. А то знал бы, как оно бывает, когда говоришь мальцу: «да не бери ты в голову, жизнь длинная, эта малость вообще никакого значения в ней не имеет!». А он тебе в ответ: «дурак ты неумный и не понимаешь ничего! Эту серию в этом году больше повторять не будут! Как же мне прожить ещё целый год, когда кино опять с начала начнут показывать?!». Да со слезой ещё, с му́кой!
А я вдруг вспомнил, как переживал расставание с первой своей девушкой, в девятом классе. И кричал на отца, что тот вообще ничего не понимает, что жизнь окончена! И покраснел, опустив глаза. Но тут же вскинул их обратно на приёмник.
– А откуда у тебя электричество, дядя Митя?
Лесник обернулся на подоконник, посмотрел на шнур питания, что уходил вниз, под стол. Поскрёб щетину на щеке и задумчиво предположил:
– Может быть, подземный кабель?
Меня едва не закоротило самого. Я читал ровно такую же историю, кажется, в каком-то из «Дозоров». Только вот сам я был ни разу не в книжке и в магию особо не верил. Читать любил, а так – нет.
– Всегда прокалываешься на мелочах, – кивнул грустно лесник. Но тут же прыснул и рассмеялся. Видимо, я выглядел достаточно обалдевшим, чтобы вызвать искренний весёлый смех.
– Батареи у меня на крыше, Славка, солнечные. И аккумуляторов на чердаке с десяток. Ванятка мой перестраховался – как-то пару дней дозвонится не мог, пурга как раз мела, ветряк мой поломала, а поставить обратно не дала. Вот сын и привёз мне панели, на крышу положил, да через какие-то хитрые приблуды к большим батарейкам присобачил. Так что у меня и телевизор есть, и холодильник даже. Только не люблю я их. В одном дурь одна, а в другом у харчей вкус пропадает. Веришь, нет, но как полежат пару дней в белой гладкой темноте – не могу есть, хоть тресни. Ну, то есть могу, конечно, но без радости. А без радости лучше лишний раз ничего не делать, – вдруг нахмурился он.
Я на всякий случай заглянул под скатерть. На стене под столом к бревну была прикручена розетка. Обычная, квадратная, бежевая. Легран. На рынке такими торговали, помню, в соседнем павильоне. И провод к ней шёл самый обыкновенный, белый.
– Пошли, книгочей подозрительный, – хмыкнул старик, – надо перекурить это дело.
Я поднялся и потянулся следом за ним. Но сперва помог убрать со стола. Чашки сполоснул под рукомойником и передал деду – он поставил их на решетчатую сушилку в верхнем шкафчике, крашеном в светло-голубой, с прямоугольными стеклышками за широкими штапиками. Сковородку он забрал с собой на улицу.
Уселись прямо на ступеньки крыльца, между резными столбиками, покрытыми, кажется, лаком. Батя таким пол на веранаде красил, то ли палубный он, то ли яхтенный – сейчас не вспомню. Но точно запомнил, что к олифе руки липнут, а после этого лака дерево гладкое, будто стекло, становится. Эти столбики выглядели янтарными, и утреннее солнце блестело в них, как в начищенных медных трубах торжественного оркестра, молчащих перед тем, как над толпами разнесутся звуки марша.
– Надумал ли? – спросил, не поворачиваясь, лесник, лизнув лоскуток газеты, выдернув и сложив обратно в кисет лишние нитки табаку.
– Чего? – спросил я, повернувшись к нему.
– Зачем ты себе сам? – напомнил он вчерашний вопрос.
Да, казалось, в промежутках между гроздьями крупной чёрной смородины во сне я думал и об этом. И ответ казался мне вполне правильным. И в контексте происходившего последние дни нормальным.
– Да. Надумал. Я себе затем, чтобы дальше жить свою жизнь, а не чужую. И так, как я считаю нужным, а не другие. Раз в этом мире меня ничего особо не держит – значит, я ничего никому и не должен, – я смотрел на мои чёрные носки, футболку и трусы, что висели на шнурке. Ночью их совсем не разглядеть было. А вот дедовы белые майку и портянки тогда видно было отлично. Хоть и сохли они от лавки гораздо дальше.
– Тьфу ты, а так начинал хорошо, – сплюнул Алексеич, кажется, крошки табака.
– А чего не так-то? – насупился я.
– Башка у тебя не так работает. В остальном – уже лучше, конечно, – непонятно ответил тот.
– Вот смотри: родился ребёночек. Он у кого родился? – в его глазах был интерес, с которым учитель ждет правильного ответа от двоечника, такой, с лёгким недоверием.
– У мамы, – ну, биологию-то я учил.
– И-и-и?.., – выжидающе протянул дед.
– И папы, – я совсем растерялся. Причем тут «зачем я себе сам»?
– Не «и папы»! А у «мамы с папой»! В истории много было случаев, когда женщины были смелыми и отважными, когда подвиги совершали. Но это тогда, когда мужиков живых не оставалось больше, или при смерти лежали, или по порубам у врага сидели. Тогда и шли бабы в бой. Потом-то всякое случалось, конечно. Хорошего только мало, если посмотреть, – старик затянулся и замолчал, сбив мизинцем пепел на камешки, выложенные перед первой ступенькой.
– Ребёнок от любви рождаться должен. Так задумано, так заведено. Было, по крайней мере. А потом вон начали «для себя» рожать. Это к кому такая любовь, когда «для себя» рожают, скажи мне?
Видно, что тема для него была не новой и животрепещущей. У нас в старом дворе была одна тётя Нина, та тоже мимо одиноких мамаш и молодых раскрашенных девчонок молча ходить не умела.
– Ты – исконно-посконный шовинист, дядь Мить. Меня моя Катя, жена, называла, когда про детей речь заходила и место женщины, – кивнул я.
– Я – нормальный, Славка. Нор-маль-ный. Ну, в крайнем случае – анархист-индивидуалист, – козырнул он знанием кинематографа. – Хотя нет, анархисты – это те, кто любой блудняк учинить готов, лишь бы не работать. Не подходит тогда. А про эту говори лучше «бывшая».
– Почему?
– Потому что она жена бывшая. Побыла – и перестала. И твоя она тоже бывшая. Да и была ли твоей – вопрос. Своей-то точно была, судя по рассказам вчерашним, а вот твоей – вряд ли. Сдается мне, что и «Катя» она тоже бывшая, – непонятно закончил он.
– А почему? – других вопросов, видимо, от меня ждать не стоило сегодня.
– Потому что Екатерина – это на древнегреческом «вечно чистая» и «непорочная», – пояснил Алексеич, глянув на меня с сочувствием. И вниманием. Будто реакции ждал.
Я только кивнул и замолчал. Логика в словах старика была. Странная, возможно. Но точно была.
– Теперь всё больше вещи любят. Машины, – я вздрогнул на этом слове, – драгоценности, эти, мать их-то… гаджеты, во! А любить людей надо. Живых, – он снова сплюнул.
– Далай-Лама, вроде, так говорил: «людей надо любить, а вещами – пользоваться, и все беды мира из-за того, что всё наоборот», – сказал я, чтоб не сидеть молча.
– Все беды мира из-за того, что, вместо того, чтоб своим умом жить, все какую-то Багаму Маму слушают, – вскинулся дед. – И этого лысого из интернета. Нет, так-то он иногда умные вещи говорит, но в принципе это и так все знать должны.
– Интернет – вообще кошмар ужасный. Мне как Ванька эту шарманку привёз да обучил пользоваться, – Алексеич кивнул на дом, видимо, указывая на лежавший там планшет. – я сразу понял: ничего хорошего ждать нет смысла. Все знания мира в руках! Все библиотеки! Живопись, музыка, литература! А чего глядят?!
Я пожал плечами – никогда не задавался этим вопросом. Я в основном книжки читал. Ну, кино смотрел ещё.
– Срамоту всякую! Я нажал как-то на картинку одну, – дед стрельнул на меня глазом и покраснел, будто смутившись. – чуть не изломал хреноту эту. А ведь и детки смотрят! А им кажут, как коробки с новыми покупками надо открывать, да как в носу ковыряться. В лучшем случае. Нет, помяни моё слово, нету ничего путного в том, чтоб сперва ко всей информации мира доступ получить, а только потом пробовать научиться хорошее от плохого отличать!
Я только кивнул опять. Спорить с дедом не было ни желания, ни смысла. Потому что сам я думал точно так же. Ребёнок, воспитанный на рекламе, больше принадлежит телевизору, чем маме с папой.
– Ты прости, Славка, что я так разошёлся, – чуть виновато продолжал старик, – но это ж позор какой-то? Не должно так быть, не ладно это. Чтоб детей чужие люди воспитывали втайне от живых родителей. Чтоб люди кровь Земли пили, а не своей её поили. Или вон чтоб молодые здоровые парни по соснам лазили…
– А с кровью Земли что не так? – спросил я, пытаясь отодвинуть подальше картинку с гостеприимной сосновой веткой.
– А ты глянь на тех, кто недрами торгует! В них же людского-человеческого меньше, чем у комара писька! – буркнул лесник. И тоже не сказать, чтоб сильно против правды попёр.
– Есть, Славка, те, кто на людях деньги зарабатывает. Большие, страшно большие. Кто готов всю Землю наизнанку вывернуть, чтоб карман себе набить. Счастья то им не приносит, да оно и не нужно им. У них всё шиворот-навыворот, – и странный старик замолчал. Надолго.
– Когда-то давно… Очень давно, – начал он, когда я уж хотел пойти барахло проверить – высохло ли, – люди с природой и миром в ладу жили. Не могли иначе – перемёрли бы. Брали сколь надо, отдавали взятое, что при жизни, что после неё. А потом паскудство началось.
Непонятный дядя Митя прервался, чтобы свернуть ещё одну самокрутку. Он, может, и давно один тут жил. Может, и не вполне в себе был. Но что-то заставляло слушать его слова с очень пристальным вниманием. И спорить аргументированно пока было не с чем.
– Народу в мире много стало. Лишку даже, – он смотрел на Солнце, что почти полностью поднялось над соснами за забором. – И стали некоторые из них старые знания не во благо пользовать, а наоборот. И тоже сперва себя успокаивали, что раз оно конкретно им в пользу – стало быть, доброе дело делают. И пошла канитель с тем, чтоб как можно больше себе подобных себе же и подчинить. Начали новых Богов выдумывать, таких же подлых, чтоб себя оправдать. Начали детей воспитывать в страхе, а не в любви. Тех, что из зашуганных вырастают, проще же к чему надо принудить? Вот. Те – своих детей так же растить взялись. Давно, очень давно это было, – повторил он с невыразимой тоской в голосе.
– Привыкли все за тысячи лет, что по-другому и быть не может. Ну, раз-два в пару поколений новые какие-нибудь понятки вводят, чтоб не расслаблялся народишко. Ипотеки, вон, выдумали. Земли в мире – спиной ешь, но нет: надо именно вот тут купить себе скворечник, за который потом ещё детям твоим расплачиваться. Зато к Месту Силы, которое «никогда не спит», поближе. Никогда не спит, Славка, только Зло. Да дурь ещё, пожалуй.
– Натурфилософия, – с умным видом протянул я.
–Хоть горшком назови, – кивнул дядя Митя. А я вскинул на него глаза с удивлением.
Читал как-то одну книжку интересную. Профессор один написал, доктор психологических наук, с Магадана родом, кажется. Он там впервые на моей памяти совместил реальность с психологией, историей и фэнтези настолько, что и зазора не разглядишь. Там крупно было написано, что всё рассказанное на страницах – сугубо плод воображения и размышлений автора. Но тьма народу уверяла, что главного героя знает и видела лично. Социальный эксперимент Владимиру Павловичу удался блестяще. Вот тот самый его главный герой точно так и говорил: «хоть горшком назови». Вроде бы.
– Пойдем, Славка, покажу кой-чего, – поднимаясь, старик задержал дыхание и сморщился, словно у него что-то резко заболело.
Мы пошли к тому странному сооружению, которое не баня. Дед по пути пощупал бельё, портянки оставил, а майку снял, сложил и убрал в карман куртки. Открыл дверь, запертую на навесной замок странного старинного вида из какого-то тёмного матового металла. И шагнул внутрь, склонив голову.
Я пригнулся и зашёл следом. Глаза после яркого утреннего солнца сразу забастовали, но, когда чуть проморгался, стали проявляться сперва контуры, а потом и сами предметы. И я резко отшагнул назад. И упёрся спиной в дверь. Она была закрыта, хотя я её не трогал, и снаружи не было ни ветра, ни человека.
***
* Гелена Великанова – Эй, рулатэ: https://music.yandex.ru/album/7624779/track/53368926
Глава 4. Возможность выбора
В голове закрутились кадры из фильмов ужасов и сцены из книг, что читала Катя. То есть бывшая. Там, где никому не известный дурачок приезжает в незнакомый город, а потом вся полиция первый сезон пытается собрать его из неожиданных запчастей, разбросанных по вверенной территории хаотично. А второй и последующие сезоны ищет талантливого раскройщика неизвестных дурачков и пытается понять, что же им двигало и какой месседж он хотел передать своим оригинальным перформансом. Нет, я не люблю современный криминально-мистический кинематограф, это точно. Но тогда думалось не об этом.
Посередине овина или гумна стоял пень в два обхвата. Из него торчал другой, в один обхват. Из другого – третий. Всего странная этажерка насчитывала, кажется, шесть ярусов, каждый сантиметров по пятнадцать высотой. А из верхнего пенька торчал какой-то прутик с несколькими листиками на тонких веточках. Вся эта странная конструкция была заляпана потёками и пятнами такого тревожного вида, что очень не хотелось даже пробовать выяснять – кто, чем и зачем поливал тут это деревце. Именно эта картина и заставила меня сделать шаг назад и напороться спиной на закрытую дверь. Я обернулся, поискал на ней ручку, не нашёл и приналёг плечом для пробы. Дверное полотно стояло, как влитое.
– Не открывай, он сквозняков не любит, – послышался за спиной голос лесника. А мне стало страшно. Очень.
– Кто? – хрипло выдохнул я, обернувшись с неожиданной даже для себя скоростью. И ловкостью, пожалуй.
– Наш родовой Дуб, – в голосе Алексеича звучала искренняя любовь и торжественная гордость. Стало ещё страшнее.
– Ты, Славка, главное – не бойся! – продолжил дядя Митя. Но это не помогло никак. Совсем. Вовсе. Хуже только стало.
– Давай, как раньше говорили, сядем рядком, да поговорим мирком. Я тебе не буду предлагать рядом садиться, от тебя ужасом и паникой шибает аж досюда. Там стой. Ну, или сядь, если захочешь. Я только самое главное расскажу. Захочешь что-то узнать – спрашивай.
И старик, которого я знал неполные сутки и третий раз видел без фуражки со сломанным в двух местах козырьком, примостился на лавку, что стояла у стены напротив пня. Хотя постройка была круглая, и тут всё, включая меня, было у стены напротив пня. Дед погладил левой рукой стену за собой, не глядя, привычным движением. Под сводами конусообразной крыши что-то зашелестело чуть слышно – и с нескольких точек во мрак овина проникли солнечные лучи. Тонкие, с палец. Лесник что-то сделал – и вдруг узкие пучки света, падавшие прямо на пол, начали подниматься, скользя по стенам. Наверное, если бы мы находились во взлетающем самолёте, я бы смог как-то понять такое поведение солнечных лучей. Запертый в тёмном гумне – не мог ни как.
Поднявшись на уровень, где заканчивался сруб и начинались стропила, или, вернее, переводы – крепкие бревна, что сцепляли-сплачивали окружность стены сверху, лучи закружились, заметались, дрожа и дёргаясь. Но совсем скоро превратились в сплошное ярко-жёлтое колесо. Вернее, обод от колеса. Он был уже с руку толщиной.
Дед ещё куда-то нажал – и убрал руку от стены. А окружность будто разрезали на части, как пиццу – и получившиеся сектора стали поднимать острые вершины к самому центру крыши. Оттуда прямо на прутик с листьями ударил луч света толщиной, пожалуй, с меня. И я увидел, как деревце, саженец или чего там торчало в этой странной конструкции сверху, на глазах развернуло листочки навстречу солнцу и теплу. Это смотрелось одновременно естественно и мило, но в то же самое время совершенно нереально и от того пугающе. Ни пляшущие лучи, увеличивающиеся в диаметре, ни шевелящиеся, будто живые и разумные, листья объяснить мне было нечем. Я посмотрел на деда. Тот не сводил глаз с прутика, что нежился в солнечном столбе, и выглядел настолько счастливым, будто смотрел на любимого единственного карапуза-внука, что строил песочный замок на ласковом морском побережье, где тёплая вода, доброе солнышко, полный пансион и никаких проблем вовсе.
– Он с полчаса где-то завтракать будет. Начну рассказывать, если ты не против? – повернулся ко мне дядя Митя, с заметным усилием отведя глаза от деревца.
Я был против шевелящихся деревьев. И солнечных кругов, возникавших в сараях из ничего. Против «рассказывать» – ровным счетом ничего не имел. Что и постарался лицом показать Алексеичу. Слова как–то не подбирались.
Давным-давно, когда редкие люди, населявшие Землю, ещё жили по одним с ней законам и правилам, вся земная твердь делилась на участки разного размера – доли или уделы. Их так потом стали называть люди. В центре каждой доли росло свое главное дерево. От него расходились лучами и кругами его дети и внуки. Под их ногами подрастали правнуки и копошилась прочая мелкая дальняя родня – кусты, травы, грибы. На них кормились звери и птицы. Так длилось долго, очень долго. Люди поперву тоже жили в мире и ладу с соседями. Потом только начали откармливаться и разрастаться так, что одной доли роду перестало хватать. И пошёл род на род. Вырубить главное дерево соседа почиталось за великий подвиг.
Великие исполины, многие из которых пережили не один ледниковый период, срубались, падая с подсечённых корней и ломая ветвями поросль младшей родни и соседей. Деловитые человечки расчленяли тех, кто помнил Землю новой и чистой, чтобы обогреть холодными ночами свои норы и пещеры. Потом стали ладить из мёртвых деревьев дома, что защищали их от ветров и морозов. С тем, чтобы пристроить что-нибудь себе на пользу, у человечества проблем не было никогда. Ум людской – большой подлец, находил оправдания любым, даже самым низким поступкам.
Толщи льда наступали и отступали. Поднимались и опускались воды мирового океана, то обнажая, то снова пряча тайные тропы между континентами. Которые, в свою очередь, тоже сходились и расходились. Но всё шло своим чередом бесконечно долго. Пока не напоролось на голую бесхвостую обезъяну, которой «надо!». Надо корону из перьев вон той птицы – они яркие. Надо шкуру вон того зверя – она тёплая. Надо мясо вон того – он медленный, но вкусный. А это, большое, что торчит снизу вверх, надо уронить. Потому что слишком большое и слишком торчит. Пугает.
Когда человечки научились головами не только жрать – им пробовали объяснить, как устроен мир изначально, и почему баланс, хрупкий и едва достижимый, так важен. Некоторые поняли. Не сразу, конечно. Потребовалось ещё один-два раза одеть Землю в ледяные латы, вымораживая паразитов. И показывая тем, кто мог думать, что у любого терпения есть предел. И снова некоторое время стало ладно и мирно. Люди берегли свои доли-наделы, заботились и охраняли их жителей, от самого старшего, до неразумных, но всё равно живых младших родичей и соседей. Если не видеть смысла в том, чтобы иметь больше, чем тебе нужно – счастье становится достижимым. Но счастливый век тянулся недолго.
Племена, жившие каждый под сенью своих родовых деревьев, которых из поколение в поколение привыкли считать Богами, держались Ряда и Покона. Пока степи и пустыни, возникшие на месте старых вырубок, не стали теснить один из родов с их надела. Но дома, выстроенные из росших в тех краях деревьев, были такими крепкими и красивыми, что отказаться от их постройки люди не могли. И сводили родовой лес, пока главное дерево не начало чахнуть. И тогда племя, что изводило своего Бога своей же жадностью, отняло чужую долю. Вырезав под корень соседей. Всех. И тех, что стояли на одной ноге, крепко держась за землю корнями. И тех, кто ходил по ней на двух. И тех, кто только начинал ползать на четырёх. И сделали из своего обезумевшего полумертвого Бога залитую кровью колыбель первородного зла.
Как уж вышло так, что одно из предвечных деревьев решило помочь своим человечкам поработить или уничтожить остальных, живших дальше – никто не знал. Но, видимо, раз есть ум – значит, есть с чего можно сойти. Или из чего выжить. И человечки, что копошились вокруг, стали первыми рабами нового порядка. А уже они, по образу и подобию, как водится, принялись подчинять себе окружавших соседей. Старая как мир, а то и ещё старше, схема: убить, опозорить или высмеять чужого Бога, чтобы забрать его силу и ресурсы. Как в компьютерных стратегиях, что так нравились мне раньше, только предельно, до отвращения, грубо и откровенно. Ничего лишнего.
Деревьев, что составляли основу, ось, центр жизни планеты, становилось всё меньше. Человечки играли в разных Богов. Разные Боги играли в человечков. И проигрывали. Потому что мелких двуногих становилось больше с каждой эпохой. И они, как чума, как лесной пожар, оставляли за собой безжизненные пустыни. Научились осушать болота. Поворачивать вспять реки, что текли своим путём миллионы лет. Добывать кровь Земли. А потом и есть её. Чёрное Дерево научило рабов питаться чем угодно, даже этим. Будто могильные черви выползли на поверхность. Сейчас почти каждый ест чипсы, жуёт жвачку и фаст-фуд, пользуется парфюмом и лечится антибиотиками. И в голову никому не приходит то, что олестра, паприн, фенол, нефтеполимерные смолы и основные яркие, так любимые детишками, красители – это нефть. Сырая нефть.
Доли и наделы присоединялись к пятну власти Чёрного Дерева, что язвой расползалось по Земле. Сперва это было очевидно: пустыня, возникшая за несколько поколений на месте зеленых лесов – не та вещь, которую можно легко спрятать. И за гнев Богов её выдать получалось не всегда. Слуги сумасшедшего Бога научились подсаживать-прививать черенки к живым деревьям других племён и стран. Злобные симбионты прилетели не из космоса.
Свободных первых разумных жителей планеты теперь можно было практически пересчитать по пальцам. Часть из них хоронилась в нехоженых местах, куда не могли добраться даже специально подготовленные десанты. Чаще всего потому, что там не было ничего для них выгодного и нужного, кроме тех самых изолированных, лишённых последователей и помощников, старых деревьев. Их тайные уголки были известны или примерно известны, но «прививку» откладывали до поры. Хуже всего было тем, кого подчинила злая воля, привитая двуногими. Память никуда не уходила. Люди, веками поклонявшиеся древним деревьям на разных континентах и островах даже не замечали, что из поколения в поколение чуть изменялись просьбы и правила, советы и сны, что навевали старые Боги. Потому что говорили уже не они. Да, окна Овертона придумал тоже не Джозеф Овертон.
Я сел на пол ещё на словах о ледниковых периодах, которых, оказывается, было несколько. Дальше просто слушал. Хотя, нет, не просто. Разинув рот, слушал рассказ лесника, тянувшийся плавно и неторопливо, будто какая-то кочевая песня, старая, как мир. Или колыбельная. Или отходная. Поверить в то, что где-то растёт Чёрное Дерево, которому подчиняются люди, да не из последних, судя по всему, было трудно. Но то, что дед твёрдо уверен в том, что говорит – было очевидно. А ещё то, что прутик будто прислушивался к его рассказу. И на том месте, где шла речь про страшную прививку зла – заметно вздрогнул. Прутик. Маленькое деревце. В закрытом помещении, где нет сквозняков. И мышц, чтобы заставить шевелиться ветки, как я помнил по школьной программе, у дерева быть не могло. Поэтому вздрогнул тоже.
Горько звучали слова о порабощённых старых Богах. Тоскливо. И без зла – чистая констатация факта, как у классика: «мы рубим – гнутся шведы». Только наоборот. А меня всё сильнее заботил вчерашний вопрос: «зачем я тебе, дядь Мить?». И ещё было по-прежнему страшновато. А ну как он сейчас и меня деревцу этому хилому пожертвует? Как там было в начале? Колыбель первородного зла? Вот-вот.
Старик замолчал. Поднял левую руку и снова пошарил по стене за собой. Опять не глядя. Столб света посреди овина истончился и исчез буквально за пару секунд. Видимо, перекрылись отверстия, впускавшие свет снаружи. Это если пытаться мыслить логически. К чему ситуация располагала слабо, мягко говоря.
– Вот такие дела, Славка, – вздохнул он.
– Ага, – поддержал я. Промолчать не получилось.
– Предлагаю тебе выбор, – начал он, повернув голову ко мне, опять будто бы с трудом оторвавшись от деревца, что снова повернуло листья кончиками вниз.
А я напрягся ещё сильнее, хотя, казалось бы, куда уж ещё? Кино все смотрели, книжки тоже читали. Варианты «или ты служишь злу рабом, или компостом» казались очевидными. Становиться перегноем как-то не хотелось. Сегодня – не хотелось.
– Если наш Дуб тебя признает – я расскажу тебе остальное, – выдохнул дед.
– А если не признает? – этот момент интересовал меня значительно сильнее.
– А если нет – провожу до того самого синего камня, где взял, и укажу, как к дороге выйти. Сюда ты точно больше добраться не сможешь, без меня-то. Ну, может, вспомнишь пару раз странного старого дурня-лесника, – он пожал плечами. Вроде не врал.
– А как я узнаю, что меня признали?
– Почуешь. Это словами передать трудно, нету слов-то таких. Звуками люди гораздо позже говорить научились. Когда забыли, как можно одними мыслями переговариваться. Ты вот думал, что злу можно пользу приносить, став или слугой, или навозом. Ну, как-то так. А добру слугой быть нельзя. Когда ты добро делаешь – ты сам им становишься. Так-то.
Я остолбенел. Внешне это вряд ли было заметно, потому что я с места не сходил и не двигался всё это время. Но тут прямо будто внутри всё замерло.
– Ты мысли читать умеешь? – подозрительно глянул я на Алексеича.
– И не только читать. Могу подсказывать. Могу отгонять. Много чего могу. Только мало нас, таких-то. Да с каждым годом всё меньше становится. По естественным причинам… И по противоестественным – тоже, – вздохнул он.
Вопрос «как понять, что странный прутик меня признал, что бы это ни означало» оставался без ответа.
– «Как-как?», – раздраженно буркнул лесник, – головой понять. Сердцем, душой ощутить. Как в трёхмерном измерении про пятое рассказать?
А я ещё раз вскинулся – про сравнения измерений в той книжке у магаданского социолога тоже было.
– Вот дался тебе тот шаман! Хотя да, читал я, много толкового. Ты лучше скажи мне, ты вот когда к домофону ключ прикладываешь – как вы все трое, Славка, ключ и дверь, понимаете, что тебе можно войти? – прищурился он на меня.
– Ну-у-у, – протянул я растерянно. Мысль о механике данного процесса меня как-то никогда не посещала до сегодняшнего дня.
– Ну-у-у вот Дуб так же примерно, плюс-минус, понимает. Он – дверь. Я – ключ. Ты – Славка. Если ты именно за этой дверью живешь, и у тебя есть ключ – добро пожаловать.
Я задумался, каким местом нужно приложить лесника к деревцу, чтоб раздалось заветное пиликанье. Мозг изо всех сил давал понять, что ему очень не хватает времени не то, что для анализа новой информации, но даже для её учёта. Если не разложить всё по полочкам – потом и не вспомню. Видимо, какая-то защитная опция здравого смысла, который планировал сохранить здравие.
– Пункция нужна, спинно-мозговая, ага, – хищно оскалился дед. Но мне страшнее уже не стало. Нечем было воспринимать и оценивать новые вводные.
– Да шучу я, шучу. Раньше, конечно, часть тела отдавали Дереву – тёмный народ-то был. Хотя, японцы вон, говорят, до сих пор своих так кормят. Не своих уже, вернее, – он снова помрачнел.
– Где расписываться кровью? – спросил я в шутку. Или нет – сам не понял.
– Кровью-то оно, конечно, вернее. Одно время, недавно ещё, думали, что связь Дерево на генном уровне устанавливает. Поэтому достаточно волосинки, слезинки, ноготка. Но всё равно эффективнее всего получается обмен, если человек своей волей кровь отдаёт.
– Чем обмен? – казалось, мозг из последних сил поднимает голову над столом, пытаясь если не вернуть контроль, то хотя бы уследить за ускользавшей ситуацией.
– Энергиями, так скажем, – кивнул старик. – Мир так устроен: отдал – получи. Не все помнят об этом, правда. Если согласен – скажи: «Да».
Я подумал последний раз. Терять мне всё равно нечего. Не далее как вчера я планировал вообще перестать смотреть этот сериал. И телевизор выключить. Из розетки. А тут – вон, спрашивают культурно, интересуются. Кажется, последний раз моим мнением интересовались в ЗАГСе, года три назад. Нихрена хорошего из этого не вышло, как выяснилось.
– Да, – прозвучало в странной постройке. И прутик, удивляя меня снова, поднял ближний ко мне лист так, чтобы кончик смотрел в мою сторону. Будто протягивал ладонь, приветствуя. И принимая клятву одновременно.
Глава 5. Удивительное рядом
Я поднялся и шагнул к веточке. Но Алексеич поднял ладонь, будто останавливая меня, и подошёл к странной этажерке первым. Стоя за его спиной, я смотрел на неожиданную конструкцию из нескольких ярусов. Сплошь деревянная, она смотрелась единым целым.
– Это и есть единое целое, – пробурчал дед, не оборачиваясь.
Присмотревшись, я понял: этажерка будто выходила из пола. Тоже сплошного и деревянного. Ого! Да он, оказывается, был сделан из цельного куска древесины – будто бы спил или, как сейчас модно говорить, «слэб», торец огромного ствола.
– Не будто бы – а самый настоящий ствол и есть, – старика, казалось, раздражала моя плавность мысли, деликатно говоря.
Я уставился под ноги. От края до края странного сооружения и вправду тянулся один и тот же рисунок концентрических кругов годовых колец. Кое-где его прерывали странные шрамы, словно кто-то или что-то ломало и уродовало огромное дерево. Но то продолжало расти, одолевая все невзгоды и напасти. Приковал внимание страшного вида клык, лежащий вросшим в древесину прямо возле ноги. Он был чуть короче моей босой ступни – обувь мы оставили снаружи, по-японски. А я носил сорок четвертый размер, между прочим.
– Раньше принято так было, всё самое дорогое и ценное Дубу дарить. Изловят зверюгу какую-нибудь, самый крепкий клык – дереву. Научатся ножи-топоры ковать, лучшую поделку – тоже ему, пояснил Алексеич, качнув подбородком чуть в сторону.
Там, дальше от центра, виднелась голова странного топора с почти прямым лезвием, мощным тяжёлым даже на глаз обухом, низко спущенной пяткой и длинной бородой, как у секиры или бердыша. Из непонятного серебристого металла. От края железки до стены было около метра. Сколько нужно времени, чтобы дереву нарастить поверх вбитого в ствол топора столько годовых колец – даже представить себе не мог. Клык от ближней к нему части лезвия был на расстоянии моего роста, а во мне сто семьдесят пять. Такой временной разброс в голове не укладывался совершенно.
– Это всё его ствол? – прозвучало глуповато. И вряд ли я выглядел умнее, чем слышалось то, что говорил.
– Да, – терпеливо ответил старик, – в основном. За стенами и под землёй ещё около метра тканей и коры.
– Тканей? – да, сообразительность – определённо сегодня не моё.
– Ну да. У нас – костная ткань, мышечная, нервная. У него – тоже, по-своему, – он посмотрел на деревце в центре. И оно будто кивнуло в ответ. Но это, наверное, был оптический обман на нервной почве. Мне, по крайней мере, было гораздо спокойнее считать именно так.
– Он сожалеет, что пугает тебя. Просто до посвящения нам, людям, и правда очень трудно понимать то, о чём они говорят.
Дед, выступающий переводчиком с деревянного, пугал меня не меньше говорящего дерева. Как и доисторические клыки в полу. И недавние пляски солнечных лучей. Но мне было очень интересно. Именно мне. Наконец-то я сам принимал важные решения и был готов нести за них ответственность. Жаль только, что так поздно. И похвалиться некому.
Я протянул леснику правую руку. Он повернулся, глянул и только головой покачал. Подошел к лавке, на которой сидел в начале, и достал из-под неё какой-то закрытый плоский ящичек, похожий на коробку с шахматами. Раскрыл, вытащил оттуда белый пакет из бумаги и пластика, смотревшийся в этом деревянном царстве лишним. Оторвал одно звено и вручил мне. Судя по надписям – сменные лезвия для скальпелей. И фирма с суровым названием: Volkmann.
Дед за левую руку проводил меня к обратной от входа стороне этажерки, по часовой стрелке, неторопливо. Там, на границе верхнего и второго сверху цилиндра, обнаружилось, хотелось сказать «дупло», но, скорее, углубление. И небольшая канавка возле. На приоткрытый рот было похоже.
– Погоди, не спеши, – старик придержал меня, пытавшегося уже распаковать стерильный конвертик с лезвием.
Он дошёл до своей лавки и вынул из-под неё, с кряхтением присев, банку. Обычную стеклянную банку, литровую, кажется. Я с такой в детстве на рынок за сметаной ходил. Не пустую – по плечики наполненную какой-то прозрачной жидкостью.
– Это чего? – с обоснованным, хоть и явно припозднившимся, подозрением спросил я.
– Слёзы единорога-девственницы, – буркнул лесник. – Вода это, из колодца. И не надо как в кино распарывать ладонь до костей – просто с краешку где-нибудь чиркни, чтоб несколько капель сцедить. Нужно, чтобы только чуть-чуть розоватой вода стала, этого достаточно вполне. Низкая концентрация компенсируется высокой скоростью и площадью всасывания, как-то так.
Он протянул мне банку, намекнув, что её удобнее поставить на пол, чем держать в руках. Дал и пластырь, обычный, бактерицидный – ленточку телесного цвета в таком же почти блистере, как и лезвие. И напомнил, что рабочую поверхность ладони и пальцев лучше поберечь.
Я примерился. Подумал, и примерился ещё раз. И третий тоже. Как-то не было привычки самому себе нарочно руки резать. Правду тогда сказал деду – не из тех я. Листья на веточках, казалось, следили за моими движениями. Но не кровожадно-нетерпеливо, а, скорее, с сочувствием. Испытать его со стороны дерева было неожиданно.
Полоснув-таки по внешней стороне подушечки под большим пальцем на левой руке, я протянул руку к банке. Боли почти не было – только странное, чуть тянущее ощущение. Красные бусинки, похожие на мелкие ягоды смородины на внешней стороне занавески, за которой я сегодня ночевал, сыпались в воду неохотно, прилипая к коже. И рукой не потрясёшь – полетят во все стороны, только испачкаюсь. На пятой или шестой капле Алексеич сказал:
– Хорош, достаточно. Цвет, видишь, сменился? Залепи ранку. А теперь бери и лей вон в углубление, только не спеши, не сразу всё. Надо, чтоб всасываться успевало.
Я наклонил посудину надо «ртом» странного дерева. Листья, казалось, стыдливо отворачивались. Тонкой струйкой влил розоватую воду. И с растерянностью посмотрел на старика.
– Сядь на лавку и жди. Минут пять-семь пройти должно. Если признает тебя Дуб – поймёшь сам, – он забрал банку и отошёл к той самой скамейке напротив, убрав тару вниз, откуда и доставал.
Я уселся на доски, оказавшиеся гладкими и будто бы даже мягкими, хотя такого быть, конечно, не могло. Прилепил на порез пластырь, к своему удивлению попав с первого же раза – обычно клейкие хвостики норовили слипнуться до того момента, пока белый лоскуток марли окажется над ранкой. Прислонился к стене, которая словно дружески обняла меня. Подивился этому неожиданному ощущению. И только хотел было спросить дядю Митю, когда же заработает обещанное «поймёшь сам», как оно началось.
Не знаю, с чем хотя бы примерно можно сравнить эти ощущения. Будто берёшь в руку горбушку от батона и сразу же понимаешь, кто его пёк, месил тесто, молол муку, вёз и сушил зерно, убирал и растил пшеничку. И что росло на том поле до неё. Каждый год. Лет триста примерно.
Или, держа в руке нож, чувствуешь, кто и где его ковал, откуда брал сталь, и сколько лет руда лежала в земле, прежде, чем стать железом. И кто ходил тогда по той земле над ней, проминая глубоко трёхпалыми когтистыми лапами.
Или отпиваешь глоток воды, а перед глазами проносятся конвейерные ленты комбината, по которым едут сотни одинаковых бутылок. И длинные трубы артезианских скважин. Грозовые облака, пахнущие озоном и жжёным миндалём, что роняли капли на далёкую землю внизу. И многие метры той самой земли, сквозь толщу которой просочилась небесная влага, прежде чем насос утянул её обратно наверх.
Но так было не сразу.
Началось всё с того, что, кажется, отключили одновременно свет, звук и гравитацию. Я замер-завис посредине ничего. Оно не было ни тёмным, ни светлым, ни холодным, ни горячим. Или не было его самого? Сложно описать. Я осознавал себя, Ярика Змеева. Но тела, к которому так привык за свою жизнь, не чувствовал совсем. И почему-то ничуть не переживал по этому поводу.
– Это как наркоз. Сон, хранящий здоровье. Без опыта слушать меня трудно, многие теряли себя, – прозвучало одновременно внутри и снаружи. Хотя это деление было очень и очень условным.
– Благодарю тебя за дар, человек. Я редко знакомлюсь с вами последнее время, поэтому прошу простить мне возможную бестактность. И старомодность, пожалуй, – продолжало звучать во мне и вне меня.
– Сейчас я коротко расскажу тебе свою историю. Отвечу на твои вопросы. И задам один свой.
Вокруг за долю секунды всё изменилось. У ничего появились стороны, верх и низ. Внизу была земля, покрытая густым ковром странного вида травы, похожей на папоротник и ёлочки хвоща, только высотой метра под два. Тянущиеся к далёкому небу странного ярко-синего цвета деревья я не узнавал. Кроме одного. Это совершенно точно был дуб, судя по коре, форме ствола и листьям. Только такой толщины, что за ним мог легко спрятаться Икарус. С «гармошкой». В середине, между высоко торчащих корней, виднелся чёрный зев не то дупла, не то пещеры, идущей, судя по всему, к центру дерева.
А потом на поляну возле него вышел человек. Ну, или кто-то похожий на него. Русые волосы заплетены в странные косы. Они, в свою очередь, заправлены за пояс. Сделанный, кажется, из живой змеи. В руках странный гость держал чей-то клык длиной сантиметров тридцать. С обратной от острия стороны покрытый яркой красной кровью.
– Прими мой дар. Хорошая охота. Сильный ящер. Много еды.
Охотник, или кто это был, не открывал рта. Он «говорил» мыслями. Они казались краткими и простыми. Или я просто не всё понимал. Подождав некоторое время, он шагнул в пещеру меж корней.
Картинка изменилась во мгновение ока. Под ногами был мох, обычный, ярко-зелёный. Ближе к центру поляны его сменяла невысокая, будто подстриженная, трава. По краям росли вполне знакомые дубы и сосны. Посередине стоял тот же самый, огромный. С тем же самым дуплом-пещерой. К ней подходил человек, в этом уже точно никаких сомнений не было. Русые волосы перехватывал на лбу плетёный ремешок. Светло-серая рубаха ниже колен. Руки, покрытые шрамами и ожогами. В них – голова топора. Его я тоже сегодня видел.
– Спасибо за науку, Боже. Проковал ладно, попробовал – знатно рубит! Черен оставил, для второго пригодится, а первый – тебе. Прими дар, не побрезгуй!
Он поклонился дереву. Постоял, будто прислушиваясь к чему-то. Улыбнулся и, склонившись, шагнул в дупло.
Та же поляна, но вместо мха – густой орешник, высокий, гибкий, весь в яркой листве. На одной и веток раскачивается птица. На скворца похожа, только покрупнее. Возле дуба стоит, уперевшись на высокий, выше него самого, посох со странной деревянной петлёй наверху, седой старик с длинными волосами и бородой. Перед ним прямо на траве – мужики, возрастом от моего, почти до дяди-Митиного. Слушают внимательно, на дерево за спиной старца смотрят с уважением, но без испуга. Серо-голубые глаза, русые волосы, похожие черты лица – родня, наверное.
А вот они же, только на другой поляне… Это даже не поляна – поле здоровое. Судя по кустам и деревцам вдали – там речка какая-то течёт. Может, и Якоть даже. Мы в детстве мимо такого же поля купаться бегали, помню. Только там в траве не лежали мёртвые люди. Здесь же их было явно больше сотни. Много смуглых, носатых, в странных халатах. И те, кого недавно видел на лекции у старца. А чуть дальше – куча черноглазых держала обмотанного, будто паучьим коконом, верёвками парня моих лет. У его ног лежала мёртвая старуха без головы, и тот самый дед со странным посохом. Деревяшка была изрублена в щепки. Дед – в лоскуты. В луже крови лежала девушка. Её светлые волосы превратились в красно-бурый колтун. Там, где не были вырваны вместе с кожей. Высокий черноволосый мужик в странном синем колпаке и черной одежде что-то орал на неизвестном мне языке в лицо парню. Тот стоял не шевелясь, будто неживой. Не переставая кричать что-то угрожающее, тот, в синей шапке, вытащил из-за спины упирающуюся девчушку лет семи. И сломал ей руку об колено. Малышка не плакала, только сдавленно икала, глядя с ужасом на десницу, что висела, чуть качаясь, согнутая в обратную сторону.
Парень неуловимым движением вывернулся из заверещавшей разом толпы и оказался возле рослого брюнета. Руки, связанные в локтях за спиной, помочь ему ничем не могли. Да и пальцев на них уже не было. Молча, без единого звука, вцепился он зубами в горло черного носача и, резко дернув головой, одновременно падая на колени, вырвал тому глотку. А падал он потому, что был уже мёртв. Визжащие от ужаса и злобы кривоногие черноглазые черти изрубили в кровавые брызги и его, и дочку.
– Они искали меня. Долго искали. На этой земле, между тремя большими реками, с закатной стороны от Северных Увалов и до самой Белой Гряды, нас было три дюжины. Осталось двое.
Я, тот, который без туловища, верха и низа, поднялся над полем, отдаляясь от верещащих людей с саблями, что, кажется, уже начали пожирать тела тех, кого изрубили. Показался край леса. Потом он стал виден весь, целиком. И тёмная крона дуба в самом центре неправильной формы круга, который образовывали другие деревья, вздымалась гордо. И скорбно. Поднявшись ещё, за облака, гораздо выше, чем летали птицы, разглядел с трудом нитки главных рек, в которых искрилось Солнце. И такие же искорки будто мерцали в сердцах дубрав, березняков и хвойных лесов. И гасли одна за другой, поглощаемые тёмным маревом, что волнами накатывало сперва с юга и востока, а потом и с запада. Одна искра осталась прямо подо мной, между Волгой и Десной, ближе к Волге. Вторая – западнее, ближе к Десне. Ориентироваться по местности, на которой не было водохранилищ и привычных каналов, а ещё городов и дорог, было сложно. Но как-то получалось.
– Теперь нас меньше трёх дюжин на всей Земле. А было сорок сороко́в. И из сил – только память. Знания. И вера нескольких преданных друзей. Не лучший расклад, конечно. Но какой есть. Спрашивай.
Я будто открыл глаза. Хотя не помнил, чтобы закрывал их. Та же круглая комната. Та же лавка. И тот же дядя Митя рядом, смотревший мне в глаза с тревогой. Только вместо прутика на этажерке – ровесник мира, свидетель ужасов и побед, великий и могущественный разум, память само́й Земли. И одно из последних Её великих творений, сохранивших преданность Ей. Мы с лесником сидели у него на коленях. Потому что он был здесь всем: стенами, крышей, полом. И под землёй простирался на десять шагов в каждую сторону.
– Как мне звать тебя? – выдохнул я, попутно удивившись, зачем надо было напрягать рёбра, пресс, язык и голосовые связки, если можно гораздо проще.
– Как я могу тебя называть, чтобы не обидеть нечаянно незнанием? – мысль передавала больше, чем самая артистичная интонация.
Дядя Митя, казалось, услышал подуманное мной – брови разошлись от переносицы, на лице расцвела улыбка, словно он встретил родного человека после долгой разлуки.
– Как хочешь – так и называй. Нам не нужны имена. Это вам сложно говорить и думать о том, чему нет названия. До поры. Митяй зовёт меня бесхитростно: «Дуб», – если мне не показалось, то в потоке проскользнула ирония. «В потоке» – потому что это не было сказано, произнесено, продумано или как-то по-другому воспроизведено. Это была чистая энергия, что струилась вокруг и сквозь меня, откуда я мог достать то малое, что было доступно. И надеяться на то, что со временем будет доступно больше. И что это время настанет. И мне доведётся встретить его живым.
– Он хорош, Митяй. Он умеет и не боится думать. Теперь ты понимаешь?
– Да, Дуб. Хорошо, что ты настоял. Едва не разминулись мы со Славкой, – мысли деда не были потоком энергии. Они воспринимались её сгустками. Пришло на ум странное сравнение: Дуб играл на орга́не, как музыкант-виртуоз. Лесник одним пальцем тыкал в детское пианино на батарейках, пробуя попасть в мелодию.
– Я рад встрече и знакомству, Дуб. Жаль, что не смог встретить тебя раньше. Скажи, чем я могу помочь тебе? – я надеялся, что мои мысли будут звучать хоть немного складнее дедовых.
– Рад и я. И сожалею о случившемся с тобой. Это плохо и неправильно. Но это наука и опыт, а они редко бывают приятными, к скорби моей. Почему ты сказал «Славка», Митяй? – один из листов на правой ветви дрогнул, будто Дуб заинтересованно поднял бровь в сторону Алексеича.
– Ты же знаешь. А, надо, чтоб он тоже знал, я понял, – и лесник рассказал-промыслил его давешнюю выкладку про Ярь и Славу, и их соотношение во мне.
– Логично. Разумно. Но неверно, – Дуб отозвался тут же. И, кажется, эту связку сочетаний он донёс привычно, будто привык повторять её очень часто, как любимую поговорку.
– В нём редкий по нынешним подлым временам запас Яри, Митяй. И это вредило ему всю жизнь. Нельзя жить вольно, пытаясь угодить сперва родне, потом любимой, потом князьям. Не умеет. Но хочет научиться. А значит – может. Ты спросил, чем можешь мне помочь, Яр. Начни помогать с себя. Из больного – плохой лекарь. Из немого – неважный певец. Слабый – не лучший защитник.
Я чувствовал, что Дуб сообщал что-то бо́льшее. Но мне не хватало понимания. Как в той истории с измерениями.
– Да, я хочу научиться. Ты можешь дать мне мудрость и силу, Дуб? – мне казалось, что каждая следующая умозрительная реплика, если можно так сказать, получалась легче и свободнее.
– Ты уже учишься. А мудрость и сила изначально даны каждому разумному. Развивать их, оставить как есть или отказаться от них – личный выбор. Тобой всегда двигал долг, воспитанный с юных лет. Ты был должен слушаться, выполнять указания, соответствовать ожиданиям. Не вини за это родителей, это не их ошибка. Их самих так воспитали. Долг и рабство – разные вещи. Ведь даже понятия отличаются. Вас слишком давно приучили подменять одно другим.
Казалось, я по-прежнему понимал не всё, что сообщал Дуб. Так бывает, когда начинаешь учить чужой язык и читаешь текст на нём – догадываешься о смысле по знакомым словам и контексту. А ещё мне припомнились учения и религии, где деревья давали знания. И везде это откровенно порицалось. Но те, кто повисел на копье, прибив себя к стволу, или отведал плодов, признавались равными Богам. Правда, пользы с того было очень по-разному.
– Он определенно хорош, Митяй! Он учится на несколько порядков быстрее. До сказки о вашем одноглазом Боге дошёл после третьего вопроса, из которых один был данью вежливости, второй показал его человеком чести, а третий раскрыл его слабость.
Лесник светился гордостью, будто я был его любимым учеником или родным сыном.
– Да, ты можешь стать сильнее и мудрее, Яр. Ты слишком часто умирал за краткий промежуток времени даже для людей. Потеря части себя – всегда смерть, что бы ни говорили ваши пророки. Ты сохранил жизнь, пусть и волей случая. И взял её в свои руки. Я полагаю, тебя ждёт большое славное будущее. Или спокойная размеренная жизнь. Потому что теперь ты знаешь, что сам волен выбирать дорогу.
– Задавай свой вопрос, Дуб, – попросил я. Мне в голову не шло больше ни единого вопроса, которым стоило бы прямо сейчас озадачивать разум такого уровня и масштаба. В ней, в голове, вообще стало как-то просторно и свободно. Казалось, все накопленные за всю жизнь знания могли поместиться в спичечном коробке. А я стоял даже не под сводами храма вселенской мудрости. А под высоким чистым небом. И мудрость была вокруг меня. Я знал, что могу научиться находить её сам.
– Сколько зим своей жизни ты готов подарить мне, Яр? – в вопросе не было даже намёка на эмоции.
– Возьми столько, сколько считаешь нужным, Дуб, – я, кажется, начал отвечать раньше, чем завершилась мыслеформа.
Никогда не умел торговаться. С мамой на рынке мне было неловко. Даже когда узнал, что это особое правило коммуникации, что купить у восточного человека что-то не торгуясь – значит, обидеть его. Даже это понимание не убирало неловкость, испытываемую с детства. С Богами торговаться было вообще как-то глупо. Особенно принимая во внимание то, что я, судя по скорости ответа, начинал всё лучше понимать этот странный язык энергий.
– Без яри в душе так не ответить, Митяй. Теперь, в это время, один человек из нескольких тысяч не стал бы считаться, выгадывать и искать свой прибыток. И ты привёл именно его.
– Ты всегда учишь, что случайности не случайны, – Алексеич почтительно склонил голову.
– Именно так, Митяй. Именно так.
В безмолвном разговоре возникла пауза. Лесник сидел рядом, не сводя с Дуба глаз. Я продолжал восхищаться той широтой и высью, что открылась мне в моём же собственном сознании. Чем занимался Дуб – даже думать не хотелось. Я понял тех, кто из поколения в поколение отдавали ему самое дорогое и важное. У меня кроме этой жизни, если вдуматься, ничего не оставалось. И пожертвовать… Нет, неправильное слово. И подарить её ему было не самой плохой идеей. С его знаниями и возможностями он явно использовал бы мою силу лучше меня.
– Я благодарю тебя, Яр! – необъяснимое чувство радости и щенячьего восторга вспыхнуло в голове, душе, сердце, в каждой клетке, кажется. Хотя за что было меня благодарить – не понимал.
– Но меня же не за что, – оказывается, и мысль может «звучать» растерянно.
– Ты открыл сердце. Ты готов меняться. Ты знаешь о чести. Это достойно благодарности и уважения, человек. И если ты готов принять совет – я дам его.
– А как же отдать годы жизни?
– Ты вряд ли сможешь представить или вообразить, как долго я живу. И за всё это время я так и не научился забирать силу у тех, кто слабее.
Глава 6. Советы мирового древа
Мы вышли из странного овина, который одновременно оказался и оранжереей, и обсерваторией, и музеем, и алтарём. Алексеич, проходя мимо шнура к бане, пощупал портянки и досадливо поморщился – не высохли. Я упал на лавку и попробовал унять хоровод мыслей, что кружил и увлекал, не давая сосредоточиться ни на одной. Буквально любая тянула за собой из памяти обрывки образов, странных очертаний, форм, звуков, цветов и запахов. Которых там до этого точно не было. Откуда бы мне помнить, как пахнет папоротников цвет?
Дед вернулся из избы с чайником в одной руке и двумя эмалированными кружками в другой. Сел на лавку с другого края и расположил между нами всё принесённое. Из кармана штанов достал банку сгущёнки. И вторую – из другого. Разложил неторопливо складной нож, старый, сильно сточенный, с чёрными пластмассовыми накладками на боках рукоятки. На них была изображена странного вида белка, с коротким хвостом, непропорционально длинная и какая-то толстозадая. Лесник пробил по две дыры в каждой из банок: одну побольше, вторую совсем небольшую, чтоб только воздух проходил.
– На-ка вот. Я всегда, когда от Дуба выхожу, полбанки выпиваю. Он говорит, что нам трудно с непривычки много информации усваивать, мозги сладкого требуют. Столько лет хожу – а всё никак привычку не выработаю, – проговорил он и присосался к банке.
Я повторил его движение, отметив, что руки холодные и дрожат. Пришлось держать жестянку двумя ладонями. Сладкая густота, казалось, до желудка не доходила – всасывалась сразу во рту и напрямую попадала в мозг. Почудилось, что вокруг даже как-то просветлело. Только сейчас заметил, что в глазах было темно с того самого момента, как вышли из овина.
– Амбар. Дуб говорит, что это слово лучше подходит. Древние персы так называли свои хранилища, потом и у нас прижилось. Была бы печка внутри – был бы овин, – дядя Митя снова ответил на вопрос, не прозвучавший вслух. Я кивнул, не отрываясь от сгущёнки.
Запивая прямо из носика, мы «чаёвничали» до тех пор, пока моя банка не стала издавать неприличные звуки, а после опустела вовсе. Дед отставил свою раньше. Видимо, какая-никакая, а привычка у него всё-таки была.
– Я думал, дня три в амбаре просидели, – выговорил-таки я, прополоскав липкий рот крепким чаем.
– Всегда так кажется, ага, – согласился лесник.
– А если по солнцу смотреть – часа не прошло.
– Час с копейками. Девятый доходит. Что делать думаешь? – он смотрел на меня выжидательно.
– Ты что-то должен мне показать. Что-то важное. А потом я поеду к твоему коллеге, Сергию, – ответил я, попутно удивившись, что эти, будто давно решённые, планы выплыли словно сами собой разумеющиеся, без усилий и каких-либо противоречий с моей стороны.
– Ого. Шустро. Не удивительно, что сгущёнку всю всосал – как не бывало. Видать, многое сразу Дуб поведал? – под седыми кустистыми бровями горел интерес.
– Не то слово, дядь Мить, – снова кивнул я, пытаясь одним глазом заглянуть в пустую банку, чтобы убедиться в том, что она действительно пустая. Лесник подвинул мне свою. Судя по весу, там оставалось около половины. Её я уже смог уверенно держать одной рукой.
Странное чаепитие, о котором впору было бы писать старику-Кэрроллу, завершилось вместе со второй банкой сгущёнки, когда солнце почти полностью показалось над соснами. Мысли в моей голове никак не унимались, но теперь хотя бы скорость хоровода была терпимой. И почти не укачивало.
– Отудобел малость? – спросил Алексеич, глядя на меня внимательно.
– Вроде как, – согласился я, прислушиваясь к самому себе. Очень интересное ощущение. Знаешь, что говорит тебе организм. Понимаешь его. Никогда такого не испытывал, кажется.
– Ну пошли тогда, – он поднялся с лавки и открыл дверь в предбанничек.
Когда глаза привыкли к темноте, разглядел одно из вёдер, тех, в которых вчера носил воду. Только в нём внутри была круглая железная миска. А на ней лежал чёрный булыжник, размером с буханку ржаного. Дед надел голицы, такие брезентовые варежки, в которых, кажется, вчера хлестал меня вениками.
– Осторожней, Славка, близко не подходи. Оно прыгнуть вряд ли сможет, но вот спорами плюнуть запросто успеет, – лесник выглядел серьёзным и сосредоточенным.
– Оно? – я пробовал найти в памяти хоть намёк на то, что могло скрываться в ведре. Но кроме сигнала «опасность» ничего не ловилось.
– Про симбионтов помнишь? Паразитов, то бишь? Росток Чёрного Дерева. Который мы вчера с тебя сняли. Не любит, падла, ни жара, ни мороза. Поэтому в наших краях медленнее всего продвигалось дело у них, – дед смотрел на ведро с ненавистью.
– Оно разумное? – я даже подходить не спешил. Как-то не тянуло.
– Условно говоря – да. Подчинить себе волю носителя, заставить его совершать определённые действия. И питаться. Это умеет отлично, – он зло покосился на накрытую камнем миску и, казалось, едва не сплюнул под ноги.
– А чем оно питается?
– Эмоциями. Ну, Дуб говорил что-то про гормоны и какие-то ещё хреномоны, но в общих чертах – эмоции. Боль, страх, отчаяние. Отчаяние для них вообще чистый мёд.
– Как его убить? – это явно было нужным знанием.
– Спалить, как ещё? Дерево же, хоть и условно разумное. Только эта мразота очень неохотно горит. Тут главное – не убить. Главное – иммунитет к ним получить. Дуб, пока ты с ним говорил, часть себя тебе подарил. Она должна помочь вражью волю побороть. Но основная сила – твоя, конечно. Сам должен хотеть, сильно хотеть. Если справишься – будет дело.
– А если не справлюсь? – лучше знать, к чему готовиться. Мало ли что.
– Ещё раз в баньку сходим. Но должен совладать, конечно. Вон как он хвалил тебя. На моей памяти – первый раз так гостю порадовался, – мне показалось, или ведро в руках старика дрогнуло?
– А много гостей было… на твоей памяти? – где-то глубоко внутри я знал, что лесник выглядит значительно моложе своих лет. Но точного ответа не было. Значит, надо было задать точный вопрос.
– Я, Славка, давно живу. Многое видел. И многих. Полторы сотни человек привёл к Дубу, сто пятьдесят первый ты. Он не каждый год гостей зовёт, и ни разу не было, чтобы больше двух за год. А родился я в один год с Императором Всероссийским Александром Третьим Александровичем, – покосился на меня лесник, будто проверяя эффект от сказанного.
Эффект был. Память копнула в школьную программу и сообщила, что Император-богатырь родился точно не в двадцатом веке, и даже не в конце девятнадцатого. Точный год не сообщила. Я уставился на Алексеича по-новому, с изумлением.
– Мне полтораста давно уж исполнилось, Славка. Дуб друзей бережёт, помогает, хвори отводит, немочь старческую гонит. Говорят, те, кто больше одного Дерева в друзьях имеет – ещё дольше живут, да только я таких не видал давно. Их чёрная сволочь ищет рьяно, настойчиво, не жалея ни слуг, ни времени.
Ведро снова дёрнулось. Теперь это было очевидно. Кто-то внутри явно стремился наружу. И знакомиться с ним мне решительно не хотелось.
– Не робей, Славка. Смотри внимательно. Я сейчас крышку сниму, ты не дыши – вдруг спорами плеваться начнет, паскуда? Тебе надо в руки его взять, да в топку засунуть. Если ростки к тебе тянуть начнёт – стряхивай. Быстро присосаться не должен – в кипятке полежал, но в виду имей. Сильная тварь, матёрая. Кто и подсадил-то тебе такую?
Лесник раскрыл топку, в которой ярко горел огонь. А я ещё с утра удивлялся – откуда это дымом тянуло? В маленьком закутке стало посветлее. Неровный свет поселил на стенах большие пляшущие тени, смотревшиеся тревожно, как раз под стать ситуации. Протянув мне голицы, дед пододвинул ведро между мной и пламенем. Я натянул варежки повыше – мало ли что означало это «присосаться» и «ростки тянуть». Снял с миски булыжник, отложив в сторону. Алексеич не сводил глаз с моих рук. У него в левой появилась кочерга, а в правой – тот складной нож с белкой, которым он недавно открывал сгущёнку.
Нажав на ближний ко мне край миски, я чуть наклонил её. Из появившейся щели в сторону пламени тут же показались три тонких проволочки, похожих на усы клубники. И зашарили, оскальзываясь, по поверхности ведра. Дотянулись до края, видимо, нагревшегося от огня, и отдёрнулись обратно, продолжая скользить там, где, видимо, железо было холоднее.
Я убрал миску, сильнее наклонив ведро к топке. На дне лежало что-то, напоминавшее чайный гриб, которые раньше почти в каждом доме плавали на кухнях в трёхлитровых банках с задумчивым видом. Скользкая на вид поверхность была усыпана такими же «усами», только коротенькими. Хорошо, что на этом чём-то не было глаз – было бы ещё страшнее. Хотя куда уж.
– Не тяни долго, – напряженный голос старика царапнул по ушам. Глянцево-чёрная студенистая масса вздрогнула и начала тянуться, будто покрывая тонкой пленкой стенку ведра с моей стороны, вытягиваясь вверх.
Я опустил руки внутрь, пытаясь ухватить расползавшееся во все стороны невнятное тёмное месиво. По ощущениям было похоже на медузу, хотя я никогда до сих пор не держал в руках медуз, тем более в брезентовых варежках. Стараясь не выпустить жуткое чёрное желе, бросил его в топку. Почти всё улетело в огонь, зашипев и удушливо завоняв, почему-то, палёным волосом. Часть осталась на ткани.
– Голицы в топку, Славка! – выдохнул дед.
Стягивая одну варежку, я почувствовал, как что-то кольнуло в правое предплечье. Резко провёл царапавшей тканью, отодрав вместе с кожей тонкий шевелящийся ус, что уже начинал уходить под кожу. И швырнул всё в пламя. Дед со звонким стуком захлопнул чугунную дверцу и буквально вытащил меня на улицу, под нестерпимо яркий свет утреннего Солнца, усадив на лавку.
Меня шатало даже сидя. Перед глазами плясал амбар. Дедовы портянки на верёвке будто в ладоши хлопали, хотя ветра не было и в помине.
– Борись! Не пускай его, Славка! Ты должен победить! – голос лесника звучал откуда-то издалека, хотя он, вроде бы, сидел рядом, держа меня за плечи.
Катя. Моя Катя. «Бывшая», как учил говорить Хранитель. Я увидел, как она положила в пласт говядины три раскрытых булавки. И как скормила это Чапе. Собака недоверчиво обнюхала любимое лакомство и руки хозяйки, что пахли железом. Но поверила человеку, которого любила. И съела всё без остатка. И легла, положив морду на передние лапы, глядя на отвернувшуюся от неё женщину хозяина. Большими, влажными, чуть грустными глазами.
– Ярик, а ты скоро сегодня? Чапа как-то странно выглядит, не заболела ли? – услышал я голос, который так любил.
Пирог, яблочный с корицей, та самая фирменная Катина шарлотка. Вот он появляется из духовки, румяный и ароматный. Вот стоит на подоконнике, остывая от жара. А вот руки неторопливо, по щепотке, рассыпают на золотисто-кремовую поверхность какой-то чёрный порошок. Едва заметные точки которого пропадают, будто всасываясь в тесто. Руки заворачивают пирог в рушник, вышитый красными нитками. И мы везём угощение моим родителям.
А вот и я. Сплю. Крепко. Дорожка слюны на щеке. Красная полоса от подушки на ней же. Рот закрыт. Женская рука зажимает нос. Через несколько секунд губы расходятся, а между ними другая рука вставляет какую-то деревянную трубочку, сплошь покрытую странными знаками, похожими не то на руны, не то на иероглифы. Бывшая дует в трубку – и споры Чёрного Дерева попадают в спящего Ярика Змеева. А он продолжает крепко спать. А я вижу, как в лёгких, скрытых кожей, мышцами и рёбрами, начинает формироваться тёмный сгусток. Пятно Тьмы.
Перед раскрытыми глазами начали проявляться контуры двора. Первым прорезал небо колодезный журавль. Казалось, что его шея-стрела указывала мне на что-то важное. Опустив взгляд, я увидел на правом предплечье, там, куда кольнул чёрный ус, маленькую, со спичечную головку размером, ранку. Из неё выползал извивающийся отросток, маленький, миллиметра три-четыре, и толщиной чуть больше волоса. Вслед за ним выступила ярко-алая, от солнца, что ли, капля крови. И будто вскипела прямо на глазах – покрылась пузырьками, словно кто-то капнул на неё перекиси. А росток, дёрнувшись судорожно ещё пару раз, вспыхнул и замер. Осталось тающее в воздухе облачко вонючего дыма. И серый пепел, растворившийся в красном пятне. Тут же застывшем корочкой, как на старой ссадине.
– Опять Дуб не ошибся. Столько Яри я никогда ни в ком не видел. Ты молодец, Яр! Ты победил! – Алексеич радостно хлопнул меня по плечу.
А я продолжал сидеть не шевелясь, сглатывая злые ядовито-горькие слёзы. Которые опять текли внутрь.
Обедали в горнице. Дед поставил на стол здоровенную сковороду картошки с грибами, а рядом – миску густой настоящей сметаны. Всё приготовление я пропустил – сидел на нижней ступеньке крыльца, накрыв левой ладонью ту ссадину над правым запястьем. А перед глазами снова и снова крутились образы, что я собрал из «памяти» чёрного слизня. Теперь я знал, откуда берутся эти пятна Тьма. И как различать их носителей. И тех, кто превращает обычных живых людей в плодородный эмоциональный субстрат для полуразумных паразитов. Знал и то, что симбионты будто объединены в общую сеть, вроде грибницы, только нити мицелия были не физическими, а энергетическими. Знал, что Чёрное Дерево почувствовало, как завял один из бесчисленного множества его ростков. И что теперь будет искать и выяснять, где это случилось и почему. Но сюда его слуги не доберутся.
Память, будто подстёгнутая сегодня двумя этими странными древесными «прививками», рассказывала многое.
Княжна Беклемишева повесилась на болоте не от несчастной любви. Точнее, не совсем от неё. Пятно Тьмы тогда опасно близко подобралось к Дубу. Лесной пожар, устроенный тогдашним Хранителем, предшественником и учителем Алексеича, пущенный «встречным па́лом», скрыл и запутал следы.
Арестантов ДмитЛага было не сто, а двести шестнадцать. Три шестёрки, или шесть в кубе. Малая гекатомба. Среди людей в фуражках с васильковыми околышами было много тех, пятна Тьмы в которых, казалось, были видны даже неподготовленным людям. Зло тогда плясало свой ритуальный танец ярко, завораживающе. Многие запреты и ограничения были сломаны и поруганы. Замучить и утопить в болоте две сотни народу с лишним – капля в море. Тогда Дубу пришлось тяжко. Вместо него сожгли трёх его детей. А его самого Алексеич спрятал в амбаре. Чудом не нашли. В ту пору чудес было очень мало, но случались.
Почти сто лет не было и духу чёрных слизней в этом заповедном лесу. Горели другие – от Полесья до Залесья. Извели тёмные твари и их слуги всех великанов на древнем Радонежье, между Волгой и Камой. Дерева́, что пережили ледники, потраву и пожары, не покорившиеся каганам, бекам и ханам, умирали в огне, разведённом потомками тех, кого они учили тысячелетиями. В тёмное время люди с чёрными душами поднимались высоко и быстро. И щедро сеяли вокруг себя ростки своей веры и силы. То есть, конечно же, не своей.
Дубы, Липы, Ели, Сосны, Вязы, Осины, Клёны и Ясени держались сотни и сотни лет и зим. Но волна пожаров новейшей истории оказалась сильнее. Там, где на протяжение веков росли десятки – остались единицы. От Северной до Западной Двины, богатых и гордых рек, из тридцати шести деревьев выжило два. И одно из них посылало меня к другому, передать весть. Какую – я не мог понять пока даже примерно. Дуб будто загрузил в меня какую-то программу, ключа к которой не было. Как и мощностей для запуска подобного «приложения». Я был гонцом, курьером, почтовым голубем. Ну, все с чего-то начинали. Знал только, что нужно было торопиться – у Хранителя второго дерева были какие-то проблемы, и медлить не стоило.
После обеда мы попрощались с дядей Митей. За половину дня я, казалось, вполне освоил «мысленный» язык, поэтому «говорили» мы и за столом. Лесник уверял, что со временем я научусь «слышать» его на любом расстоянии. Пока я хорошо понимал адресованные мне мысли, только если видел собеседника. Но такое общение в любом случае получалось быстрее, богаче и как-то объёмнее привычного обмена звуками. Я узнал, как Алексеич, тогда ещё просто Митяй, забрёл в эти места. Как подружился с Дубом и стал Хранителем. Как уберёг его в годы революций и войн. Узнал, как правильно смотреть и «видеть» переносчиков чёрной заразы, и что от тех, кто выше третьего ранга, надо бежать сломя голову. Всего рангов было пять. Бывшая была как раз на пятом. А тётка её, что растила племянницу с детства, после неслучайной гибели родителей девочки, стояла на границе третьего и второго ранга. Старая, хитрая и опытная ведьма, в самом плохом смысле этого слова. Лесник рассказал, что их, Хранителей, раньше, в разные времена, звали ведунами, ведьмаками, кощунами, кудесниками и волхвами. Но та пора, когда люди уважали их знания и умения, давно прошла. Как и те периоды, когда их попросту боялись. Что за беда у Хранителя того, второго дерева, он не знал, но советовал не тратить времени зря, раз Дуб так велел. В том, что хозяин и родитель здешнего леса не ошибался, мы оба были уверены полностью.
Серо-зелёный камень, один из тех самых «синь-горюч камней», которыми славилось Радонежье, да и всё Залесье, встретил меня той же самой, кажется, змеёй, что совершенно так же грелась в лучах Солнца на тёплой груди валуна-великана. Я знал и то, что много-много лет назад вятичи, что жили тогда в здешних лесах, почитали огромный гранитный осколок за Бога, приносили хлеб и молоко. За это никого из них никогда не кусали местные гадюки. Про Дуба древние люди не знали, кроме двух-трёх Хранителей в каждом из поколений. Но те, уйдя из роду-племени, пропадали для людей, становясь ближе к Богам. Которые старались таким образом оградить от бед и себя, и люд вокруг. Жаль, везло не всегда.
«Пятьдесят третий» подъехал через семь минут после того, как я дошагал до Вороново, как по заказу. Странно, но вид чужого дома на месте нашего сегодня почти не трогал. Видимо, в том чёрном хороводе зла, что явил мне Дуб, моё персональное горе растворилось почти без остатка. То, что сделанного не воротишь, сомнений не вызывало и раньше, а теперь стало подтверждённой истиной. Но можно было сделать что-то новое, лучше и правильнее. Именно этим я и планировал теперь заниматься.
От Игнатовки старой тропкой едва ли не бегом рванул к гаражам. Только сперва прошагал мимо ворот, что не так давно запирал за собой навсегда, в сторону магазина с запчастями, что ютился прямо на территории гаражного кооператива. Особо технически подкованным себя не считал никогда, но если не богат и ездишь на старой машине – приходится выкручиваться чтением форумов, общением с работягами на сервисах. В мой последний к ним визит мне грустным голосом сообщили, что «Гена – всё». На человеческий это переводилось, как «генератор перестал генерировать и больше уже не начнёт никогда». Новый «Гена» стоил, как полноценный «Геннадий», поэтому утрату старого я запомнил даже на том смазано-размазанном общем фоне сплошных потерь и неудач. Слабая техническая грамотность и внезапно появившаяся надежда на лучшее в один голос говорили мне, что новый аккумулятор должен вернуть Форда к жизни. За ним в магазин запчастей я и зашёл.
– О! Здорово, упырь! – раздалось неожиданное приветствие, стоило мне только звякнуть дурацким колокольчиком над входной дверью и попасть в царство новых покрышек, автохимии, металла и пластика, запах которых тут же ударил в нос, ставший неожиданно чувствительным.
Приглядевшись, я увидел за стойкой Женька́, одноклассника. Он после восьмого класса отправился в «путягу», которые тогда гордо именовали колледжем. Потом, говорили, отслужил где-то. Потом сидел, но недолго и как-то неубедительно. А манера общения у него со средней школы ничуть не поменялась.
Вот только теперь я совершенно отчётливо видел, знал и был уверен: из нас двоих упырь – точно не я.
Глава 7. Мастера и Странники
Не поручусь за то, что понял или хотя бы примерно представлял, как это работает – но то, что Женёк точно таскал в себе Пятно Тьмы, которое вполне тянуло на четвертый ранг, оставаясь пока на пятом, было очевидно. Нет, слово неверное. Очи в процессе этого «ви́дения» никакого участия не принимали. Но это было решительно не важно.
То, что жило под кожей продавца заштатного магазинчика автозапчастей на дальней окраине не самого большого, но старого и памятного подмосковного города, обладало своей волей и было связано, как и все они, с Чёрным Деревом. А ещё, судя по размеру, контролировало не меньше трёх собственных ростков, которые питались чувствами и эмоциями своих носителей. Четвертый ранг мог удерживать до семи. Третий – дюжину. Тот, кто носил Пятно, должен был делать всё для того, чтобы ростки не испытывали недостатка в пище. А самой лучшей, как я помнил точно, для них было смертельное отчаяние. Растение или, вернее сказать, сущность, которую таскал в себе Женёк выглядела вполне сытой, довольной и уверенной.
– О, привет, Жека! Какими судьбами? – я старался говорить спокойно и уверенно.
– Вот, теперь автолюбителям помогаю. А ты же, говорили, в столицу рванул с молодой женой? Врут, что ли? – в глазах Женька́ появился интерес. Неприятный.
– Не, всё так, всё верно. Заехал кой-чего с дома забрать, в Вороново. Да вот как на грех батарейка села в Форде. Есть чего подходящее у тебя?
– А что за авто, напомни? – вот теперь вопрос, как и интерес, были чисто профессиональными. А то тёмная тварь внутри на предыдущем будто бы ворочаться начала.
– Форд Галактика, второе поколение, девятого года, два литра, бензин.
– Ща глянем, погодь! – он защёлкал мышкой, полностью погрузившись в монитор. Свернув, предварительно, судя по отражению в зеркальной витрине за его спиной, какой-то ролик явно скабрёзного содержания. Я сделал вид, что ничего не видел.
– Смотри, есть Варты, чешские, на шестьдесят пять. Есть тюменский, на семьдесят семь, многие хвалят, он подешевле. Но я бы взял корейский, на восемьдесят – классный, мощный, вообще тема! – в Жеке явно заработал, дремавший в пустом магазине, продаван.
– Давай тюменский, я сейчас не при бабле особо. Разживусь – возьму корейца, – предложил я.
– Гляди, а я как раз кроме запчастей по микрокредитам малость верчусь! Давай быстро тебе сделаю, прям на месте, пять минут? – взгляд его стал цепким и ещё более неприятным. И зараза внутри насторожилась. Она же контролировала гормоны в крови носителя, всплеск адреналина не прошёл незамеченным.
– Не, Жень, не нужно. Мне до дома добраться только. Да и всё равно планировал в этом году тачку менять, – отмахнулся я.
– Поднялся в столице? Есть варианты по инвестициям, кстати. Триста процентов через год, а? – тьма внутри него шевелилась всё заметнее. И сам он как-то заметно напрягся, почёсывая синий перстень, наколотый на среднем пальце левой руки.
– Нет, не настолько, – покачал головой я с деланым сожалением, – но на батарейку тюменскую хватит. Она точно по размерам встанет?
– Ты к специалисту пришёл, Змеев, к э́ксперту, нна! – на рябоватом лице Женька́ расцвели осознание собственной значимости и превосходства. И он ушёл вальяжной походкой в какую-то подсобку за витринами.
За моей спиной звякнула висюлька над дверью, и в полумрак торгового зала вошёл новый посетитель. Худой парнишка лет двадцати, сутулый, с длинными, давно не мытыми волосами какого-то светло-мышиного цвета, густо покрытый прыщами. Он как-то затравленно посмотрел на меня и боком подобрался к стойке. То, что жило в нём, явно было связано с Пятном в Женьке́.
– О, Тёмыч, привет! Принёс? – в голосе продавца-инвестора сперва звучала неискренняя радость, а потом – жёсткое нетерпеливо-требовательное ожидание.
– Жень, дай неделю, а? Заказ сдаю послезавтра, придёт расчёт – всё верну, правда! – прыщавый сразу начал скулить.
– Не, Тёмыч, так дела не делаются, – Жека сложил руки на груди и говорил через губу, – ты и так две недели уже мне мозги паришь! До конца дня срок был? Полдня осталось. Ищи где хочешь, не мои проблемы.
Пятно внутри него пульсировало в унисон с мраком под рёбрами парня напротив. Я чувствовал, как энергия перетекала от одного к другому.
– Жень, ну негде сейчас, вообще негде! Мамка лежит-не встаёт, отчим синий вторую неделю, если б и было что из дома взять – всё равно не вытащить. Ну неделю всего, Жень! Ну пожалуйста, – губы тощего задрожали и на глазах показались слёзы. Выглядела вся эта сцена мерзко.
– Ладно, хрен с тобой. Пять дней даю. Но принесёшь не двадцатку, а двадцать две пятьсот, понял? – Жека навис над стойкой и едва носом не упёрся в давившегося слезами парня перед ним.
– Да я ж всего семь тысяч занимал, – проныл было тот.
– Ты не занимал! Ты оформил кредит! По закону! И отдать должен был в срок, без всей этой хрени «Женя, дай недельку, Женя, дай вторую»! Всё! Пять дней у тебя. Двадцать две пятьсот. Мне похрену, где брать будешь. Вали отсюда, не видишь – у меня люди?
Сутулый выскочил за дверь, как и не было его – только железка над дверью позвякивала, подтверждая уход посетителя. Я присмотрелся к ней. На металлических трубочках, что висели вокруг какой-то гайки на леске, виднелись странные значки. Точно такие же, как на той деревянной соломинке, через которую бывшая подселила мне споры.
– Чо замер-то, Змей? Батарейку брать будешь? – вернул меня обратно голос Женька́.
Было нежарко, но за десять минут ходьбы до гаража я вспотел, как мышь. Виной тому был в первую очередь тяжеленный аккумулятор, что ехал на плече. А во вторую – то, что я теперь был точно уверен в правдивости, реальности знаний и воспоминаний, переданных мне Дубом.
Распахнутые ворота запустили в старый гараж воздух и солнечный свет, хоть и с самого краю. Вытолкав Форда наружу, поднял капот. Снял воздушный фильтр – без этого старую батарейку было не снять, а новую, соответственно, не установить. Накинув клемму, увидел искорки, понадеявшись, что это те самые искры жизни. И искренне обрадовался, глядя на загоревшиеся пиктограммы на панели приборов. А ещё удивился тому, что двигатель запустился, несмотря на горящую лампочку уровня топлива. Надо было спешить. До ближайшей заправки меньше двух километров, можно было и "на пара́х" доехать, как мы в юности считали. Но проверять и попадать на чистку и замену топливной системы сейчас не хотелось совершенно.
В спешке, закрыв одну воро́тину, потянулся было за другой, как вдруг глаз зацепился за что-то внутри бокса. Солнечный луч, будто ударившись о штыковую лопату, стоявшую там же, под выключателем, где и совковая, странно отыграл на противоположную стену, подстветив что-то на полке, висевшей на уровне глаз. Обычная, облепленная тёмно-коричневым шпоном, она висела тут столько, сколько я себя помнил. Последнее стекло в ней я выбил случайно локтем, когда в спешке скидывал свитер. В Форде на заднем диване тогда ждала Катя. То есть бывшая, да. До свадьбы тогда был ещё год.
Луч указал на круглую жестяную синюю банку из-под печенья, обсыпанного сахаром, которое я так любил в детстве. Оно, конечно, было слишком жирным и сладким, но кто из нас задумывался об этом, когда был маленьким? А кругленькие ещё были посыпаны корицей – самые вкусные. Я снял жестянку с полки. За ней стояла древняя банка из-под растворимого кофе, коричневая, со странной надписью «Cacique». Я совершенно точно видел её впервые в жизни. Поддел отвёрткой крышку, которую, судя по пыли, такой же, как и на всём вокруг, вряд ли трогали последние лет пять. Ну, три так точно. Внутри оказались скрученные края обёрточной бумаги, плотные, светло-коричневые. Развернув их, я увидел на дне какие-то монеты. За спиной чихнул Форд. Этот звук будто пнул меня, прозрачно намекая, что двум тоннам железа гораздо проще добраться до заправки своим ходом, чем моим. Схватив банку, я быстро захлопнул вторую створку, закрепил шпингалет и навесил на калитку замок. В этот раз она закрылась гораздо быстрее.
Бак залил полный. Семьдесят литров девяносто пятого обещали мне семьсот километров до следующей заправки. До Брянской области, того места, которое было мне нужно, навигатор показывал всего четыреста пятьдесят. Надо бы ещё еды какой-нибудь на дорогу взять, и воды. А денег после покупки аккумулятора оставалось совсем немного.
Про банку я вспомнил, только отъехав от колонок с пистолетами, встав за остановкой Поддубки, носом к городу. В планах было заехать на кладбище, попрощаться, выехать с объездной на шоссе – и вперёд, до МКАДа. Но взгляд в жестянку и бумажный свёрток внёс коррективы в изначально стройный план и маршрут. Потому что с семи монеток диаметром около дюйма, на меня внимательно смотрел профиль Императора и самодержца всероссийского Николая Второго.
