Пылала тайга
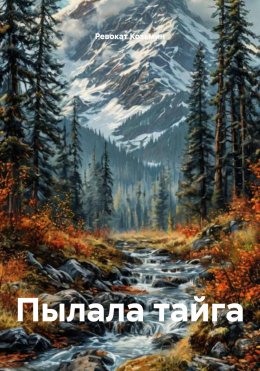
Часть 1
Мы с хозяином неторопливо допивали чай. Морозными новогодними блестками искрился за окном погожий сибирский день. Селивановка просыпалась и приводила в порядок житейские дела после затяжного снегопада. Я напросился к Страховым на короткий постой, так как в Селивановке к тому времени гостиница была закрыта и выставлена на продажу. Еще по нашей первой вечерней беседы я понял, что в местной администрации мне не случайно рекомендовали познакомиться с Антоном Савельичем. Теперь я видел, что за всей простой мужиковатостью моего собеседника кроется его внимательное и умное восприятие того, что окружает Страхова, его способность быстро и точно реагировать на ту или иную ситуацию. Прирожденная мудрость, жизненный опыт и пусть даже заочное, но полезная учеба в Иркутском сельхозинституте, сформировали в нем неординарного руководителя, в которого сам по себе вырос тракторист Антон Страхов. За проявленную активность в сплочении бригады и деловые, толковые выступления на собраниях колхозников, его избрали вначале депутатом сельского совета, а затем с преобразованием села и поселкового совета, а впоследствии доверили ему должность председателя и на этот пост он избирался ни один раз. Родившийся в Селивановки Антон Савельевич был ее кровной составной, ее пульсом, душой и сердцем.
– Слава Богу, кажись улеглось, – говорит старик, нарушив молчание, и ставит большую фарфоровую кружку на стол. – Язви ее, метет и метет, конопатит, и конопатит, – продолжает он. Ведь в любую щелку залезет, зараза. Бывало закупоривало и трубу, – хозяин поворачивает голову в сторону большой, известью побеленной печи традиционной русской кладки. Если день печку не топить – трубу снегом забьет по самую заслонку.
И пошто-то большей частью по ночам все происходит. Утром, понимаешь, без лопаты к туалету не пробиться, – прищуривая глаз под седеющей седой бровью, дед Антон смотрит в окно, за которым белым-бело раскинулось привольное, блестящее на солнце серебряное снежное раздолье, прикрывшее под собой ледяной панцирь Тунгуски. На краю этой широкой полосы, на том берегу реки, щетинистым взгорьем взбежала к самому небу да замерла, опаленная студеными ветрами, древня тунгусская тайга.
– В ум не могу взять, как это наши предки из Руси сюда, не ближний свет, пехтурой, на своих двоих добиралися. Ох, далековатенько шагать им приходилося, возьми, с Бела моря или от Волги. Представляешь, сколь одних обуток и штанов истрепать надо, штобы через чащобу сибирскую, по каменьям и болотине пробираться. А взять моих дальних предков, дак тем ишшо при царице-матушке Катерине второй, после пугачевской смуты, в коей они и с боку-припеку, может, не гуляли и то власти принудили их с Дону перекочевать за Байкал, на Даурские земли. Мои предки, к примеру, поселились на реке Онон. У границы с монголами, на диком берегу засеки соорудили и станицу освновали, выстроили наблюдательные посты. Все чин-чинарем, как положено быть, сделали, стали обживаться, укреплять заслон от монгольских набегов. Несли службу справно, хозяйством обзоводились, подружились с кочевыми бурятами, которые немало страдали от бандитских налетов монгол и увидели в казаках надежных защитников. Считай, жили-не тужили, землю пахали, добро наживали и детей ростили. Проживали по своим казачьим устоям вплоть до другого большого восстания, октябрьского, в семнадцатом.
Тогда спасаясь от красных, с Запада к манчжурской границе бежал со своей гвардией атаман Семенов. Он хотел было пополнить ряды кавалерии ононскими казаками. Но те собрали свой круг, на коем дружно решили не покидать насиженных мест, служить Отечеству, стеречь и далее расейскую границу.
Не получилось, однако, все кувырком пошло-поехало. Новая власть вскорости ни за че, ни про че принялась зажиточных казаков раскулачивать. Под эту руку попали и мои молодые родители, своим горбом поднимавшие целиковый надел, надрывавшие пуп в лесу при заготовке бревен для дома, заводившие скотину и птицу. Комитеты отобрали у них и им подобных «кулаков из враждебного класса» все, что ими было нажито трудом праведным, поставили людей под ружье и погнали кого в ненецкую тундру, кого на рудники якутского Алдана, кого вот на Тунгуску. Мол, нате вам, кулачье такое-разэтакое, и чистую воду, и волю северных ветров. Так не всем ведь довелось попить нашей родниковой водицы. Многие не дошли до Селивановки, скончались на ходу. И не знамо, как захоронены по обочинам конского тракта. Когда геологи из Иркутска сюда потянулись, торную дорогу расширили. Но все одно, машиной по ей зимой токмо проехать можно – зимником. Его кажный год бульдозерами налаживают. Сказывал дед, отец моей матери по фамилии Трухин Марк – фу ты, отечество из головы выскочило! – оказавшись в глухой тайге, вконец изможденные долгим этапом, исхудалые, полураздетые, в рваной обуви или в тряпишных обмотках, ссыльные казаки все же духом не пали, не сломились.
Антон Савельич умолкает и достает из кармана пачку «Примы». Чиркнув спичкой, раскуривает сигарету. Яростно сверкнув взглядом, сквозь дым выпущенной затяжки, он восклицает: «Подумать только! Босиком сотни верст по тайге!»; и продолжает свой рассказ.
– Здеся, получив мало-мальскую поддержку местных властей и особливо от люда простого, они сызнова взяли в работящие руки плуг и топор. Ставили избы, тайгу корчевали.
Когда я с армии пришел, так за один сезон подошвы солдатских кирзачей по нашим хребтам под лысину сбил. Это еще при том, что у нас, понимаешь ли, какие-никакие дороги есть и по тайге всюду, куда не кинь, тропы натоптаны, – Антон Савельич крутит на столе жилистой рукой кружку с недопитым остывающим чаем. Загорелое под солнцем длинных летних дней, обветренное и обожженное стужей долгих северных зим, к старости изрезанное глубокими неисправимыми морщинами, лицо его казалось вконец задубелым, если бы не оживлявшие этот суровый облик быстрые и острые глаза, глаза таежника, не позволяющего себе расслабиться, всегда готового к любым неожиданностям, глаза охотника – зоркие, точные. Вышедший в пенсионеры, он основательно увлекся любительской охотой. Его больше интересовали не трофеи, а сама тайга. Неделями он мог жить в зимовье и бродить по тайге, не переставая восхищаться всем, чем матушка природа наделила этот край.
– Вот скажи мне, милый человек, стоило ли им, о ком я упомянул, биться за этот берег, целину пахать под пашню, да под луга-сенокосы, ежели счас все это бурьяном и кустарником зарастает? – пронзая меня прямым взглядом, спрашивает Савельич. Не готовый к такому повороту разговора, я задумываюсь, мысленно прикидывая, что мне по этом поводу говорить. Средь наступившей паузы в сенцах послышались шаги и чей-то кулачок постучал в дверь.
– О, кто-то ранний явился! – заинтересованно оборотился на стук хозяин. Не дожидаясь ответа, этот кто-то распахнул дверь и клубы белого холодного воздуха хлынули за порог. Следом его быстро переступила немолодая женщина, облаченная в светло-коричневую шубу, беличью шапку, белые меховые унты, расшитые бисером.
– А, так это Дарьюшка к нам пожаловала! Катерина, встречай сестру! Где ты там? – обрадованно воскликнул Савельич, резко поднимаясь из-за стола и отодвигая стул.
– Проходи, проходи, миленькая, а мы вот с гостем чаевничаем, как раз и тебя попотчуем московскими гостинцами, – Антон Савельич жестом руки показывает вошедшей на стол, уставленный яствами. Из комнаты в прихожую, переходящую в столовую и кухню, вышла Екатерина Васильевна.
– Ты раздевайся, раздевайся, с мороза-то, – обнимая сестру, предлагает Екатерина. С гостем познакомишься. Журналист из Москвы, – застенчиво, но с оттенком горделивости в голосе, говорила хозяйка. Дарья смущенно кивнула в нашу сторону. Я привстал, поздоровавшись.
– Нет-нет, спасибо! – засмущавшись еще явственней, торопливо отвечала Дарья. В следующий раз! Меня машина ждет! – она вскинула руку в сторону улицы. Уезжаю в район. Катя, я ведь на минутку забежала, хочу тебя попросить присмотреть за моим домом. Епифан в тайгу с геологами уехал, а я в район по делам хочу съездить. Вернусь поздно, сама понимаешь. Ты уж, пожалуйста, протопи у меня к вечеру печку, не то к ночи в избе выстынет. Заодно животинку покорми. Сможешь, или очень занята? – Дарья сжимает руку сестры.
– Что ж не смочь то, не впервой, небось. Приготовлю обед своим (она смотрит в нашу сторону) и к тебе сбегаю, – заверяет хозяйка. – Поезжай с Богом, не волнуйся. Управлюсь, чё уж там! – она решительно кладет свободную руку на плечо сестры, которая все еще сжимает в своей руке левое запястье Катерины.
– Ну, так я поехала, машина ждет, – говорит Дарья, бросая недолгий синеокий взгляд в нашу сторону. И не успели мы с гостьей попрощаться, как она, кивнув головой, повернулась и вышла из дома.
– Как теперя говорят, настоящей деловой женщиной наша Дарья оказалась, – отмечает Антон Савельич. Не гляди, что без мужика живет. Она одна, почитай, да ешшо нонешний глава нашего поселка Жилин, воюют за Селивановку. Все пытаются хозяйство поднять и порядок навести в лесозаготовках. У нас же крупный лескомбинат был, совхоз лучший в районе. Оно все и там и тут рассыпалось, как трухлявое дерево от ветров в непогоду. Хочешь – обо всем расскажу и обо всех?!
– Затем и приехал… Так почему одна? А Епифан? Кто же он такой? – перебиваю я Савельича.
– Ладно, начну с его. Епишка – это её, так сказать, приемный сын. А мужика ее в ельценское лихолетьё бандиты убили. Это когда дербанили наш лескомбинат и совхоз. Что касаемо Епифана, то его наши пацаны натурально в реке изловили. Оказалось, малец родом из тунгусов. Сначала он жил у нас, но посля его Дарья у себя пригрела. У нас с ним целая история. Но ничё, вырос парень, в армии теперя уж отслужил. Да токмо меж собой все его до сих пор тунгусенком зовут. Может быть и мимо нас вода протащила бы его, ежели бы не ребятишки, рыбачившие в то утро. Кто-то из них увидал плывущую по течению перевернутую плоскодонку, а на ней пацанишку. Дети заорали, побросали удочки, забегали по берегу. Старшим среди них был мой Пашка. Молодец, не растерялся, прыгнул в нашу казанку, завел мотор – и к лодке. Пловцом по неволе оказался тунгусенок, Епифан, значит. Мокренького, еле живого притащили его ребятишки к нам домой. Удивились, как вопче не околел. В Тунгуске и летом вода шибко не прогревается, а выловили мальца после Ильина дня, в охладевшей реке. Катерина неделю выхаживала приемыша, но сколь не пыталась, так и не смогла добиться от него ответа – как он один оказался на воде. И только когда соседка наша, секретарша поселкового совета, подключилась к расспросам, Епишка сбивчиво рассказал о том, что их семья сплавлялась в сторону Верхнего Волока – это наш районный центр. А почему, каким образом, лодку их перевернуло и в живых остался только он один – мальчишка объяснить не мог. Долго выяснявшая через районную власть из чьего же рода-племени мальчуган и не добившаяся результата, наша администрация решила отправить сироту в детский дом. Откинувшись на спинку стула и раскуривая сигарету, Савельич неторопливо продолжает начатый рассказ, а я записываю сказанное на диктофон, чтобы изложить услышанное на страницах моего повествования.
Итак, обогревшая и откормившая спасенного, Катерина наотрез отказалась отдавать пацаненка, несмотря на то, что у самих в семье насчитывалось, что называется, «семеро по лавкам». Дети у Екатерины были послушными, одетыми и обутыми, к хозяйским делам приученные. Антон Савельич работал на лесоповале трактористом трелевочного трактора и приносил домой хорошие деньги. Катерина не могла, в виду полной занятости делами по дому, пойти куда-то на постоянную работу. Она говорила: «Моя забота – шить, варить, да стирать до седьмого пота.» В доме имелась доставшаяся ей от бабушки старинная швейная машина «Зингер» и по вечерам, урывками днем, Екатерина постоянно что-нибудь строчила – то платьишки и рубашонки своей пацанве, то по заказу соседям сарафаны или наволочки для подушек. Епишку она обшила с ног до головы. Благополучно прижившийся в большой семье, мальчик вскоре настолько слился всем своим непосредственным детским существом с новыми братьями и сестрами, что, наверное, основательно забыл о своей тунгусской семье. Он вместе со всеми помогал приемной матери убираться по дому, гонять на водопой корову и овец, чистить в курятнике, подносить дрова от поленницы в дом. Его особенно тянуло к лошадям. Стоило, скажем, Павлу заняться упряжью, чтобы оседлать сивого к поездке на дальний выгон, где подходила очередь Федуловых пасти общественное стадо, как Епишка, будто кто его за ниточку дергал, тут же бежал к брату, хватал уздечку или цеплялся за подпругу седла, делая вид, что тоже помогает Павлу оседлать коня.
– Отойди, Епифан, не лезь к лошади под копыта, – отталкивал малыша Павел. Зря тебя спасал чё ли? Вот лягнет, вдарит в лоб случаем – и закроются твои зевалки. Чё опосля скажут мне родители? Да и тетка Даша не похвалит. Вон она тебя как привечает! – Пашка улыбается и ласково треплет Епишку, запуская пальцы в его густые черные волосы.
Дарья, родная сестра Екатерины, жила на ту пору одна. Екатерину и Дарью мать вырастила без мужа. Скромными и статными выдались девки, обличием приветливые и красивые. Десятилетку окончили одна за другой. Дарья в Иркутск уехала, в кооперативный техникум поступила, учиться на товароведа. А Катерина осталась в селе, замуж вышла – Федуловы просватали, у которых Антошка в ту осень из армии пришел. Пока Дарья училась – Екатерина с Анотоном приумножали род Федуловых. А род Зуевых, которые должен был продлить Иннокентий, отец Дарьи и Екатерины, на них и обрывался. Младшего офицера запаса Иннокентия Зуева призвали на военную переподготовку и увезли в Украину. Полагалось, что гармонист Кеша, он же заведующий селивановским клубом и ведущий музыкант, уехал не надолго, но получилось – насовсем. Два, три ли письма он все же прислал. Писал что служится ему хорошо, что его сразу зачислили в музыкальный взвод и что кроме военной подготовки они еще и ездят по селам, дают концерты для местных жителей, с которыми сибиряки очень подружились.
– Часто выступаю сольно, – не без гордости сообщал Иннокентий. Но и, видно, навыступался Кеша, зацепился где-то ремнями своей гармоники за украинку в кофте-вышиванке, запутался в ее тесемках. По всем нотам зацепился! В последнем письме сообщил, чтоб не ждали и попросил у жены развод. Так что сестры Зуевы росли без отца, увела хохлуша сибиряка.
Дарья техникум закончила, в госпромхозе должность получила и тут же замуж вышла за местного сверстника Тихона Кузнецова. Первым парнем на деревне слыл этот высокий, ладной фигурой выделявшийся, красивый лицом, кучерявый молодой мужчина, прошедший службу в военно-морском флоте на Тихом океане. Со школьных лет они дружили, когда Тихон служил – переписывались и обменивались фотографиями. Вернувшись домой, Тихон сделал Дарье предложение. Все село гуляло на свадьбе этой самой завидной пары. Служивший мотористом, Тихон устроился на дизельную электростанцию Селивановки по своей специальности. Дарью он привел в добротный родительский дом, срубленный отцом из отборных сосновых бревен. Сам себе архитектор и плотник, Василий Кузнецов отец Тихона не только как следует, на каменную основу поставил сруб, но и любовно украсил дом по карнизу крыши кружевом из дерева, живописно очертил такой же вязью все окна и входные двери в сенцы. Тихон его не помнил и никогда не расспрашивал о нем у матери Лидии Ильиничны. По семейным фотографиям и от соседей он знал, что отец был мужиком недюжинной силы и привлекательной внешности. Мастерством своим гордился и, если брался за дело, – забывал об отдыхе и еде. Смолоду терпеть горькую и на нюх не мог. Только когда Тишка родился – сманился на радостях отметить с друзьями рождение сына. Потом на шабашках позволял себе пропустить по сотке-другой за хороший исход работы. Дальше – пошло, поехало. Отчего, люди говорят, он и погиб в тайге на лесозаготовках. Один из его дружков, Борька Гурьянов, рассказывал: «Намедни, перед случившейся бедой, он, Василий, все какой-то чудной ходил, вовсе не веселый. Задание мастера не выполнил, полдня у костра просидел, угли палкой проворочал. Чё, говорю ему, хочешь на выговор нарваться, или думашь сидням нынче премии дают?»
– Да ничё я не думаю, – бурчал он. – Токмо, вот тут, в душе какая-то жаба поселилась, ничё ни охота делать.
В ужин мы с им в нашем балке по-маленькой царапнули и за «дурочка» сели. Я его двурядь прокатил в карты. На третий заход он мне ни с того, ни с сего выдает: «Борька, вот мы с тобой по дурости своей все валим и валим тайгу. А ведь она, кажное дерево – живые. Послушаешь иной раз, вроде нонешнего, сидя у костра, и услышишь, как стонут дерева-лисины от наших пил. Соображашь, стонут, страдают. Я понимаю, когда лес, природой нам данный, деловой, созревший лес для надобности берется, для дома, скажем, и крыши, – то это дело иное. Его, как другой какой-нибудь плод, надо зрелым брать. Перезреет, упадет и сгниет – никакого проку. Мы тоже свое отживем и в землю умостимся. Только человек-то продолжает жизнь в потомках, а лес в молодняке, который мы тоже часто ненароком губим. По-людски-то следовало бы взамен одного срубленного дерева посадить два-три ли саженца. Счас то я нигде не вижу такого. Валим и валим все подряд по всей Сибири. Так-то. Кубометры, знаешь ли, набираем. Чё получше – за бугор эшелонами гоним. Отсев штабелями на делянах оставляем, все в прах переводим, в гнилье. Боженька нас, поверь, не помилует за то, что так тайгу обезобразили, накажет. Ежели не всех, так самых грешных, кто этим безобразием ворочает сверху. Ой, как воздастся им!» – с этими словами он сгреб карты в кучу, прихлопнул колоду ладонью и, не снимая верхней одежды, завалился в постель. Долго чё-то ворочался, бурчал недовольно. Затем повернулся к стенке, громко так заявил: «Борька, вот, не дай Бог, вообще-то, но ежели вдруг, меня, положим, поперед тебя лесиной пришибет, сваргань из её, родимой, крест на мою могилу. Слышь, это я тебя, как друга прошу?» – сурьезно ко мне обратился, честное слово даю, важно так разглагольствовал, – рассказывал об этой роковой исповеди друга Борька Гурьянов. Оказывается утром следующего дня, работая на деляне, Василий, как подобает лесорубу, подрезал бензопилой толстую сосну под нужным углом с одной стороны, делая тем самым своеобразный выем, чтобы дерево падало именно в этом направлении, затем обошел его и с другой стороны пропилил ствол почти насквозь. Убрав пилу, Василий взял в руки длинный шест и, упершись в дерево, стал его валить. Протяжно скрипнув, сосна медленно, словно с нарастающим грудным стоном, начала падать. Василию следовало бы либо сделать несколько шагов назад и отойти на безопасное расстояние, либо уйти в сторону – влево, вправо ли. А он, бросив шест, почему-то побежал вдоль падающего дерева. Снег был глубокий и Василий бежал скачками. Сосна, заваливаясь и сбрасывая с себя, как спросонья, залежалое снежное покрывало, цеплялась за соседнее дерево ветвями широкой кроны, с треском ломая его и свои ветви, поднимая густое облако белой пыли. Словно снаряд, пущенный из боевой пращи, обломок толстого сука со свистом полетел в сторону Василия и тупым страшным ударом обрушился на опешившего лесоруба. Тот успел только вскрикнуть и вскинуть руки вперед, словно пытаясь отмахнуться или оттолкнуть от себя что-то. Но в тот же миг, как подрубленный, Василий рухнул в снег навзничь. Все произошло на глазах у остолбеневшего Бориса, готовившего неподалеку бензопилу к работе. Когда он понял, что произошло что-то ужасное и, не помня себя, прибежал к товарищу, Василий был еще жив. Его загорелое обветренное лицо было покрыто крупным потом и каплями растаявших снежинок. Закуржавевшая на морозе от инея, борода была белой, казалось, вмиг поседевшей, а большие голубые глаза недоуменно смотрели в небо. На спину упавший, Василий лежал неподвижно, подогнув под себя левую ногу и широко раскинув руки. Досмерти напугавшийся, растерянно озирающийся по сторонам в надежде увидеть кого-нибудь и позвать на помощь, Борис нагнулся над Василием, в нерешительности протягивая руку к его лицу и заглядывая в глаза друга.
– Вась! Чё это ты так-то? – наконец выдавил он из себя. Поборов оторопь, Борис ухватился обеими руками за телогрейку друга и попытался его поднять. Василий оказался настолько тяжелым, что Борису с трудом удалось усадить его в снегу. Но стоило Борису разжать свои руки и отпустить друга, как тот вновь валился на спину. Подложив под голову Василия валявшуюся рядом шапку, выправив ему подогнутую ногу, Борис решил бежать на участок за подмогой. Когда с мастером участка и двумя лесорубами они прибежали к месту происшествия, Василий уже не дышал. Тело его было неподвижным, руки по-прежнему наотмашь раскинуты, на волосатом подбородке и в уголках губ, в раковинах ушей струйки застывшей крови, взгляд угасших глаз безразлично обращен к верхушкам деревьев, к холодному зимнему небу.
Часть 2
Выросшие без отцов, Тихон и Дарья, сами того не осознавая, отдавали один другому всю нежность чувств и ласку, которых им так недоставало в детстве и отрочестве. Казалось, что вся их жизнь превратилась в один медовый месяц, затянувшийся на годы, где каждую ночь, проведенную вместе, они ощущали как один чудный миг, как один горячий, страстный поцелуй. Лидия Ильинична не могла наглядеться на их счастливые лица. Она радовалась, что Тихон и Дарья безоглядно любят друг друга, что они живут душа в душу и неразлучны повсюду. Стоит одному из них чем-нибудь заняться, как второй уже тут, рядышком и соображает, чем он может помочь. Это чувство проявлялось особенно у Дарьи. С детства привыкшая наровне с матерью управляться с домашними делами, Дарья с настроением наводила порядок в доме своей новой семьи, стирала и чинила мужу его пропахшую соляркой рабочую одежду, любила порадовать его и свекровь каким-нибудь вкусненьким блюдом, сама доила корову и кормила кур. Когда Тихон видел что жена, стремясь пожалеть престарелую свекровь, загрузила себя «по самую маковку», то немедля включался в этот бытовой процесс: помогал, когда требовалось, замесить квашню или слазать в погреб за капустой, картошкой, помыть посуду или, сказать по-флотски, пошвабрить полы. Не все действа сына Лидия Ильинична одобряла. Выросшая в деревенской среде, воспитанная на ее устоях, мать была твердо убеждена, что муж и жена друг другу все же в делах не ровня, поскольку каждый из них должен строго знать и исполнять свои семейные обязанности. «Поэтому ты, Тихон», – говорила она как-то за ужином, – «не должон мыть посуду и полы». На что сын отвечал ей: «Мам, если на квадратные метры перевести, то на корабле я за всю мою службу, пожалуй, продраил шваброй не одну тысячу метров палубы и ничего!»
– То в армии, сынок, там служба военная и обиход, что у солдат, что у моряков одинаковый – служивый. А дома негоже мужику с кастрюлями и тряпками возиться, – в тоне упрека твердила мать. – Так и тебе Дашутка, неслед мужицким делом загружаться. Я к тому, – поясняла Лидия Ильинична, – чтобы ты, Тихон, не садил ее более за руль мотоцикла. Не надо, считаю, женщине гонять на скоростях по нашим ухабам, да свое нутро растрясать. Жену следует беречь, к материнству готовить, а не устраивать ей растопырку на жестком седле. Куды не шло, ездить в коляске: сиденье мягкое, сзади под спинкой подушка, ногами удобно опираешься. Я правильно рассуждаю, Даша? – обращается к невестке свекровь.
– Может быть, вы и в чем-то правы, но представьте, что когда-нибудь вдруг понадобиться срочно куда-то съездить, скажем, по делу или к врачу, а Тихон будет на работе. Кто же тогда повезет вас? Автобусная остановка далеко и при том нет никакой уверенности в том, что наш драндулет завалющий вышел на линию, а неотложку из райцентра вряд ли дождешься скоро. Уж лучше свой, какой-никакой трнспорт иметь всегда при себе, – парировала невестка. К тому же, – добавила она, – Тихон собирается нынче поступать на заочное в институт. Если поступит, будет уезжать на сессии в Иркутск и нам с вами придется хозяйничать одним. Так что, мама, без своей драндулетки нам никак не обойтись. Ну, никак!
– Тихон, а ты чё же матери не говоришь о намерении своем? – Лидия Ильинична оборачивает просветлевшее лицо к сыну. Тихон смущенно пожимает плечами.
– Обрадовала ты меня, Дашенька, обрадовала. Учиться надоть. То как же, ты с образованьем, в городу жила и училась, а Тихон только десятилетку кончал у нас тута. Пусь учится. Вон Гришка Паршин на ижинера выучился. При мне в магазине Прасковья хвасталась, евонная мать. Но вы же ее, как облупленную знаете, энту скандалистку и матершинницу. Так вот, сказывала она, ну и нам всем тоже извесно, что Гришка ейный в Иркутске плотником промышлял. Оказывается, мы все зря его непутевым обзывали. Прасковья грит: «В городу он вовсе не пьянствовал и по девкам не шастал вечерами, а науки разные в иституте изучал. Теперя, баит, документ ижинера получил, диплом значит. Дали ему и должность. Язви её, точно не могу назвать, но чё то вроде испектора. Стало быть, не машет Гришка теперя топором, бревна не отесыват, в катанках и ватнике не ходит, а за другими надзор чинит и на лехковушке по городу разъезжат, – пересказывает Лидия Ильинична сообщение сарафанного деревенского радио и умолкает, задумавшись.
– Извини меня, мам, что я не поделился с тобой своими наметками в плане учебы, – объясняется Тихон. – Просто считал преждевременным доводить до тебя эти соображения. Но поскольку об этом речь зашла, то признаюсь, что еще на корабле я об институте думал и даже самостоятельно готовился к вступительным экзаменам в Иркутский политехнический. Думал демобилизуюсь и отправлю документы в приемную комиссию. А домой приехал и вот … Тихон замолчал, перекидывая смущенный взгляд то на мать, то на Дарью. За семейным столом наступила тишина. И эту паузу в разговоре все трое всяк по своему наполняли не готовыми к высказыванию, летучими, мгновенно приходящими и молниеносно исчезающими мыслями. Лидия Ильинична, наверное, думала: «Хорошо, что сын поступит в институт». Сознание Дарьи, возможно, отметило в словах и голосе мужа некий оттенок сожаления о несбывшейся мечте и это больно укололо ее женское самолюбие. Обе они молча обдумывали ситуацию, машинально, без всякого интереса отпивая, остывающий в кружках чай. А перед Тихоном, задумчиво умолкнувшим, всплыла самая яркая, самая дорогая для него картина – день, когда после долгой разлуки они вновь встретились с Дашей, тот вечер, подаривший ему незабываемые минуты счастья. Океан синих очей, сияющих нежностью, в один миг заслонил перед ним весь мир и с первым поцелуем, с вихрем горячих чувств, охвативших все его существо, молодой моряк унесся на фантастическом волшебном корабле любви в сказочные дали, где никогда не кончаются, не меркнут и не остывают тепло солнца и ласки голубых вод. Ему хотелось сейчас обнять и Дашу, и мать, признаться, как он сильно любит и ту и другую, но он, усмиряя биение сердца, сдержанно произносит первую, зависшую в сумбуре сознания мысль: «Мама, не переживай, я обязательно поступлю на заочное в институт. Но уверяю только, что в отличие от Гришки Паршина, я никуда не собираюсь уезжать».
– Разве лучше нашей Селивановки что-нибудь есть на свете, Даша? – произносит Тихон, поднимаясь со стула и обнимая то жену, то Лидию Ильиничну.
Уезжал Тихон в Иркутск на подготовительные курсы жарким июньским днем. В аэропорт, представляющий собой всего-то навсего гравием отсыпанное поле, да скромное одноэтажное здание с тесными комнатами для наземной службы и пассажиров, Дарья привезла его и Лидию Ильиничну сама, на мотоцикле. Лидия Ильинична охотно угнездилась в железной коробушке. Она хотела посмотреть как «Антошка» пролетит над рекой и как затем он поднимется над Тунгуской и полетит куда-то в Иркутск, в котором за всю свою долгую жизнь Лидия Ильинична ни разу не бывала. Видела город на кадрах «новостей» – на фотографиях и открытках у геологов. Телевидения тогда в селе еще не было. Когда Тихон служил на флоте, председатель сельсовета, предшественник Жилина, Феофан Астахов, пристраивал их к ней на постой. Одно время они безвыездно, месяцами жили в Селивановке, мотаясь в походах по всему району. От них Ильинична узнавала о жизни в городе, о всяких новостях в мире, о телевидении, которое скоро заменит кино, и что оно обязательно появится в Селивановке – и тогда Ильиничне не надо будет ходить в клуб. Как сейчас она видит в окошке берег реки и все, что по ней движется, сказывали бородачи, так и в будущем у нее в зале на тумбочке будет стоять этакий ящик с передней стенкой из стекла и по нему, по этому «окошку», будут бегать и трамваи, и машины, стекло покажет любой фильм и все, что происходит на белом свете.
– Про вашу Селивановку, – говорили геологи, – тоже когда-нибудь весь мир узнает. Мы же не зря который год «копытим» тут, на вашей земле. Именно Тунгуска первой в Сибири еще в прошлом столетии показала и подарила нашему брату несколько маленьких, необыкновенно дорогих камешков – алмазами называются. Очень красивые камешки! Если найдем, где Тунгуска ваша прячет их, то вы заживете, как в сказке, – поясняли Ильиничне бородатые искатели сокровищ.
У здания аэропорта, в тени которого Дарья припарковала мотоцикл, Ильинична увидела нездешних людей, похожих на тех бородатых мужиков в полевой одежде, которые когда-то останавливались у нее на постой. Они сидели на продолговатом, зеленой краской окрашенном, ящике. С такими сундуками и у нее на подворье проживали геологи. Она знала, что в них укладывалось: камни, собранный и упакованный в холщовые мешочки песок, прочий материал, называемый образцами пород. Разморившись от жары, они о чем-то лениво переговорили, после чего один из них встал, вынул из полевой сумки бумаги, бросил громко: «Я на почту!». И ушел.
С военных сороковых годов и по сей день Тунгуска привлекает внимание искателей руд. Сплавляясь по реке, небольшой отряд геологов и в том году остановился в Селивановке, чтобы пополнить запасы продовольствия, воспользоваться устойчивой телефонной связью для переговоров и отправить рейсовым самолетом в Иркутск образцы пород, собранных ими в походе. Гостям здесь, в глубинке, всегда рады. Особенно теперь, когда жизнь в поселке замерла. Местная власть приняла иркутян как своих добрых друзей, как заправских таежников. После обеда новый молодой глава поселения, Антон Савельевич Страхов и старший группы геологов, ушли в поссовет. Сидя в кабинете после переговоров с иркутским руководством, начальник поисковой партии Ибрагим Тугушев, словно ушел в себя, озабоченно умолкнув и скрестив на груди руки. Страхов тоже молчал, расценив разговор гостя с иркутским управлением не очень приятным для Тугушева. Чтобы как-то разрядить обстановку, Страхов встал из-за стола и прошел к сейфу, снимая с него шахматы.
– Ибрагим Ахметович, пока летунов дожидаемся, может, сгоняем партию? – обратился он к геологу, раскрывая по ходу видавшую виды коробку.
– Пожалуй, стоит! – встряхнув густоволосой, бородатой головой, машинально ответил гость. Как заядлый шахматист, Страхов быстро высыпал фигуры на стол и продвинул на его середину раскрытую доску. Определившись, кто будет играть черными, а кто белыми, соперники сосредоточенно окунулись в раздумья, всяк по-своему погружаясь в предстоящую борьбу. Тугушев осторожничал и даже два раза просил соперника разрешить ему поменять предпринятый ход. Страхов не возражал ни в том, ни в другом случае, стараясь при этом ненавязчиво направить разговор с геологом о работе его группы в поисковом сезоне.
– Как вы думаете, Ибрагим Ахметович, – спрашивал он соперника, делая очередной ход, подразумевающий потерю Страхов пешки, но обеспечивающий ему выгодное положение на шахматной доске, – есть ли все-таки надежда на то, что в нашем крае вы откроете месторождение алмазов; штучные-то находили и находите, наверное. Пожалуй, не одну пригоршню собрали? Может, раскроете нам свою «заначку»?
– Не знаю, не знаю, что и сказать, – растягивая каждое слово и блуждая взглядом по точеным фигурам, отвечал Тугушев. Задумчиво побарабанив пальцами по столу и снимая с доски срезанную пешку, он со вздохом продолжил: «С вашим вопросом и этой пешкой вы, Антон Савельевич, окончательно загоняете меня в угол. Признаюсь, решающий гамбит вы разыграли красиво. Классно разыграли, совершенно классно!» – геолог теребит волосатый подбородок, добавляя: «Предлагаю ничью». Страхов в ответ улыбается и пожимает плечами.
– Видите ли, – продолжает капитулирующий соперник, – ваша Тунгуска тоже с нами в свои какие-то «шахматы» играет. Пока, как вы на этой шахматной доске, на своем поле она не желает пока жертвовать крупными фигурами. Не раскрывается, хоть убейся! Но ничего, народная мудрость не зря гласит: вода камень точит. Полагаю, что мы тоже не впустую топчем тропы в тайге и бьем по целику шурфы. Если не алмазы, то что-нибудь другое накопаем. Обязательно! – повеселевшим голосом утверждает Тугушев, прислушиваясь между тем к звукам за окном. Там зародился и с каждой секундой нарастал гул мотора двукрылого «Антошки». Игроки встали из-за стола, намереваясь последовать к взлетно-посадочной полосе, видневшейся из окна. Туда же направлялись пассажиры с провожающими, двое рабочих несли ящик с рудными образцами. Приняв отъезжающих, почту и груз, воздушный тихоход улетел. Провожающие разошлись и разъехались по домам, вновь окунулся в сонливую жару аэропорт, погрузились на плот и отчалили от берега геологи.
Администратору Страхову, мечтавшему в корне преобразить пришедший в упадок поселок, перешедший в такое состояние после развала в эпоху Ельцина, хотелось, чтобы он не оставался отсталой глубинкой, а рос, приобретал большее значение, чем то, в котором он находился. Чтобы аэропорт превратился в настоящую воздушную гавань с бетонной взлетно-посадочной полосой, освещенной навигационными фонарями, с рулежной дорожкой, с аэровокзалом и стояночной площадкой для больших и малых самолетов. Одним словом, чтоб все было таким, каковым стало у северных соседей близ алмазных месторождений в городе Мирном. Страхову досадно было осознавать, что Тунгуска лишь поманила людей солнечным блеском алмазов, подразнила штучными экземплярами, разожгла у геологов азарт, а у селивановцев надежду на то, что они «ковшами, да туесками» будут черпать драгоценные камушки из алмазных сусеков Тунгуски. Не расщедрилась, однако, тунгусская земля, не раскрыла перед ними глубоко упрятанные царские запасы ее сокровищ. А так хотелось, так мечталось обрести у себя под боком такую же алмазную трубку, как «Мир» у города Мирного и построить здесь, в прекрасной тайге, в тихой пазухе лесистых гор, светлые корпуса обогатительных фабрик и кварталы белокаменных домов, проложить хорошие дороги не только до райцентра, но и до Байкала и Иркутска, взбудоражить глухомань, вдохнуть в нее новую жизнь. Так думал он, Антон Страхов. Исстари, местные народы используют бассейн Лены как большую, зимой ледовую, а летом водную дорогу. С бурных купеческих лет восемнадцатого и девятнадцатого веков, реку навсегда оседлали вначале сплавные бревенчатые плоты и большие дощатые лодки, называемые на местном диалекте «карбаса», позже – пароходы на колесной тяге, прозванные «лаптежниками» за их гребные лопасти, приводящие в движение судно, а в советское время взамен всему этому старью, на главную водную магистраль Восточной Сибири вышли современные грузовые и пассажирские теплоходы. Сюда напросился на работу земляк Страхова Валерий Жилин.
Родившийся и выросший в Селивановке, получивший прекрасное образование в Новосибирском институте водного транспорта, повидавший, будучи студентом, волжские города во время практических стажировок. Бывал в Москве и Ленинграде. Окончив институт с отличием, попросил при распределении отправить его на работу в Верхоленское речное пароходство, поближе к родительскому дому. Но он тогда никак не предполагал, что не Лена, а Тунгуска останется с ним в его жизни навсегда. С появлением новичка из Новосибирского вуза на теплоходе «Яна» в должности помощника капитана, экипаж увидел в лице назначенца ладно скроенного, словно влитого в форменную одежду молодого человека. При знакомстве лицом к лицу каждый в нем отметил и крепость рукопожатия, и открытость взгляда, и твердую ясность речи. Когда капитан повел Жилина располагаться в отведенной для него каюте, боцман Руслан Точилин посмотрел им вслед и коротко бросил: «Наш парень!»
В сложных условиях ранее и ныне работают ленские речники, выполняющие роль одного из основных звеньев в транспортной системе Восточной Сибири. Они принимают на свои плечи – на палубы барж и в трюмы судов – колоссальный объем грузов, поступающих по железной дороге в Усть-Кут и предназначенных для населения Республики Якутия, для ее промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Пересекая материк с юга, от Байкальских гор и до Северного ледовитого океана, река вскрывается весной не с устья, а от истоков, где теплый сезон раньше наступает. Обычно весна бывает здесь дружной и тогда река, разбухшая от влаги тающих снегов и проснувшихся притоков, на глазах взрывается, с глухим гулом ломает лед по всему руслу и уносит вон белую лаву, точно торопится избавиться, сбросить с себя надоевшее ей холодное зимнее одеяние. Торопятся и речники. Стоит ледовой обстановке в какой-то степени разрядиться – речники немедля направляют суда на причалы под погрузку. Порт сразу оживает, оглашая окрестности гудками теплоходов, катеров и портовых буксиров, сигналами подъемных кранов, электрокаров и автомобилей. Заждавшиеся жарких дней навигации, соскучившиеся по бойкой сутолоке на причалах, докеры деловито снуют между берегом и палубами судов, азартно выкрикивая крановщикам накрепко засевшие в их лексиконе командные «вира» и «майна». Каждая бригада грузчиков стремится опередить соседей и отправить в рейс первым ими обслуживаемое судно.
Жилин впервые уходил в плавание по Лене. Загружались они ночью, а от причала отчалили на рассвете, сырым, неласковым днем. Перед выходом на маршрут, Жилин всю неделю по вечерам, в свободные часы днем, скрупулезно изучал карту региона и лоцию Ленского бассейна. В это утро он не ушел отдыхать в каюту после ночной смены, а остался в рулевой рубке, наблюдая за тем, как действуют капитан и команда, отчаливая от берега, разворачивая связку теплохода с баржей в стесненных рамках акватории и направляя ее в русло фарватера. Четко выполняя команды капитана, опытного шестидесятилетнего речника Семена Степановича Богатырева, рулевой матрос направил судовую связку к выходу из порта.
– Молодец, – похвалил капитан рулевого. Обернувшись к Жилину, стоявшему за его широкой грузной спиной, он совсем не командирским, тихим и мягким голосом произнес: «Ну вот, Валерий, поздравляю тебя с твоей первой ленской навигацией. С Богом, паря, с Богом!» Он улыбнулся во все полнощекое, доброе лицо и направил свой взор на воду.
Теплоход уходил в далекий рейс вслед за льдами вскрывшейся реки. Ленская флотилия начинает навигацию в начале мая и завершает ее в осенний октябрь, когда приходится пробиваться домой через снежно-ледяную кашу и молодой лед. Экипажу «Яны», приспособленному к буксировке несамоходных барж, предстояло весь летний сезон отработать по маршруту Усть-Кут – Ленск. Этот тысячекилометровый путь на Лене – самый сложный. Таежная красавица сколь величественна и обворожительно во все времена года, столь она и своенравна и опасна для судоводителей в бурное половодье. На отдельных участках в большую воду скорость течения доходит до десяти и более километров в час. На маршруте немало коварных мест. Возьмем ту же «Чертову дорожку», где река трижды выделывает такие крутые коленца, что только успевай выруливать по створам то сюда, то туда, балансируя на упрямой стремнине, готовой бросить судно либо на мель, либо на скалистый мыс. Не легче править капитанам что одиночным теплоходом, что судовой связкой из буксира и баржи, в пресловутом Токуйском колене. Того и гляди, чтоб не подставило оно тебе подножку! В горных прижимах Ленских щек вообще держи ухо востро и не спускай глаз с тугой хребтины потока, готового расшибить вас о гранитные стены ущелья. Река веками точила себе проход в этой гигантской скалистой горловине. И по сей день, особенно в половодье, она кипит, всеми силами бьется о неприступные берега, пытаясь расширить свое пространство и избавиться от теснины гранитных оков. При большой воде глубины реки достигают в районе Ленских щек десяти и более метров. Словно стиснутая двумя гигантскими ладонями коварного исполина, Лена мечется от уступа к уступу и, освирепев от борьбы, вырывается наконец из жестких объятий скал на широкий простор, усмиряет свой бег, свободно разливаясь по широкой долине. Спокойней становится и на душе у капитанов, миновавших «щеки». С этой минуты можно полностью доверить штурвал вахтенному помощнику и рулевому матросу, выйти на крыло капитанского мостика, глубоко вдохнуть, вдоволь надышаться воздухом, насыщенным свежестью реки и смолистым запахом тайги, этим, каким-то необычайно легким, ненасытным, сказочным ароматом и спросить себя: «Боже мой, да не сон ли это, не волшебное ли раздолье, шелковой дорожкой растелившееся перед тобой, серебром сверкающее и поглотившее всю голубизну небес?! Не чудо ли эти изумрудные берега, разноцветьем трав поросшие, волнами лесистых гор убегающие за горизонт? Эти необычайно красивые ели и березы, стройные, золотом стволов отливающие сосны, достойные кисти великого художника». Облокотившись на перила мостика, слушать, как гудят в сердце корабля моторы и гул их сливается с шумом винтов и всплесками воды, скользящей вдоль бортов. Просто стоять и наслаждаться тем, что ты видишь и слышишь. Ощущать себя первопроходцем, одиноко плывущим по этому божественному раздолью, сотворенному как будто только для тебя. Пройдешь сотни верст и увидишь две-три небольшие деревеньки. Всего-то. О цивилизации напоминают лишь буи и береговые знаки судового хода, встречные суда, или, очень редко, плоты и катамараны каких-нибудь заезжих путешественников.
Не сразу раскрывала Лена перед Жилиным разноцветную палитру панорамы, полотно которой растянулось на тысячи километров. Знакомство с ним состоялось не с красочных и солнечных картин, а с «невзрачного рабочего холста», каковым вполне можно было назвать прохладный хмурый день, с которого началось первое самостоятельное плавание Валерия. Пасмурное небо, серое одеяние гор с белыми языками снега на северных склонах и в глухих распадках, темная полоса воды, усеянная пегими от грунтовых наносов льдинами, – только это видел из рулевой рубки молодой речник. Экипаж вынужден был «сдерживать лошадей». С осторожностью шли все, кто был впереди и сзади, в кильватере «Яны». Построенные на местных судоверфях самоходные контейнеровозы, буксиры и баржи не имели в корпусах так называемых ледостойких поясов, что и заставляло капитанов избегать столкновений с большими льдинами.
– Не едем как надо, а крадемся, будто в тайге меж курумника ползем, – шутит капитан по этому поводу. Дожди и волнами поступающее с юга долгожданное тепло, растопили в горах Байкальского отрога снега, вскрыли реки и речушки. Взломавшая лед на Лене и ее притоках, большая вода в местах прибоя нагромоздила из него на берегах высоченные серо-бурые валы. Льдом наглухо забило боковые протоки. На всем протяжении вскрылись Витим и Мамакан. К устью Витима и поселку с одноименным названием подошли ранним утром. При слиянии с Леной ленту этого притока делит на два рукава остров Липаевский. Из переговоров с экипажами судов, подошедших сюда ранее, Жилин узнал, что за Витимом, ниже по течению, образовался большой затор и транспорт остановился. Ледяной тромб оказался очень обширным, плотным по всей километровой ширине водной артерии. Упираясь в ледовую пробку, река поминутно взбухала, угрожая выйти из берегов. Держась в отдалении от затора, на рейде Витима, стояло не менее полутора десятка разномастных самоходных барж, теплоходов и плавучий подъемный кран с буксиром «Капитан Воробьев». Над холодной водой тихо стелилась неравномерно перемешенная с дымом поселковой котельной кисея жиденького тумана. Решив стать под боком у острова, Жилин включил громкую связь, расставил по местам шкипера баржи, боцмана и матросов. Развернув связку, Жилин прижал состав к острову, насколько позволяла глубина, и поставил связку на якоря. Разбуженный грохотом якорных цепей, в рубку поднялся капитан. Поздоровавшись с рулевым матросом и Жилиным, позевывая и прикрывая полногубый рот широкой ладонью, он медленно обошел рубку, на ходу оглядывая в окна акваторию. Остановившись у двери и попросив матроса подать ему бинокль, Семен Степанович вышел на мостик. Все так же не спеша, по-хозяйски прохаживаясь, капитан то вскидывал бинокль к переносице и глядел куда-то вдаль, то, опершись животом на планширь бортика, оглядывал без бинокля ближнюю поверхность воды и плывущие по ней льдины. Между тем Жилин, довольный своим выбором, дал команде «отбой» и сел за стол, намереваясь внести запись отчета о вахте в судовой журнал. Едва он взял в руки авторучку, как в рубке резко распахнулась дверь и, с несвойственной для него поспешностью, с серьезным видом на лице, в нее вошел капитан.
– Валерий Иванович, быстренько снимайся! – хмуря лохматые брови, с тоном неудовольствия в хрипловатом голосе произнес он и, грузно ступая, прошел внутрь к своему креслу. Пожав плечами и захлопнув журнал, Жилин непонимающе бросил: «В чем дело, Семен Степанович? Здесь хорошая глубина, простор для маневра и остров нас от льда прикрывает».
– Подымай, подымай пары, потом разберешься! Поезжай вон туда, за второе русло, выше острова. А если не понял, то я объясняю: вода подымается и вот-вот по второму рукаву попрет лед полями. Устроит тут нам заваруху, в клещах зажмет. Угрюм-река, черт бы ее побрал, горазда на выкидоны. Понимаешь?
Жилин молчал. В голове у него сразу всплыл знаменитый роман сибиряка Вячеслава Шишкова и многое, что связано с содержанием этой книги, с рекой. Расценив замешательство своего помощника по своему, капитан жестким командным голосом продолжил: «Выполняйте, Жилин!»
Валерий поднялся из-за стола и прошел к микрофону громкой связи, чтобы огласить распоряжение шефа. Не прошло пяти минут, как зажужжали электромоторы подъемных лебедок, загремели в клюзах звенья якорной цепи, забурлила вода под кормой от гребных винтов – послушный машинам и рукам рулевого, состав двинулся вперед. Набирая обороты, связка «Яны» вскоре вышла на траверс устья. Вооружившись биноклем, Жилин глянул в долину Витима и понял: нюх матерого речника Богатырева оказался верным. Устье рукава было забито льдом «под завязку». Казалось, Угрюм-река сотворила там не затор из льда, а нагородила массивный ежово-корявый мост, монолит, сверкающий на солнце холодом рваной стали. Когда после обеда окончательно прояснилось и солнце вовсю заиграло на сломах льда нотами весны, из «угрюмого рукава» густым выбросом понесло в Лену все то, что Жилин видел утром в бинокль.
– Останься мы у острова, где я определился на стоянку – и нам, наверняка, не избежать бы ледовой ловушки и авралов, – думал молодой судоводитель. А воды Вилюя, распухшие от сброса водной массы из переполненного водохранилища Мамаканской ГЭС, все несли и несли по течению остатки зимы, наращивая и уплотняя ледяную плотину на Лене. Основная масса льда шла у правого берега, и, по примеру Богатырева, определившись с обстановкой, капитаны судов, один за другим подались вверх, избегая риска быть зажатыми льдами. Замешкались только на буксире «Капитан Воробьев», где при спешке порвали буксировочный трос. И пока его заводили заново, скуластый понтон подъемного крана вкруговую облепили бело-голубые глыбы. Кран оказался во власти стихии. Чтобы не помять себе борта и не повредить рули, экипажу буксира пришлось долго маневрировать в нарастающей ледяной россыпи, осторожно подбираясь к плавкрану на дистанцию, откуда можно было вновь подать буксировочный канат матросам зажатой платформы. Богатырев неотрывно наблюдал за усилиями экипажа «воробьевцев», осуждая в сердцах капитана, по вине которого плавкран оказался в такой ситуации, в ловушке, подобно рыбе, угодившей в плетеную корчагу. Не без основания сердился и досадовал на капитана, своего ученика и давнего друга Геннадия Юрзина Богатырев. Еще утром, когда они с Жилиным снимали с якорей свой состав, Семен Степанович связался по рации с Юрзиным и посоветовал ему: «Пока тебя не приперло, сматывай оттедова удочки, уходи подальше». Однако Юрзин отвечал: «Даже если лед из витимского рукава дуром повалит, в обилии попрет, что сомнительно» – утверждал он, – «то Лена потащит его правым берегом, к нам ничё не приплывет».
Но все получилось наоборот. Вода в Витиме выше всяких прежних отметок поднялась, превратила русло реки в тугой водно-ледовый поток. На всем протяжении эта лавина устремилась к устью, затопив наполовину остров Липаевский и, будто пробку из шампанского, выбив из узкого рукава и выбросив его до середины Лены. Ситуация усложнялась. Из-за угрозы быть затертой ледоходом, флотилия бросила якоря выше поселка по течению реки, где суда рассредоточились вдоль берегов, ожидая благоприятных перемен. Вблизи затора оставались только плавучий кран и буксир «Капитан Воробьев», пробивающийся к нему. С досадой наблюдавший за тем, с какими сложностями столкнулись «воробьевцы», пробивающиеся к плавкрану, Богатырев готов был сам отцепить буксируемую «Яной» баржу и двинуться на подмогу другу. Однако его сдерживало то, что корпус теплохода не был снабжен ледостойким поясом и «бодаться» с льдинами при тонких бортах, считал старый речник, – все равно, что биться головой о бетон. «Запросто пробоину схлопочешь. Что же это такое, неужто у всех тут слабенькие корпуса?» – раздумывал он. «Иль может в штанах у мужиков кое-что зажало?». Его бинокль тщетно шарит по ряду судов, рассредоточившихся по акватории.
– Подожди-ка, подожди-ка, никак «Тимирязев» оборачивается? – вслух отмечает он сам себе. Точно, рулит к плавкрану, – мысленно убеждается он. – Слава Богу, двое не один. Теперя управятся, выгребут! – удовлетворенно заключает капитан.
Почувствовав, между тем, что в одних трекошках и тапочках на босу ногу ему на открытом воздухе не очень комфортно, Семен Степанович направляется в рубку. По ходу пробежав хватким оком по панели приборов, повесив бинокль на отведенное для него место, коротко бросив заступившей на вахту смене: «Внимательней следите за обстановкой», – капитан отправился в каюту с намерением отогреться и попить горячего чая.
Богатырев с детства завязан с перевозками грузов по ленскому водному «тракту». Предки Богатыревых пришли на Лену едва ли не с первыми ватагами вольных переселенцев, устремившихся в Сибирь в годы присоединения к России территорий приангарья, верхней Лены и всего прибайкалья. Уже в первые десятилетия семнадцатого века русские казаки и первопроходцы пришли сюда, разведывая далекий глухой край. Они изучали пути продвижения в эти окраины, налаживали связи с местным населением, основывали свои поселения. Вступивший на престол в 1689 году, сам Петр I повелевал боярам, купцам и служивым людям укреплять за Россией эти благодатные для проживания и промыслов места, наказывал искать в этих землях руды разные, золото и серебро, заниматься хлебопашеством. Новые поселения стали быстро появляться в бассейнах рек Ангары и Лены, по берегам их притоков. Богатыревы осели в Качуге, почти в самом верховье Лены. Сюда из Иркутска в старину возили обозами всевозможные грузы, которые затем сплавом отправлялись по Лене в Якутию. Зимой плотники строили в Качуге для навигации большие и малые лодки, плоты и так называемые карбаса – по сути те же деревянные баржи. В первые дни весеннего паводка вся эта разномастная флотилия загружалась и уплывала на Север. В советское время дорожники построили из Иркутска в Качуг автомобильное шоссе и поток грузов неизмеримо возрос. Устаревшим способом – посредством баркасов и лодок – уже невозможно было переработать весь объем грузопотока, который поступал в адрес крупных горнорудных и промышленных предприятий Якутии и соседней Магаданской области. Слабое транспортное звено тормозило их развитие. Решено было построить в Качуге судоверфь, и в 1933 году здесь заложили ее фундамент. По этому случаю весь поселок собрался на митинг, участником которого был и Семка Богатырев, пришедший на окраинный пустырь с отцом. Люди с надеждой восприняли начинание, зарожденное по воле советского правительства, осуществлявшего планы знаменитых Сталинских пятилеток. Невзирая на нехватку специалистов и материалов, на недостаток механизмов, рабочие всеми силами стремились поднять корпуса своего предприятия, строить верфи и пристань. Как назло, в дополнение к организационным и производственным трудностям, ситуацию осложнило осеннее наводнение 1934 года. Большая вода затопила не только стройплощадку, но и большую часть Качуга, оставив без крова сотни семей. В числе многих дом Богатыревых вообще смыло в реку – он был расположен на левобережной низменной стороне поселка, где и закладывалась судоверфь. В то лето Семке едва исполнилось десять лет и они с отцом возвращались домой после сплава на карбасе, доставив грузы до Витима, где находилась перевалочная база «Золотопродснаба». Семен Богатырев мог заслуженно гордиться перед качугскими друзьями тем, что он прошел настоящее мужское крещение в плавании по бурливой большой реке, выполняя наравне с другими всю опасную работы сплавщика. К тому же он и кое-какие денежки заработал. Возвращались они берегом на верховых лошадях, купленных в Витиме с целью добраться до дома, а в Качуге лошадей продать на осенней ярмарке. Конская тропа то тянулась вдоль реки, то надолго уводила путников чащобой в тайгу. На подходе к Качугу она затяжным подъемом забралась на гору, с час повиляла среди густого сосняка и, наконец, вывела путников к противоположному склону, откуда открывалась полная панорама долины и вид на поселок. Подгоняя лошадь, отец Семена выехал на опушку леса и замер, схватившись рукой за грудь – впереди он увидел дома поселка, плавающие в воде. Перед ним развернулась, будто напоказ, страшная картина: хаотично разбросанные по воде длинные плети изгородей и размытые копны сена, покореженные постройки и перекошенные коробки домов. Подъехав к отцу и увидев то, что открылось перед ними, ошарашенный хаосом разрухи, Семен так же остановился, застыв на месте. Сердечко его забилось, испуганно заколотилось в груди, и он неистово расплакался, представляя, в какую беду попали его мать, сестренка и братишки.
Обогревшись в уютной каюте и вспоминая все это, навеянное половодьем, Богатырев слушает, как время от времени одиночные льдины глухо ударяют о борт теплохода и с шуршанием проплывают вдоль него. Перед глазами капитана страшным видением предстают вперемешку, то навсегда засевшие в памяти затопленные дома родного Качуга, то ледяные поля витимского наката и преградой вставшая на пути каравана ледяная плотина затора. По радио сообщали, что за сутки вода в Лене поднялась на пять метров. Прибавили не только Витим, притоки Большая и Малая Чуя, но и Мамаканская ГЭС, вынужденная открыть затворы переполненного водохранилища.
– Того и гляди выйдет Лена из берегов, перекинется в улицы поселка, – обеспокоенно думает капитан. Поднявшись из кресла и одевшись поплотнее, он покидает каюту, чтобы пройтись по палубе, осмотреть крепление груза и тросовую сцепку, зайти в машинное отделение и на главный пост – рулевую рубку. По-разному проявляет себя ледоход, приносящий в эти края каждую весну как надежду на благополучную навигацию, так и тревоги о неизвестности последствий, которые возникают в эту пору перед населением побережных сел и деревень. Быстротечная весна за считанные сутки растопила солнцем и теплыми ветрами обильные снега, взломала и раздробила зимние крыши рек. Смывая по пути прошлогоднюю листву и верхний слой почвы, эта, как ее называют ленчане, «черная вода», неудержимо хлынула в большую реку. На третьи сутки южного дуновения уровень воды в Лене поднялся до критической высоты и грязные потоки, устремившись на берег, хлынули в улицы Витима. На судах объявили тревогу и от каждого экипажа капитаны немедля направили своих людей на моторных лодках в помощь населению. Сигнал бедствия дошел до правительства Якутии, откуда позвонили в Мирный с просьбой о помощи витимцам. Управленцы алмазодобывающего объединения тут же снарядили бригаду взрывников, отправив их вертолетом в Витим. Следом послали еще пару «вертушек» с инструментом и взрывчаткой. Обследовав ледяной полигон, северяне от зари до зари долбили взрывами эту злополучную площадь, откалывая кубометровые куски, уплывающие вниз по течению. С другой стороны речники, разбившиеся на группы, спешно вывозили людей из подтопленных улиц в верхний, сухой район поселка. Спасателями от «Яны» вместе с Жилиным были Николай Захарченко и Дима Нечаев, оказавшийся земляком Валерия, что выяснилось позже, во время очередного объезда подтопленных улиц. Подрулив к одному из домов, и помогая девушке спуститься с крыши веранды в их моторную лодку, Димка вдруг вскрикнул: «Ольга, а ты то как тут оказалась? Вы что из Селивановки сюда перебрались?» – за словом слово торопливо выбросил моторист, хватаясь руками за доски крыши и подтягивая лодку поплотнее к строению.
– Как, как, – ехидно выкрикнула девушка, – на свадьбу к Саше, двоюродной сестре прилетела! Вот и залетела… на крышу! – звонко хохочет девушка. – Всех только что наверх к родне увезли. За мной должны подъехать, лодка перегруженной ушла. Помогая Ольге сойти к ним с козырька веранды, Димка принял от нее чемодан, бросив его на брезент, протянул девушке обе руки и, очутившаяся в его крепких объятиях, Ольга со смехом опустилась в лодку. Усевшись на чемодан и поправив подол юбки, девушка обернулась лицом к Жилину. Застенчиво прикрывая обнаженные колени, еле пересиливая стрекотню лодочного мотора, она громко проговорила: «А я вас, кажется, знаю! Вы, по-моему, сын тети Арины и дяди Вани, так?» И не услышав ответа, девушка продолжила: «Мы живем через улицу с вами, наша фамилия Ермаковы. Слышали? – сменив застенчивость на открытую улыбку, говорила Ольга. Кокетливо откинув ладонью от виска золотистую прядь, она казалось, забыла обо всем: и о половодье, принесшим людям беды, и о том, что, полные отчаяния, кричат вокруг люди, ревет скотина и воют собаки. Щурясь от яркого солнца, прикрывая глаза густыми, загнутыми вверх рыжеватыми ресницами и накручивая на палец, отливающий медью локон волос, вьющихся по плечам синей куртки, девушка неотрывно смотрит в глаза Валерия. Она говорит и говорит, не переставая улыбаться. Но до Жилина доходят лишь отрывки каких-то звуков и слов, плохо различимых и в то же время взбудораживших в нем чувства и волнения, совершенно непонятные ему, неизведанные ранее. Он неотрывно смотрит в ее искрящиеся на солнце, казалось, насмешливые серые глаза, на курносинку носа и разлет темно-рыжих бровей, на ямочки зардевшихся щек и на полные розовые губы, обнажающие при улыбке ровны ряд белых зубов. Не проронив ни слова, только изредка кивая головой на речь девушки, Валерий молчал, словно у него враз онемели и язык и губы. Прибавив мотору обороты, Димка отрулил от веранды, направив лодку к следующему двору, где на сарае стоял и призывно махал руками пожилой мужчина с собакой. Собирая одного за другим, Жилин с Димкой набрали вскоре полную лодку народа и доставили их в безопасное место. Помогая Ольге выйти из лодки, Димка ей что-то быстро говорил, но Ольга не отрывала глаз от лодки, от Валерия. Приняв чемодан, она махнула ему рукой и птицей выпорхнула на берег.
День прошел в полном напряжении нервов и сил. Ругань мужиков, слезы женщин и детей, тут и там плавающие по воде домашние вещи, груды колотых дров, копны соломы и сена, кое-где захлебнувшиеся водой овцы, куры, телята – все смешалось в глазах и уме в одну тяжелую, трагическую явь, сопровождаемую вертолетной бомбежкой, сбросом с воздуха взрывчатки на ледяной затор. Мужчины и женщины Витима, речники и рабочие, взрывающие злосчастную преграду, отчаянно боролись со стихией за жизнь на земле, которую столетиями обживали, обихаживали их предки, а ныне спасали они.
После ужина Валерий попытался заснуть, запершись в каюте, отдохнуть, забыться от кошмаров прошедшего дня. Но сон не шел. Перед глазами драматическим калейдоскопом вертелись испуганные лица ребятишек, скорбные, опечаленные мамы, распахнутые окна с выбитыми рамами, черная студеная вода и колючие грязногорбатые спины льдин, заплывающих в улицы и дворы. Тяжелым гнетом давили они на сознание и сердце Валерия. Лишь одним светлым проявлением на фоне всего этого «ледяного Везувия» нет-нет да возникал образ ее, миловидной, смешливой девушки, шагнувшей в их лодку с гребня большого половодья.
– Ольга…Интересно, как это я раньше тебя в Селивановке не замечал? – начинал думать в такие моменты Валерий. – Стариков Ермаковых знаю, а ее что-то не помню. Видать выросла из подростков за последние годы, когда я в армии маршировал, а после службы уехал сразу в Новосибирск на подготовительные курсы при институте. В годы учебы летом на день-другой заедешь к родителям после практики в пароходстве – и опять в город на учебу. Только-только успеешь оборотиться к началу занятий, – вспоминал он. – Вот это землячка! Взяла, что статью, что лицом, что этими пышными огненными прядями, словно волнами зари на плечи накинутыми. Если завтра придется в поселок ехать, то надо непременно с ней повидаться, – с этой мыслью Валерий окунулся то ли в глубокий чистый сон, то ли воспарился, вознесся в мир, где царят Всевышним дарованные божественно волшебные грезы.
Насколько позволял регламент дня, вертолетчики рейс за рейсом выполняли полеты на точки, означенные в схеме взрывников, набросавших ее на бумаге для ударов с воздуха. Когда на закате, к завершению дневного плана у края злополучной пробки мощным взрывом разворошило и подняло вверх огромный столб ледяного крошева, «витимская дамба» судорожно дрогнула и течение оторвало от нее шириной почти в пол-реки жирную торосовую махину. Зашевелился затем, заворочался и весь ледяной массив. Заметив движение, взрывники и вертолетчики еще раз ударили не меньшим зарядом по цели чуть выше. Будто ленивый вол, подстегнутый жгучим кнутом, зашевелился и весь затор. Разваливаясь торос за торосом, ледяное поле медленно потащилось, поехало на черной спине полой воды вниз, по ускорившемуся течению. Уровень воды в реке стремительно падал, увлекая в русло за собой воду с улиц поселка, оставляя на берегу разрозненные серо-голубые глыбы – знаки отступающей прочь лихой стихии. Несмотря на то, что основной преграды на пути не стало, капитаны не спешили сниматься с якорей, ожидая, когда основную массу льда течение унесет подальше и там растащит по кускам. В поселке во всю работали специализированные отряды спасателей. К полдню в улицах Витима вода осталась только в самых низких местах. Прилетели в Витим первые руководители Якутского обкома партии и Совета министров Якутии, директор алмазодобывающего объединения «Якуталмаз» и два его заместителя. По их распоряжению в Витим стали поступать хлеб и другие продукты питания. Из Мирного один за одним вертолеты доставляли технику, инструменты и материал, рабочих, занявшихся «прямо с колес» ликвидацией последствий наводнения. Связавшись с капитанами флотилии, высокое руководство выразило речникам благодарность. Экипаж разведывательного вертолета, совершивший глубокий облет реки вдоль русла, сообщил, что обстановка на реке позволяет судам продвигаться. После вынужденной стоянки экипажи не спеша принялись поднимать якоря в порядке расположения на рейде и у берегов. Первым пошел на разворот один из тех, кто находился ниже всех по течению. В свою очередь покидал стоянку и теплоход Жилина. Выйдя на крыло капитанского мостика, Валерий вскинул к глазам бинокль. Тщательно всматриваясь в береговую линию Набережной, по которой туда-сюда сновал толпами народ, он медленно водил окуляры бинокля с одной группы людей на другую, тайно надеясь найти среди них ее синюю куртку и огненно-рыжие кудри; увидеть эту незнакомку, так быстротечно сверкнувшую своим очарованием. Оставляя рейд, теплоход быстро набирал скорость, чтобы уступить другим судовой ход, а Валерию никак не хотелось потерять из вида многолюдный, встревоженный берег. Укорачиваясь в окулярах его бинокля, оставаясь позади, улица все быстрее и быстрее уменьшалась, а она, это случайное, загадочное создание, так и ни разу не мелькнула перед ним. Миновав последние строения, Богатырев сбавил обороты дизелей и осторожно повел связку среди дрейфовавших льдин. Жилин вошел в рубку, остановившись у поста управления судовыми машинами.
– Тут не разбежишься, – словно поясняя помощнику, почему он до шаговой скорости сбавил ход, проговорил капитан. – Погонишь лошадей – тарантас расшибешь. Притормозим, подождем, пока Лена – матушка, с шелухой своей разберется. Дружить надо с ей, кормилицей нашей Еленой, дорогой мой Валерий Иваныч, – делая нарочито упор на имя и отчество помощника, говорил старый речник. Перекинув улыбчатый взгляд в боковое окно, капитан просто, без тени назидания добавил: «Между прочим, с моё потрешься меж берегов да во льдах, тогда, может и подружишься с Еленой Прекрасной». Довольный своим экспромтом о реке родной, Богатырев сел в кресло, скрипнувшее под его грузным телом. Поглядывая по сторонам, погрузившись в раздумья, он надолго умолк.
Придерживаясь положенной в таких случаях дистанции, используя в полной мере световой день, капитаны лишь с наступлением темноты прекращали движение, бросая якоря и включив рейдовые огни. На подходе к Ленску, месту назначения, караван рассредоточился, уступая очередь под разгрузку судам, доставившим срочные грузы. Так начиналось для Жилина его служение речному флоту. Из рейса в рейс к нему добрел угрюмый на вид капитан. Порой он открыто, по отечески, что случалось с Богатыревым редко, хвалил молодого помощника, подмечая в нем черты толкового судоводителя, человека решительного, уравновешенного, физически выносливого. Импонировали капитану приятная наружность и четкий басистый голос этого парня. В Жилине он видел себя молодого, устремленного в желании стать кадровым речником, а не плотогоном по необходимости. В далеком прошлом подросток Богатырев готов был в любой час уехать из родного Качуга, оторваться от семьи и от друзей, если бы ему только представилась возможность работать на пароходе. Не важно кем: кочегаром или матросом. Потому, когда его призвали в армию, он попросил комиссию направить его на флот. И он во флот попал, но не в морской, а в Амурскую Краснознаменную речную флотилию. Там то Семен и приобрел профессию рулевого-моториста, с чего позже, на гражданке, началась его речная биография. В летний сезон Богатырев ходил в рейсы, зимой, когда суда находятся на зимнем отстое, он, после вечерней школы, обучался на курсах судоводителей в Усть-Кутском речном училище. Обладая великолепной памятью, Семен, что называется, схватывал все на лету, на отлично сдавал экзамены по всем дисциплинам. С тех пор много воды утекло под килем судов, на которых трудился и рос до капитанской должности настырный сибиряк. За свой век Семен Богатырев прошел все судоходные реки Якутии и соседней Магаданской области, плавал в прибрежных водах Моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, то есть в Северном Ледовитом океане. В молодости Сема Богатырев был парнем ладным. В годы службы боксом увлекался, гири тягал и штангу, ради разминки вызывал кого-нибудь из команды на борцовский ковер. Вернувшись на гражданку, спорт не забросил. По боксу даже первый разряд завоевал на областном ринге. На все находил парень время. В зимний сезон, когда суда становились на отстой в Усть-Куте, не пропускал ни одного нового фильма. Ходил на танцы и пользовался вниманием у девушек. Однако закоренелый холостяк, каковым его уже стали считать друзья, женился с запозданием тридцатилетним мужиком. С женой Маришей вскорости родили одного за другим сына и дочь. Не успели малыши до школьного возраста подрасти, как у них появились еще два братика. О семье Богатырева речники говорили: «Вот это экипаж! Вот это команда!» Дети благополучно росли здоровенькими и жизнерадостными, получили образование, семьями обзавелись. Когда после очередной навигации, по случаю завершения сезона эта большая родня собиралась вместе, то не обходилось без того, чтобы кто-нибудь из детей не сказал в очередной раз постаревшему отцу: «Батя, может пора тебе все-таки твой морской-речной узел завязывать, кончать с пароходами, теплоходами? Внуками займешься, с мамой на даче будешь в банки-склянки огурчики собирать, набивать на покое трубочку табачком».
– Никак нет, сухопутные вы мои! – отмахивался отец. – Склянки на баке отбой мне еще не пробили, своим ходом благополучно иду к семидесятой миле, на буксир ни к кому не прошусь! – ставил точку в разговоре глава рода.
Зима для него была и в радость, и в тягость. Радовали дети и внуки, тяготили застой и унылость затона с его грязным от машин и кострищ льдом. Навивали тоску неподвижные, снегом обросшие коробки теплоходов, кропотливый процесс вымораживания судов, когда под их днища во льду делается своеобразный подкоп к рулям и гребным винтам. Изо дня в день, буквально по сантиметрам, приходится осторожно работающим людям скалывать кайлами стенки и дно «подкопов», чтобы углубить его, промораживая наружным холодом. Чуть ошибся – и в дыру хлынет вода. Завершив ледовую операцию, открываешь доступ к днищу, рулям и гребным винтам. Этой зимой капитан, с дальним прицелом, возложил на Жилина контроль за текущим ремонтом.
– Пусть парень сразу втягивается в эти дела. По всему видно, в помощниках долго ему не ходить. Толковый он, ничё не скажешь. Хваткий и куда грамотнее меня. В экипаж вжился – водой не разольешь, – довольный деловыми и личными качествами своего ведомого рассуждал Богатырев. Мысленно, в свою очередь, Жилин точно так же был доволен решением капитана. Он рассчитывал провести ремонт судна как можно быстрее и по его завершению взять положенный отпуск, чтобы съездить к родителям. Вспоминая о доме, он всякий раз думал и о ней, оставившей в нем от их мимолетной встречи глубоко врезавшуюся в память и сердце острую жажду увидеть ее. Вспоминая детство и школьные годы, он пытался подогнать под ее внешность то одно, то другое из лиц знакомых ему селивановских девчонок, но ни одно из них не подходило под образ Ольги.
– Может от того, что в противоположность многим своим сверстникам, я никаких особых чувств к ним никогда не испытывал? – думал Валерий. – Но ничего, скоро увидимся. Непременно увидимся! Я найду тебя! – убеждал он сам себя. Ему страстно хотелось узнать что-нибудь о ней от Димки Нечаева. С таким намерением он один раз даже пришел к нему в каюту, чтобы каким-то поворотом разговора, будто ненароком, расспросить земляка о девушке. Однако весь разговор свелся только про Селивановку, о купальных местах на Тунгуске и рыбалке. О родителях, конечно, поговорили. О братьях и сестрах тоже. Оба сошлись во мнении, что лучших мест нигде на земле нет, даже здесь, на Лене.
И вот солнечным февральским днем, двукрылый «Антошка» переваливает через кедровый хребет, тенью скользит по белой ленте Тунгуске, по поселку. Самолет делает крюк над широкой долиной и шумной птицей приземляется на заснеженный аэродром, возвращая Валерия домой к родным отцу и матери, в детство, когда он и вся селивановская ребятня встречали, как чудо небесное, каждый прилетающий сюда самолет.
Валерий не сообщал родителям о приезде и его никто не встречал. Из аэропорта он поехал на автобусе, на знакомом ему стареньком «ПАЗике», натужно гудящем, вызывающе скрипящем всеми «ребрами и суставами». Его водитель, с виду не менее потрепанный чем его машина, сразу узнал Валерия. Поздоровавшись и по-свойски разулыбавшись, спросил его: « Домой, стало быть, прибыл, стариков навестить?»
– Домой, домой, дядя Клим! – приветливо отвечал Валерий шоферу, по фамилии Полозков, знакомому с детских лет.
– Но, но, дело святое, паря! Должно, шибко скучают об вас родители то. Повыросли, поразъехались. Одна дочь на Камчатке, друга аж в Германии. Хорошо вот поблизости ты. Тута, в наших краях. Порадуешь стариков. Зайду вечерком, по одной пропустим, – с этими словами шофер умолк, обдумывая, видимо, свой маршрут. Немногочисленных пассажиров он безошибочно разве по адресам, доставил к самому дому и Валерия, напомнив ему, что вечером обязательно забежит. Увидев через окно подъехавший автобус и выходящего из него сына, мать всплеснула руками, громко выкрикнув: «Ой, дед, кажись Валера приехал!» В чем была, она кинулась к двери. Обрадованный и растерявшийся, старик бестолково затопотил по комнате, не зная что делать, но мигом опомнился, схватил первую попавшую на глаза расхожую одежку жены, нахлобучил на голову шапку и выбежал во двор, с прытью молодого устремившись к распахнутой настежь калитке. Столкнувшись у ворот с сыном и женой, старик едва не сбил с ног обоих, пытаясь обнять сына и накинуть на плечи жены куцовейку. Бросив чемоданы, Валерий обнял стариков, целуя то одного, то другого. Уткнувшись лицом к нему в грудь, мать тихо заплакала. Выступили слезы и под седыми бровями отца.
К вечеру в доме Жилиных набралось полно народа: старых друзей, ближних и дальних соседей по улице. Двух составленных вместе столов не хватило. Приставили даже тумбу швейной машинки, усадив за этот дополнительный столик Клима Полозкова, пришедшего с балалайкой и поллитровкой водки «Московская». Бойкий на язык и не по годам расторопный, он оказался тем самым заводилой, которые ведут так компанию, что не один из ее участников не остается не заряженным на веселье. Он, как по написанному сценарию, то и дело вбрасывал в разговор либо шутку, либо анекдот, в самый нужный момент заводил под балалайку какую-нибудь песню или частушку. За вечер какие только песни не пропели: сибирские «Ой, мороз, мороз», «По диким степям Забайкалья», голоса веселых гостей даже «выходили на берег с Катюшей» и специально для речника-моряка исполнили боевые куплеты крейсера «Варяг».
Вино и песни вконец развеселили компанию, разудалили и балалаечника. Чувствуя то, до какой бесшабашной веселости поднялось настроение застолья, Клим с жарким отчаянием, с виртуозностью деревенского музыканта вдруг выбил из струн звонкий аккорд и запел под частушечный перебор:
На Тунгуске я родился,
На Тунгуске вырос я,
Селивановке сгодился,
Все село – моя родня.
И едва Клим закончил четверостишие, чтобы перевести дух и еще шибче завести компанию, как из-за стола на средину комнаты бойко протопотила в такт частушке тетка Фрося, сестра хозяина дома. Известная на селе певунья и плясунья, не упускающая ни одной свадьбы или вечеринки, в любой мороз приходившая на гулянку в туфлях с подбитым каблучком и в ярком наряде, она картинно взмахнула руками, тряхнула русой косой, завязанной в узел на затылке, и звонко, вприпляс повела:
Селиванский лесоруб,
Мне, скажу, безмерно люб –
Рубит денежки, не пьет,
Все домой жене несет.
Еще больше разудалившись, Клим подхватывает:
Травы косит, косит рож –
Комбайнер во всем хорош.
Если сивую не пьет –
Бабу с дурости не бьет.
Выстукивая дробь каблуками, Фрося продолжает:
Ехал рыбку половить,
Да не смог в залив срулить.
Заманила в сети дева –
И уплыл мужик налево.
Частушки и пляска завели весь стол. Уставший балалаечник уже отложил в изнеможении инструмент в сторону, а вечеринка все продолжала петь и плясать.
Подсев к Полозкову выпить еще по одной, Валерий решил спросить, знает ли он семью Ермаковых. Сообразив о том, кто больше всего из них интересует молодого парня, Клим хитро улыбнулся и заговорил: «Э, паря, да ты не один, оказывается, глаз на её положил! Вопчем-то чё тут удивлятца, красива дочка Ермаковых. Ох, кака красавица! Но и, скажу тебе, умна не менее. Очень умная! Бог ее не только обличием, а ешо и разумом к тому же, наделил. Видать, за всех сестер и братика, рано почивших. Дескать, радуйтесь родители своему чаду, не зря вы стремились род свой продлить! С малых лет девчушка по всему от сверстников отличалась. Отличницей в школе была, в одном классе с ей какое-то время, до отъезда Ольги на Кубань, моя младшая училась. Счас Ольга на агронома учится в Иркутске. В энтот приезд, на каникулах, в январе к нам заходила. Веселая такая, разговорчивая. Сидишь рядом с ей, слушаешь ейные речи и сам будто моложе становишься, бодрость каку-то в себе чуешь – такое душевное тепло от её идет. По этой причине, думаю, парни наши табуном за ей волочатся. Сергей Ларионов, ты знашь его, это молодой учитель, уж как не старался ее заневестить – всего себя, красавец, перед ей выстелил, но она не допускала даже, чтобы под ручку ее взять. Гришка Паршин, сверстник твой, в Иркутске теперя каким-то строительным начальником сделался, тожеть сватался. Но тот забрасывал удочку через родителей Ольги. Увещал сделать ее самой счастливой, сказывал: «Будет жить, как не жили царевы жены». Хвалился перед стариками должностью своей и знакомством с важными людьми. Но куды ему с его то, прости меня, топорной рожей, с хитроглазым обличьем? Не врубается что ли, что ежели он пронырлив и кошелек у его не пустует, то это для семейной жизни ешшо не самое главное. Тут известно, душевная взаимность нужна. К примеру, железный топор с березовым топорищем вынуждены в тесной спарке дружить, существовуют и справно рубят. Но ведь их силком спарили в орудие. А живой душе березовый клин никак не подходит. Ей иное в себе хочется чувствовать! – смеется старик, пытливо всматриваясь в глаза Валерия. Парень смущенно отворачивается, по его лицу скользит мимолетное смущение.
– Чё покраснел-то, чё? Рази я не прав? – с усмешкой продолжает Клим. – Вот если б вы с Ольгой сошлись, нутром чую, у вас бы все как надо срослось. Уж поверь старику. – С энтих лет знаю обоих – ее и тебя, вот с таких, – Клим опускает руку ниже стола и продолжает, – Ребятки вы не балованные, родителей пуще всего почитаете. И статью друг дружке подходите, поверь старику. Будешь засылать сватов – обо мне не забудь. Не засиживайся, паря, в женихах. В народе-то как говорится: Коль созрел сынок – пора жениться. Затормозишся с энтим делом – счастье можешь проехать, не на ту приманку клюнешь в охотный час. Подгребет тебя в свой ситцевый сачок кака-нибудь ловкая разбитнуха – и привет! Будешь у ей, у «золотой рыбки», всю жись в услужении, либо на полдороги вдарите зад в зад, разбежитесь в разные стороны. Поживешь, поживешь бобылем, да приведешь в дом каку-нибудь разведенку, либо вдовушку, начнешь склеивать свое разбитое корыто с рассохшейся шайкой. Однако разности у их совсем не совместимые, вроде как у тележного колеса и оглобли. Колесо крутится, а оглобля на ём едет, понужает. Редко быет наоборот! – смеется захмелевший Полозков. – Ну, давай, дерябнем еще разок за твой приезд! – Клим поднимает стакан с недопитой водкой и чокается с Валерием. – Надеюсь, уверовал тебя старый сводник? – вопрошает Клим, смеясь сквозь усы. – Вот это допью и точка. Завтра Полозкову опять баранку крутить, опять дорогу на колеса наматывать, куды денешься, прирос дед к своей колымаге. А ты, Лерка, -так по – свойски назвал Полозков Валерия, – намотай себе на ус мои слова. Одним глотком опорожнив стакан, Клим встал из-за стола, попрощался с компанией и ушел. Оставшись без главного заводилы, гости приумолкли. Кто-то предложил налить по последней, на посошок. Выпили без особой охоты, поблагодарили хозяев и стали расходиться. Валерий тоже оделся, чтобы проводить гостей и тетю Фросю. По пути он припомнил, что дом Ермаковых находится от тетиного дома через одну усадьбу и что отца Ольги зовут Моисей Емельянович, а мать Зоей Кирилловной. Валерия неудержимо потянуло туда, где, как сказал Клим Полозков, не так давно была она, при одной мысли о которой в нем вновь начинает подниматься и будоражить все его существо какое-то непонятное волнение, которое вспыхнуло при виде ее тогда, в тот трагический для витимцев период, в те часы, когда драматическая земная сущность поселка воедино переплелась с бурно оживающей после зимней стужи природой, с песенным хором перелетных птиц, с теплым ласковым солнцем и голубым безоблачным небом. Черная вода и светлое голубое небо, людское горе и, словно сошедшая с Олимпа, счастливая девушка, холодные грязные льдины безжалостной стихии и жизнерадостное лицо стройной красавицы с ее лучезарной улыбкой – все смешала в один бурный поток весенняя большая вода, непрошено хлынувшая на берег, едва вкусивший радость предвестницы лета. Взбудоражив сердце и душу, половодье накрепко впечатало в память Валерия всю эту сумбурную серию картин, которые так и живут в нем, так и крутятся в сознании то угасающими, то ярко вспыхивающими видениями лиц и событий недавних и далеких.
Вспомнились студенческие годы и та первая женщина, пробудившая в нем нежданно-негаданно мужчину. Она была преподавателем вечернего факультета отделения «Строительство причалов и портовых сооружений», где параллельно с дневным обучением по судовождению занимался Валерий.
В свои неполные тридцать лет от рождения она уже успела получить высшее образование, пойти на работу в престижный проектный институт, получить вначале кандидатскую, а следом и докторскую степень по избранной профессии. И, естественно, предмет она блестяще знала, умея так подать любую, пусть самую прозаическую «железобетонную» тематику, точно ты не ее слушаешь, а влюбленного в свое творчество поэта. Перед тобой вставали, как в ореоле цветных прожекторов, казавшиеся в жизни обыкновенными, административно-бытовые здания, корпуса так называемой промышленной зоны. А на построенном ею причале, запечатленном на пленке видеопроектора, ты вдруг видишь, как молодой матрос, только что возвратившийся из плавания, горячо обнимается с любимой девушкой.
Виктория Сергеевна всегда прихватывала с собой на лекции набор соответствующих теме наглядных пособий: схемы и чертежи, видеопроектор с экраном, совсем игрушечные, миниатюрные макеты корпусов и пакгаузов различного предназначения. Все это собрание хранилось в комнате, отведенной проректором по хозчасти именно для их размещения. Виктория Сергеевна была всеобщей любимицей в институте, в том числе оттого, что она отличница, здесь училась. Когда Виктория появлялась в институте и шла по коридорам, выстукивая каблучками быструю дробь, то все, кто находился поблизости, студентки или студенты, молодые ли преподаватели словно только на одну ее «намагниченные», поворачивали головы в ее сторону. Парни шептались: «Смотри! Смотри! Викториночка идет! А приятель Валерия, с которым они на «вечернем» подружились, всякий раз выдавал сладострастно: «Мне бы такую!»
Желая угодить любимому преподавателю, Викторине-Властелине – так между собой они ее называли – многие студенты, в том числе и Валерий, старались прийти на факультет пораньше, чтобы перенести в аудиторию наглядные пособия к ее приходу из хранилища. Но в тот вечер у подсобки никого не было. Озадаченно размышляя, почему такое произошло, Виктория Сергеевна поднялась в аудиторию. Там тоже никого не оказалось.
Виктория Сергеевна присела за первый стол у двери. В тягостном ожидании прошло десять минут, четверть часа – никто не появлялся. Она решила сходить в деканат. Но в этот момент в коридоре послышались торопливые шаги. Отворилась дверь и в аудиторию вошел Валерий.
– Где же остальные, Жилин? – Недоуменно бросила она навстречу студенту.
– Понятия не имею, – оглядывая пустые ряды аудитории, удивленно раздумывая, отвечал Валерий.
– Вот и я в догадках, – продолжила разговор преподаватель.
– Кажется, кто-то идет, – оживился Валерий, поворачиваясь к входу.
Дверь отворилась наполовину и в проходе показалась уборщица тетя Дуся, обратившаяся к преподавателю: «Сергеевна, ваши студенты на какое-то индийское кино побежали. Слышала разговор, мол, впервые живьем увидят знаменитых артистов – оне перед сеансом на сцене выступят».
Сдерживая закипевшее в ней раздражение, вызванное сообщением уборщицы, Виктория Сергеевна все же бросила в адрес прогульщиков колкую фразу: «Ну, посмотрим, как они выступят у меня на зачете!».
– Жилин, а как же вы не с ними? – смягчившись, спросила она студента, по-прежнему стоявшего у двери.
– Я не знал, Виктория Сергеевна. С нашего судоводительского я в этой вечерней группе один.
– А если бы знали, тоже сбежали с лекции?
– Наверное… Как все.
– Хороши! Ох, хороши у меня студенты! – направившись к окну, продолжала преподаватель, чье уязвленное самолюбие подталкивало ее к какому-нибудь действию.
С верхних этажей и до нижних улица смотрела на нее яркими вечерними огнями. По заснеженному асфальту катили в ту и другую стороны автомашины, сновали по тротуарам люди. За перекрестком, в сотне шагов отсюда – ее дом.
– Ну, что же теперь поделаешь. Пусть посмотрят кино и живьем артистов. Отдохну и сама, – смиряется с обстоятельствами Виктория. Улягусь пораньше, отосплюсь за последний напряженный месяц. Досадно, электрик сегодня занят, что-то в общежитии заставили чинить. И опять спальня у меня без света. Некому заменить заискривший у потолка патрон абажура и сменить, возможно, выключатель, – думает Виктория и оборачивается к студенту.
– Жилин, а вы в электричестве разбираетесь? – неожиданно обращается она к Валерию.
– В каком смысле? – недоумевает Валерий.
– Не в научном, естественно, смысле, а в простом, бытовом. У меня в спальне надо заменить выключатель и патрон для лампочки в абажуре. Я купила и то, и другое. Принесла от соседей стремянку. Хотела электрика пригласить, а его к вам в общежитие отправили что-то чинить. Вы сможете с моей незадачей справиться? Если – да, то я тут рядышком живу.
– Какой вопрос! – отвечал незадумываясь Валерий. – Для вас, Виктория Сергеевна, готов электростанцию построить! Поставить персональный трансформатор! Честное слово!
– В таком случае и мы с вами сбежим с урока, – смеется Виктория Сергеевна, окончательно смирившаяся с ситуацией.
По дороге домой она не уставая рассказывала «неновосибирцу» Жилину о городе и о своей улице, где она знает каждую булыжину в мостовой, каждый подъезд и балкон своего большого старинного дома сталинской постройки, с высокими потолками. Поднявшись на третий этаж, она открыла дверь квартиры и пропустила вперед гостя, глядя ему вслед с чувством близкого знакомства и взаимопонимания, возникшими в ней к нему еще по пути сюда. В ее сознании закрутились эпизоды из проведенных ею лекций, лицо этого кудрявого, по-сибирски крепкого, открытого парня, до розовости щек смущяющегося при обращении к ней.
Захлопнув за собой дверь, она провела его в прихожую, предложив сбросить пальто и разуться. Зардевшись, он неуклюже развернулся, протягивая руки к хозяйке в попытке помочь ей раздеться. Виктория улыбнулась, кокетливо сотворила полуоборот, позволивший Валерию снять с нее шубку. Сбросив сапожки, она пригласила Жилина пройти в зал, предложив гостю сесть в кресло перед журнальным столиком, на котором аккуратной стопкой лежали журналы и отдельно несколько газет.
– Посмотрите прессу, а я пойду переоденусь, – сказала она и удалилась.
Машинально перелистывая страницу за страницей взятого из стопки красочно оформленного журнала, Валерий с любопытством оглядывался по сторонам, отмечая, с каким вкусом подобраны Викторией гардины на окнах, мебель в прихожей и в гостиной, обои на стенах и картины – по одной на каждой из них. Испытывая некую неловкость в первые минуты вхождения во владения общелюбимой парнями курса Вики-Викулинки, Валерий постепенно привел в равновесие все свои чувства. Ему лестно было сознавать, что он так вот запросто уселся в белое кресло у нее в квартире. Такого наверняка никому из сокурсников не грезилось даже во сне. Это он наяву слышит ее мягкие шаги, видит ее переодевшуюся в домашний халат, вошедшую в залу с карманным фонариком и с небольшим инструментальным ящиком.
– Вот здесь отвертки и пассатижы, бокорез и нож для зачистки проводов. От папы остались. Пойдемте в спальню. Я вам буду подсвечивать фонариком, – щелкнув кнопкой и направив луч света в лицо Валерию, она звонко засмеялась и пошла в спальню, показывая, где находится раскладная лестница-стремянка.
Установив шаткое приспособление под абажуром, поднявшись до ступени, с которой ему свободно было взять в руки абажур и его внутреннее содержимое, Валерий открутил патрон вместе с лампочкой. Вика непринужденно наблюдала за работой новоявленного электрика, поддерживая стремянку и подсвечивая ему фонариком. Снизу вверх, вскользь она разглядывала крупные ступни ног, облаченных в джинсы, плотно облегающие тело до самого пояса. На миг ее взгляд остановился на выпуклости ниже пояса… И, словно ожог, словно электрический разряд в те же секунду пронизал ее всю от груди до пят. У нее дрогнула рука, удерживающая стремянку.
Заменив патрон и перегоревшую лампочку, Валерий попросил хозяйку включить свет. Его голос вернул Вику к действительности. Едва она отошла от лестницы к выключателю и нажала на клавишу, как в спальне стало светло, а следом, заскрипев на все лады металлическими суставами, стремянка вместе с электриком повалилась набок. Лестница отлетела с треском к выходу из комнаты, а незадачливый монтер упал на ковер. Скорчившись от боли в руке, он лежал не двигаясь. Растерянная, винящая себя за то, что отошла от шаткой стремянки, она побежала к парню, опустившись перед ним на колени.
– Сильно ушибся, Валера? – вырвалось у нее из уст, когда она бросила возле него включенный фонарик и склонилась к его лицу. Верхний свет и луч фонаря, направленный в ноги Вики, высветлил подол ее распахнувшегося халата, обнаженные ноги и далее, глубже до низа живота. Валерий смущенно отвернулся – она была без нательного белья…
Ничуть не огорчившись, но догадавшись в чем дело, Вика наклонилась над парнем еще ниже, развернула к себе его голову и с жаром припала губами к его губам. Целуя Валерия, она лихорадочно прошлась руками по его рубашке, расстегивая ее и обнажая грудь парня. Распахнув свой халат она остервенело швырнула одежду прочь и еще яростнее принялась целовать Валерия. Что последовало затем – оно густо смешалось, туго переплелось в одну бурную быль и небыль.
Поднявшись на исходе бурной ночи первой, Виктория тихо выскользнула из объятий спящего парня и стала наощупь искать свой халат. Не обнаружив его там, куда обычно укладвывала – на спинка кровати – она неслышно засмеялась. В спальне стоял полумрак, смешанный с вызревающим за окном рассветом и с приглушенными туманом отблесками огней большого просыпающегося города.
Отыскав халат, Вика пошла в ванную. Под приятыми струями душа, освежив полную грудь и не склонное к полноте тело, она критически осмотрела лицо от подбородка до носа и бровей. Оставшись довольной и фигурой, и отсутствием даже намеков на морщины на лбу, она отправилась в кухню, приготовить перекус на двоих.
За столом Вика была немногословной. Будто провинившаяся школьница, Валерий тоже воздерживался от разговора, сосредоточившись больше на чайном сервизе, а не на хозяйке. Разливая по чашкам ароматный кофе, она коротко бросила: «Знаете, Валерий, я никак не пойму, отчего все это произошло. И, надеюсь, что наше сегодняшнее «короткометражное кино» останется между нами, не будет афишировано. Вы согласны?».
Ошарашенный строгостью в голосе и холодным взглядом Вики, Валерий опустил глаза и обреченно качнул головой, в которой, между тем, все еще стоял, медленно рассеиваясь, сладостный дурман проведенной вместе с ней ночи, минуты мгновений безумного кипения его молодой крови, на толчки которой Викино тело откликалось с не меньшей безудержной силой.
– Будем считать, что это был сон, – сказал он, поднимаясь из-за стола.
– Вот именно, – подтвердила она.
Из квартиры они вышли порознь.
– Было такое же зимнее время, – думал Валерий. – Эти же сибирские холода с туманной дымкой над Новосибирском.
Вспоминая институтский «курс любви», не зная огорчаться этому опыту или нет, Валерий зашагал в раздумье от тети Фросиного дома к избе Ермаковых.
Провожая тетю Фросю и прощаясь с ней, Валерий пообещал заглянуть к ним на днях. Время было позднее, в улице ни одного фонаря. Судя по темным окнам, Валерий решил, что старики спят. Остановившись у палисадника дома, расположенного напротив избы Ермаковых, думая о их дочери, он стал красочно представлять, как бы сейчас, будь Ольга со мной здесь, в роли провожаемой, она открыла бы калитку, как вошла в дом, как включила бы свет, сбросила с себя куртку и обувь, подошла к окну и помахала ему рукой… Мысли прервал свет, полосой ударивший из окна в темную улицу. Жилин от неожиданности замер, уставив не моргающий взгляд в одну точку, где за тонкой шторой, прикрывающей пол-окна, ходила высокая, худая, одетая в ночнушку старуха. Привидение подошло к столу, раскрыло висящий над ним шкафчик, что-то достало из него и кинуло себе в рот. Затем нацедило из чайника себе в кружку воды, выпило и, выключив свет, исчезло в комнатах. Преодолев минутную растерянность, Валерий пришел в себя и быстро зашагал по улице, шепотом утверждая свое предположение: это была ее мать.
Прошла зима, осталась позади очередная навигация, оказавшаяся для Жилина еще напряженней первой. Объем грузоперевозок возрос, а условия судоходства сильно усложнило сухое жаркое лето. Уровень воды в реке понизился до того, что проходить по обмелевшим перекатам суда могли только загрузившись наполовину. А для развивающейся Якутии и особенно для города Мирного и его алмазодобывающих предприятий, в разы возрос поток строительных материалов, техники, горючего для автомобилей и самолетов, продуктов питания и промышленных товаров. На месторождениях алмазов, горняки с рекордными итогами вскрывали слой за слоем вечную мерзлоту, добираясь до богатой руды. Тоннами взрывчатки поднимали они земную твердь, превращая в россыпь взорванную горную массу, которая экскаваторами отгружается в кузова больших карьерных самосвалов и отправляется на обогатительные фабрики. Сухогруз Богатырева с весны занарядили под перевозку взрывчатки, благодаря чему им довелось увидеть в натуре эту грандиозную карьерную панораму, когда их свозили на однодневную экскурсию из Ленска в Мирный. Они воочию наблюдали из укрытия, как сотрясая округу, страшный гром отрывает от стенки карьера огромный массив скалы, вздымает его вверх и дробит. Зрелище неимоверное! Но все же со стороны не столь страшное по сравнению с тем, в центре которого оказался в мае экипаж «Яны». Загрузившись у спецпричала в Усть-Куте контейнерами с аммонитом (аммиачно-селитровые взрывчатые смеси) экипаж вел состав с особой осторожностью, предусмотренной соответствующими инструкциями. В рамках строгих правил предстояло следовать по маршруту и шкиперу прицепной баржи и всей команде «Яны». Соблюдая скоростной режим и четко придерживаясь рамок судового хода, караван судов приближался к тому самому сложному отрезку пути, который речники меж собой прозвали «чертовой дорожкой». На протяжении пятидесяти километров река здесь круто меняет направление, уворачиваясь от сжимающих ее скалистых берегов. И капитанам волей-неволей тоже приходится изворачиваться, приноравливаться к поведению реки, послушно вписываться в судовой ход, где из-за сужения русла скорость течения превышает десять километров в час, а в половодье – и того больше. Полноводная, спокойная обычно на большем своем протяжении, река только тут, на подходе к знаменитым Ленским щекам (покорившим своим величеством повидавшего немало в кругосветке известного писателя Ивана Гончарова, проехавшего мимо их зимой в пятидесятых годах восемнадцатого столетия. Прим. Автора.) показывает речникам свое строптивое лицо. Здесь, в горах, своеобразна и воздушная среда. Часто бывает так: вокруг устанавливается хорошая погода, а тут либо воцаряются застойные туманы, либо, ни с того ни с сего, засквозит в расщелинах скал, налетит на долину реки жуткий ветер, нагоняя дождевые облака. И начинается буйная круговерть. «Чертова дорожка» встретила в тот рейс караван судов напряженной тишиной. Но она стояла лишь в низине, по руслу реки. А там, в вверхах, прямо по курсу, над хребтами, воздушные потоки на глазах сгущали и прессовали непроглядное море туч. И вот, в какой-то миг, ослепительная молния электрической нитью прочертила, разрезала черноту небосвода, разветвилась и оборвалась, растворившись в отяжелевшей завесе туч. В те же секунды, будто снаряд от запала, небо взорвалось, раскололось, и оглушительные раскаты грома покатились по горам и речной долине. Выруливая из-за поворота на широкий плес, теплоход Богатырева медленно плыл, толкая пристыкованную к нему баржу. Обеспокоенные ситуацией, в рубку поднялись капитан и его помощник Жилин. Замедлив шаг у крайнего правого окна лобового ряда, капитан остановил свой взгляд на носовом стыковочном узле, где через палубные кнехты теплоход связан с баржей толстыми стальными тросами. В тесном промежутке корпусов бурлила и пенилась вода, высоко расплескивая от движения, дробимые ветром вееры брызг. Ударяющиеся в железные скулы теплохода и откатывающиеся вдоль бортов, ясно видимые только вблизи, волны, седыми усами расходились в обе стороны. За кормой их недолговечный пенный след исчезал, сливаясь в единый темный поток. А впереди из-за высокой скалы, под которую теплоход подходил, показался обширный, быстро текущий край грозового фронта. И едва «Яна» сравнялась с каменной, широко стоящей высоченной вертикалью, как по небу вновь побежала сверкающая раскаленной извилистой нитью, длинная, в полете превращающаяся в разветвленный корень гигантского дерева, грозная молния. Одни отростки от нее с треском разлетелись над вершиной скалы, другие, словно отскочив от гранитной стены, ослепительной россыпью, со скоростью света полетели в реку. Не успели Жилин и капитан что-либо сообразить, как одна из огненных стрел с оглушительным треском ударила по кормовой части баржи, по деревянной самодельной лодке шкипера, по металлическому бензобаку. Сухая, пропитанная для водонепроницаемости и прочности эпоксидной смолой, лодка разом вспыхнула, подобно подожженному большому спичечному коробку. Языки высоко поднявшегося пламя заметались по всей корме, угрожая охватить огнем жилой вагончик шкипера и ближние контейнеры с взрывчаткой. Первым от растерянности оправился капитан. Крикнув рулевому матросу, чтобы он внимательнее смотрел по сторонам и не уклонялся от указательных створов, Богатырев дал знать Жилину, чтобы тот поднимал экипаж по тревоге. Включив сирену и оповестив команду о пожаре по внутренней связи, Жилин по трапу кинулся вниз. В одном из переходов он снял со стены огнетушитель и выбежал на палубу. Прикрываясь курткой, в дверях вагончика показался шкипер. С бешенным визгом выскочила из конуры и равнула вдоль борта к носу баржи, подальше от огня его собака. Бежали, разматывая пожарный рукав, боцман и двое парней. Окропленная бензином, лодка полыхала во всю свою десятиметровую длину. Краска на раскаленной палубе и на вагончике шкипера начала дымиться. Жилин, шкипер и молоденький матрос – как и Валерий, новичок на судне – кинулись дружно сбивать пламя пенными струями из огнетушителей. С брандспойтом в руках к ним бежал боцман. Едва он вскочил на переходный мостик, соединяющий теплоход с толкаемой баржей, как раздался сильный взрыв – рванули две канистры, одна с бензином, другая с моторным маслом. Горящими головешками вверх полетели резиновые сапоги и спасательный жилет, куски разорванного взрывом брезента и что-то еще. Часть чего-то улетела за борт, часть горящих ошметков упала на палубу и на вагончик шкипера. Взрывная волна сбила с ног и отбросила всех троих смельчаков к противоположному борту баржи. Вгорячах не почувствовав ушибов, Жилин вскочил на ноги и побежал помогать боцману подтянуть пожарный рукав. Опершись спиной о фальш-борт, боцман направлял струю воды то на горящую лодку, то на вагончик и ближние контейнеры. В поддержку боцману и Жилину прибежали оба охранника, сопровождавшие взрывоопасный груз. Двое матросов протянули на баржу еще один пожарный рукав, по которому пенной струей пошла жидкая смесь, предназначенная для тушения нефтепродуктов. Пламя стало таять на глазах, сворачиваться и блекнуть. Еще один, второй заход – и оно окончательно погасло. А небо все грохотало и грохотало, словно там, наверху, по ухабам небесной дороги, какой-то великан катал и сталкивал друг с другом огромные чугунные шары. Мокрые с головы до ног, возбужденные борьбой с огнем, люди не заметили, как на связку и всю округу опустился дождь. Мелкий, будто просеянный через частое сито, он сначала только реденько брызнул, но минутой позже сменился на крупный и хлесткий ливень, перемешанный с градом. Волновыми зарядами шквал непогоды неистово обрушивал небесную мощь на горы, реку и теплоход. Наблюдавший из рубки за происходящим, капитан дал отбой тревоги. Вырулив с кривой излучины на прямую линию фарватера под корректировкой Богатырева, рулевой матрос вывел грузовой состав на середину реки. Видимость была некудышной. Прохаживаясь вдоль панели приборов, капитан остановился у локатора, включил этот электронный глаз в работу со словами «Слава тебе Господи» и успокоенно вздохнул. Осмысливая ситуацию, стараясь по пройденному километражу и времени представить, какой береговой ориентир он должен бы сейчас увидеть, Богатырев пристально всматривался в голубой экран, стараясь не упустить ни одной детали. За многолетнее вождение судов по Лене он изучил реку не хуже картографов или лоцманов. «Ленская дорога» стала для него каждодневной жизнью, ежесекундным дыханием, кровеносной веной, питающей сердце и ум. От своего порта до устья реки капитан и без навигатора четко себе представлял, по какому отрезку пути ведет он сейчас теплоход, какую глубину отмечает под его днищем эхолот и какими приметами отличаются от других мест именно тот или другой берега, вдоль которых в текущую минуту продвигается его плавучий грузовик. Внутренним чутьем, умозрительно ощущает старый капитан, как гудят в кормовом отсеке дизели судовой машины и лопасти гребных винтов толкают тяжелую громадину состава вперед, как натужно скрежещут стальные скрепы связки, накрепко сцепившие плывущую пару в одно целое, равное по габаритам океанскому кораблю. Он и сам ощущает себя неотрывной частью этого чувствительного, живого организма с женским именем Яна. Мысленно прикидывая, ехать ли ему дальше, или остановиться на одном из трех ближних рейдов, построенных для этих целей путейцами, капитан включил рацию. Ему хотелось услышать голоса тех, кто шел вслед за ним и кто идет впереди, чтобы расспросить о погоде и сделать выводы, насколько широко охватила непогода Ленский бассейн в районе скал. Через треск и шум эфира, забитого грозовыми разрядами, трудно было что-либо разобрать, но из обрывочных фраз можно было заключить, что впереди над рекой творится тоже самое, с чем столкнулся его экипаж. В это время в рубку вошли Валерий и боцман Точилин, переодевшиеся во все сухое. Несмотря на то, что на них была свежая одежда, запах гари от мужчин источался на все помещение.
– Чё, мужики, управились? – преобразившись в лице и во взгляде, где не осталось и тени тревоги от всего происшедшего, спросил Богатырев.
– Управились, черт бы его побрал, – отвечал боцман. – Ливень пройдет – приведем в порядок оборудование, палубу приберем. Ребята до нитки промокли, пусть обогреются. Град вон какой хлещет, не даёт высунуться. Прямо не град, а ледяная шрапнель! – Точилин искусно ежится.
В подтверждение слов боцмана, Жилин кивает головой в сторону стекол, по которым ледяные шарики отбивали глухую дробь.
– Рубануло так рубануло! В жизни такого не видывал. Благо не в антенну угодило, натворило бы нам на всю катушку. Знать шельма не в нас метила, – окончательно повеселев, с хитрецой поглядывая на собеседников из-под кустистых бровей, говорил довольный капитан. Нагнувшись над локатором в неподвижной позе и делая вид, что он занят только экраном, настороженным голосом капитан спросил: «Из команды никто не пострадал?»
– Нечаева при взрыве о борт ударило, парень плечо ушиб. Остальные наши и охрана в полном порядке, – отвечал Жилин.
– Ну и чуть у огня лешего не перегрелись! – загоготал боцман, теребя волосатый подбородок, – Думал подпалю бороду, придется посля под бритву садиться. Жалко шкиперскую лодку – ходкая, подъемная была посудина, – продолжал он заглядывая в обзорное окно.
– Видели, Семен Степанович, – перебивая смех Точилина, продолжал Валерий, – огонь по палубе потащило под вагончик и под контейнеры с взрывчаткой?
– Чё ж не видеть-то, видел! Вы с боцманом в самый раз подоспели, вовремя красного петуха за гребень перехватили, за горло взяли. Молодцы братцы, молодцы! Иначе пришлось бы, не дай Господи, нам в три голоса на всю вселенную кукарекать. Хвалю братцы! С вами, как говориться, хоть в огонь, хоть в воду! – он подошел к своим подчиненным и попросту, как бывало при встрече с семьей, крепко обнял их, добавляя, – а счас, друзья мои, рулим к третьему рейду, там заякоримся, переждем эту беду.
Между тем ветер и ливень буйствовали не унимаясь. Гонимая шквалом, на реке поднялась волна. Дождевая завеса, перекрывая видимость, теснила и рвала в таежной долине последние остатки светового дня. Продвигаясь словно наощупь, через полчаса Богатырев поставил свой грузовой состав на вынужденную стоянку в путейском кармане у подошвы каменного утеса, где «Яна» и ночевала до утра.
В то лето экипаж Богатырева брал наряды не только до Ленска. С грузом для пограничников и военных они ходили в Тикси, по-настоящему почувствовав арктическое дыхание моря Лаптевых и напряженность вахт в ледяных водах Севморпути. До зимы команда успела вернуться в Усть-Кут, хотя и пришлось ей на последних сотнях километров пробивать себе дорогу в вязкой каше осенней шуги при густых снегопадах. Большие тонны и протяженные маршруты принесли экипажу хорошие заработки. Димка Нечаев съездил в Иркутск и пригнал оттуда УАЗик. Подержанный, правда, но на вид вполне приличный, с утепленным чехлом под брезентовым тентом и на новой резине. Валерий знает, что отец давно нацелен поменять старенький мотоцикл, хотя бы на «Запорожца», да в очередь за ними в совхозе не записывают, а на «Москвич» в поссовете она вытянулась на такую длиннющую веревочку, что если с этим делом завязаться, то к «морковкиному заговенью» вряд ли твой узелок развяжется. Размышляя о ситуации с очередями, Валерий подумал, что, может быть, в пароходстве существует схема с приобретением автомобилей, проще сельской. «Забегу-ка я после работы к Степанычу. Он, пожалуй, знает, как распределяются автомобили среди очередников. Заодно проведаю старину, доложу о ремонте, обсудим, следует ли делать ревизию дизелей сейчас, когда прижали, притормозили работу необычайно низкие температуры; или перекроить график и подождать потепления», – размышлял Жилин. Как и в предыдущий зимний отстой, в этом году капитан вновь возложил на него все руководство профилактикой и ремонтом оборудования, механизмов и корпуса теплохода. Оформив отпуск, Богатырев отдыхал на загородной даче, изредка заезжая в затон, где стояла замороженная во льду «Яна». Изловив такси, Валерий заехал в гастроном, чтобы прикупить что-нибудь для предстоящей встречи. Глаза разбегались при взгляде на винный ряд. Хотел взять бутылку дорогого коньяка или модного ликера «Шартрез». Но как такой сюрприз воспримет кэп, которого никто еще не видел «под шафе» или с похмелья? Потоптавшись у прилавка, Жилин развернулся и прошел в кондитерский отдел. Короткий морозный день сменили быстрые туманные сумерки. С коробкой торта и упаковкой воронежских пряников, с плиткой монгольского зеленого чая – любимым напитком капитана, – Валерий вошел, постучавшись в незапертую дверь дома Богатыревых, с порога поздоровался. Семен Степанович с женой Марией Лаврентьевной ужинали.
– Ой, кто пришел то к нам, дед! – всплеснула руками хозяйка. – Валера, миленький ты наш! По такой стуже, да потемну! Разболакайся, разболакайся! Супчиком согрею! – суетилась Мария Лаврентьевна, поднявшись из-за стола и направившись к гостю.
– Это вам к чаю, – Валерий сделал шаг вперед, подавая пакет с гостинцами хозяйке. Скрипнув стулом, лицом к гостю повернулся хозяин.
– Одежку на вешалку, обутки не сымай, не лето, пол холодный, – пробасил Семен Степанович. Усаживая гостя за стол, наполняя тарелку супом, хозяйка продолжает охая:
– Ноне такой холодище навалился, ужас! Я от печки не отхожу. Говорю Сене, давай в квартиру переедем, все не возиться со снегом во дворе и не таскать ведрами воду с проруби. Нет, не хочет. Здесь, видите ли, у его санаторий, – произносит Мария Лаврентьевна с иронией в голосе. – Целыми днями дрова колет, а я сутками печку топлю, санаторий его безтуалетный обогреваю! – в том же тоне делится с гостем своим неудовольствием хозяйка, словно желая вызвать сочувствие у Валерия, а у мужа сострадание. Но капитан непреклонен, он молча опростал тарелку, отставил посуду на край стола, вытер салфеткой усы и закурил трубку.
– На тачке приехал? – спрашивает капитан, выпустив колечком ароматный табачный дымок.
– Да. Через час подъедет, заберет.
– Какие-то вопросы есть?
– Один: разрешите пока дизелями не заниматься, на обогрев много электричества уходит и результат не тот, без гарантии качества.
– Понимаю, бывало такое. Можно повременить. В принципе, машина у нас хорошая. Ревизию дизелей и генераторов проведем позже. Чё еще? Вижу не все выложил?
– Это личное, семейное. Отец мечтает машину приобрести, даже в очередь на «Москвича» записался в поселковом совете. Он ветеран войны. Но я-то знаю, что не один он такой в Селивановке и для всех желающих машин туда не завезут. Подскажите, есть ли смысл встать мне на очередь в пароходстве и долго ли придется ждать?
– Валерий, а тебя, случаем, не бабка-гадалка, иль цыганка прохожая ко мне отправила?
– Вы про что, Семен Степанович?
– Послушай, мы же про машины толкуем?
– Ага, но не гадалка, а Димка Нечаев навел на эту мысль. Третьего дня он из Иркутска УАЗик пригнал. Не новый, правда, подержанный. Но мне не хочется с рук покупать, вдруг на «вторчермет» нарвешься. Придется тогда на одни запчасти пахать.
– Ах, вон оно чё! – заулыбался капитан, откинувшись на спинку стула. – Ну, а если из моих рук? – на лице капитана застыл загадочный вопрос.
– Вы что, хотите мне свою «Волгу» продать? – удивленно спрашивает Валерий.
– Ладно, не буду с тобой в прятки играть. Не хотелось мне событие опережать, да прижал ты меня, еще и при Лаврентьевне. Она же тебя как своих сыновей любит. Не совет тебе дам, Валерий, раскрою приятный для тебя секрет: дирекция объединения «Якуталмаз» выделила из партии автомашин, закупленных для своих передовиков, пять легковушек нашему пароходству, дескать, в знак благодарности за поставку срочных грузов. Наше начальство и профком решили две «Нивы» отдать моему экипажу. Конкретно тебе и боцману, как отличившимся при пожаре в особо сложных обстоятельствах, не допустивших распространение огня при транспортировке взрывчатых веществ. Так, примерно, записано в приказе по пароходству, Валерий Иваныч, дорогой ты мой, – довольный сказанным, умолкает, попыхивает зажатой в зубах трубкой старый капитан.
– Я не ослышался, Мария Лаврентьевна? – глядя на капитана и не оборачиваясь к хозяйке, сидевшей на табуретке у плиты, произнес тихим вкрадчивым голосом, ошарашенный новостью парень.
– Правда, правда, Валерий, начальство готовится провести собрание, там вам всем и вручат ключи от машин. Вот уж порадуешь родителей! – отвечала хозяйка. Жилин при этих словах соскочил со стула и порывисто обнял своего улыбающегося шефа, прижавшись к его колючей щеке.
– Будет тебе, будет, Валера! – бурчит растроганно Богатырев, – Давай-ка еще по чашечке зелененького. Лаврентьевна, неси сюда чайник, что-то в горле сухо стало, – откладывая трубку на край массивной пепельницы, распоряжается хозяин. За чаем разговор смещается к делам житейским. Возвращаясь к теме о холодах, Мария Лаврентьевна поясняет, что больше всего она держится за дачу из-за подполья, где хранятся разные соленья, картофель и морковь, клубни гладиолусов и варенье из лесных ягод – все для ее большой семьи.
– Если съехать отсюда, – считает она совершенно обоснованно, – то не наездишься топить печку. А если не топить – в подполье на третий день все померзнет. Расспросила гостя Мария Лаврентьевна и о его родителях. Час пролетел, как одна минута. С улицы послышался сигнал автомобиля – приехал таксист. Наскоро попрощавшись с хозяевами, Валерий вышел на улицу, морозом охватившую его разгоряченное лицо, окунулся в густую темноту, заслонившую долину реки и город, слабо мерцающий отдаленными огоньками.
Усевшись в машину и поблагодарив шофера за пунктуальность, Валерий попросил таксиста проехать в город через затон. Его потянуло взглянуть на строй замерзших во льду судов, на свой теплоход. Когда к судну подъехали, Валерий не стал подниматься на борт, где только в одном иллюминаторе у дежурного горел свет, а лишь прошел медленным шагом вдоль теплохода, остановившись на минуту в раздумье перед носовой надстройкой. Это ее рулевая рубка открыла перед ним речные просторы Лены, знаменитые Ленские столбы – редкостное земное чудо, каких мало в мире. Веками ветры, снежные вьюги, дожди и солнце – эти неистощимые силы природы – ваяли из скал сказочно величественные замки и монастыри, суровые сторожевые башни с неприступными стенами, залы с окнами на бескрайние глубины Вселенной. Через окуляры бинокля он увидел с капитанского мостика «Яны» широкие просторы тундры и разглядывал взирающих любопытно на людей, белых медведей Арктики. Ему захотелось быстрей повернуть землю вокруг оси, привезти сюда весну и вновь отправиться на ее крыльях в плавание.
Торжественное собрание и банкет, посвященные итогам навигации, прошли с высокой помпой, с наплывом журналистов, которые, как узнал Валерий позже, дружно опубликовали на страницах газет «гвоздевые» статьи и репортажи. В материалах прессы рассказывалось не столько о достижениях речников пароходства, сколько о мужестве экипажа «Яны», проявленном при пожаре в рейсе на открытой воде в жестокую грозу. Приезжала на торжество и делегация алмазодобытчиков из Мирного. Победителей соцсоревнования награждали под оркестр. Лучшим вручили ключи от машин, другим передовикам – подарки, денежные премии и Почетные грамоты. Пятеро из них разъехались по домам на подаренных автомобилях. Как и большинство из них, Валерий добирался теперь на работу за рулем своей «Нивы».
Морозы отступали. Экипаж «Яны», принявший весь объем профилактических работ на себя, в основном завершил их с опережение графика. На теплые дни оставили только покраску надстроек и самого корпуса теплохода. Капитан разрешил всем, кто пожелает, пойти в отпуск. Димка Нечаев спросил Жилина, поедет ли он домой своим ходом и составит ли ему компанию. Сказал, что по зимнику из Селивановки проезд налажен. Геологи забрасывают на точки оборудование для буровых вышек, а из Селивановки в Усть-Кут шоферы везут круглый лес. От них он все разузнал о дороге. Считают, что на УАЗе и Ниве проехать можно, если, конечно, зима сверху за это время ничего на тайгу не добавила.
– Следить за дорогой особо-то некому. Леспромхоз и геологи выставили на трассу всего три бульдозера, один из которых вскоре сломался. Надеются, что шоферы сами трассу укатают УРАЛами, – говорили Димке водители.
– Понятно, – отвечал Жилин. – На УРАЛах в самом деле можно и по целику ездить. А вдруг запуржит, как тогда я буду на «Ниве» пробиваться через заносы? Вспомни, Димка, что делается на нашей районной дороге в снегопады?
– Да УАЗик не хуже УРАЛа по целику гребет, а следом за мной и твоя Нива пройдет. Засядешь – вытащу на веревке. Кстати, надо бы для колес цепи сварганить. Взять канистры с бензином, паяльную лампу на всякий случай. По зимнику заправок нету, каждый идет со своим запасом горючего.
– Хорошо, я подумаю. Машину-то все равно домой надо гнать. А ты, Дима, можешь узнать, когда еще селивановские лесовозы сюда подъедут?
– Я вкурсе, они приезжают либо на базу лесокомбината, либо на товарный склад железнодорожной станции. Между прочим, самый отменный кругляк от нас везут. На экспорт, понятное дело, в Китай или в Японию.
– Вот если с ними в колонне поехать, тогда точно до Селивановки доберемся, – высказал свою мысль Жилин.
– Ладно, я сегодня же все разузнаю, – заверил Нечаев.
Но съездить ему не удалось – занимались уборкой палубы. Оформив на другой день отпуск, Валерий и Дмитрий поехали на базу лесокомбината. У диспетчера они выяснили, что со дня на день ожидается приезд четырех лесовозов из Селивановки. Шоферы разгрузят машины и будут отдыхать в общежитии лесокомбината, где для них отведена комната.
– Вот этого вам и хотелось, Валерий Иванович, – обращается нарочито к земляку по имени-отчеству Димка. – В кильватере такой колонны можно спокойно рулить до самого дома, – довольным тоном отмечает он. – Вечером свяжу цепи и заправлю парочку канистр бензином, в расчете на обе машины. А продукты и мелочевку соберем завтра. Пойдет?
– Пойдет, Дима, пойдет, – соглашается Валерий. – Встретимся завтра у гастронома в двенадцать и купим все, что надо. Много ли потребуется нам на каких-то пару суток? Не такой уж дальний путь – 300 верст с гаком.
– Ага, дальний – не дальний, короткий ли не короткий, не будем загадывать. Но у нас, Валерий, в Сибири как говориться: «Идешь в тайгу на день – бери провизии на неделю». Верно?
– Что верно, то верно. Завтра в магазине посмотрим и на чем глаз остановится – возьмем. До завтра! – Валерий жмет Дмитрию руку и они разъезжаются.
Лесовозы из Селивановки прибыли на третий день. Друзья отыскали шоферов у столовой лесокомбината. Надев для солидности форменную шинель с нашивками и шапку с кокардой, Валерий подошел к ним, представившись земляком. Но «земляки» оказались не уроженцами Селивановки, а приезжими, по так называемому, оргнабору. Один из Пензы, двое из Ульяновска, четвертый – залетный сокол с Северного Кавказа.
– Рамзан Исмаилов, бригадир, – представился он Валерию.
– А мы с Дмитрием селивановцы, коренные, – дружески проговорил Жилин. – В отпуске. Собрались своим ходом поехать к родителям. Не хочется терять время, намеривались пораньше выехать, не с кем было, да и не решались самостоятельно ехать по зимнику. Во-первых, дороги не знаем, а во-вторых, боимся что не везде на наших машинах пролезем. Знаем таежные зимники нашего района. Поэтому рассчитываем примкнуть к вам, если, разумеется, вы возьмете нас в компанию, – изучающе смотрел в глаза бригадира Жилин.
– Почему же не взять, если у вас и колеса свои, и бензин свой. Тачки, гляжу, под вами – что надо. На таких, дорогой мой, водоплаватель, до Ледовитого океана можно догрести. Вот заработаю на что-то подходящее – обязательно приглашу вас на мотопробег по северам. Надеюсь не сдрейфите? – с хитрицой в карих глазах выдает бригадир, продолжая: «Сегодня мы у своих лесовозов кое-какие гайки подтянем, чтоб не скрипели шибко, железки кое-где подмажем, а завтра в пять утра двинем в дорогу, к родовому гнезду вашему. Яхши?
– Понял, – отвечал Жилин, усмехаясь тому, как Исмаилов произнес сибирское «шибко». – Спасибо друг, будем готовиться к отъезду, – Валерий пожал Рамзану на прощание поданную им руку и они с Дмитрием уехали.
Утро выдалось морозным. Перемешанный с дымом котельных и печных труб, над городом и по всех речной долине стояла непроглядная мгла. Не было видно ни многоэтажных домов, ни дорожных знаков и указателей. Один за другим лесовозы медленно двинулись по улице на выезд из города. Ехали почти на ощупь. Упираясь в плотную серость тумана, лучи фар беспомощно блуждали по заснеженному полотну дороги, высвечивая лишь то, что оказывалось совсем рядом, в шаге от бампера машины. За пределами города видимость улучшилась. То на одном, то на другом километре от основной дороги ответвлялись и уходили в сторону какие-то проезды. Узкой лентой, мало чем отличающейся от них, нырнул наконец в тайгу и селивановский зимник, зашуршавший промороженным снегом под колесами УРАЛов. Углубившись в лес, колонна остановилась. Притормозили автомобили и Валерий с Дмитрием. Шоферы взяли передышку. Машины стояли, выбрасывая в морозный воздух белые струи выхлопных газов. Из кабины головного УРАЛа на рыхлый гребень обочины спрыгнул бригадир. Вышли из своих автомобилей трое других водителей. О чем-то поговорив, они вернулись в кабины, а Исмаилов подошел к Ниве Жилина. Раскрыв дверцу и усевшись на пассажирское сиденье, Рамзан стал пояснять, как следует дальше двигаться за их машинами. Неожиданно для себя, из короткой беседы с кавказским водителем, Жилин узнал кое-что интересное и нужное шоферу о трассе, о тех каверзах, которые она таит в себе.
– Чем дальше, тем сложнее будет вам ехать, – говорил Рамзан. Он разъяснял, на каком километре кипит родник и на дороге могут быть глубокие промоины, где начнется протяженный косогор и надо будет ехать потихоньку, чтоб не съюзить на обочину. Рамзан сказал, что зимник – это даже не дорога, а зигом-загом петляющий в тайге сезонный пролаз, который топорами и пилами пробили через чащобу и буреломы геодезисты и геологи. – Шли к своим точкам не по прямой, понятное дело, а по принципу «куда кривая выведет». За Михайловкой будет развилка. Влево – поворот к нам на Селивановку. Вправо – зимник пойдет на Север, в Мирный, где алмазы роют в горах одержимые богатством люди. Туда не рули! Там – угу-гу! На тыщю вёрст ни одной деревни. Ранее, поначалу освоения сезонной дороги, северяне ездили в Усть-Кут через наше село, а после срезали угол, сократили километраж. Когда через Селивановку гоняли – тут картошку покупали, капусточку, морковочку. По заказу селивановские жители морозили для них молоко, а леспромхоз продавал им пиломатериал, пилил брус для строительства. Был какой-никакой дополнительный доход. Люди были довольны. Прослышав о хороших заработках, в Мирный уехали некоторые шоферы и леспромхозовские работяги. Не завидую им, если даже возвратятся они все в бриллиантах и с золотыми коронками на зубах. По мне так лучше здесь, в свеженькой тайге жить и чистым воздухом дышать, чем пусть в самых презолотых рудниках пыль глотать. Согласен со мной, ленский рулевой? – заговорщически заглядывает в лицо Валерия, в полный рот улыбается бригадир.
От щетинистых отрогов Северо-байкальского хребта до Тунгусского нагорья, узенькой змейкой бежит с юга на северо-запад селивановский зимник. В самом деле, трудно представить, каких трудов стоило людям его построить. С неимоверными усилиями, с боем продвигались они шаг за шагом по нехоженой местности, по горам и распадкам, по горелой тайге и завалам, по болотистым урочищам, которые почему-то получили у северян не очень романтическое название – «марь». Это слово, в какой-то степени, созвучно слову уморить. В знойные летние дни над этими болотистыми урочищами почти постоянно нависает невероятное скопище комаров и прочих кровососущих насекомых. Вкупе с едкими испарениями, тучи гнуса способны в такую пору не только человека уморить, довести до отчаяния, но и зверя вконец измучить. И такие гиблые низины простираются на километры. В пургу их напрочь заметает снегом, спрессовывает его настолько, что пробиться через этакие каменно-твердые участки удается только УРАЛам, либо тракторам. Горе тому, кто в одиночку решается проехать по этим местам в снегопад, при студеном ветре. В стужу столбик термометра опускается здесь, зачастую, ниже отметки «минус пятьдесят». Суров тунгусский регион. Поэтому дальнобойщики ходят в рейсы по этим местам только колонной или двумя машинами. Мысленно подчинившись бригадиру лесовозов, Жилин и Нечаев послушно исполняли инструктаж бывалого водилы: соблюдали дистанцию, не объезжали грузовик, если впереди идущий УРАЛ останавливался. Не лезли, одним словом, на рожон. Окаймленная с обеих сторон высокими снежными валами, навороченными бульдозерами при разработке полотна, дорога то разрежет заросли кудрявого тальника, то вклинится в густой лес, то круто упадет в распадок или потянется длинной скользкой лентой на пологий склон, отшлифованный колесами буксовавших тут грузовиков. Гудят моторы, посвистывает в стойках зеркалов заднего вида и в тросах грузовых площадок промороженный до звона воздух, поднятые колесами, вьются за кузовами машин густые клубы снежной пыли. Колонна идет почти без остановок, если не считать отведенный для обеда час. День устоялся. Под стылым небом устойчиво морозно. Над заснеженными деревьями сиротливо завершает свой дневной оборот совсем не ласковое в эту пору февральское солнце. Следуя короткому сезонному расписанию, оно низким полудужьем проскользнуло над лесом, нырнув под самый корешок таежного редколесья, покинув небеса, спряталось где-то там, в седых волнах горного далека, схоронилось на покой, подобно тому, как прячется на ночевку тетерев, ныряя с дерева в снег и окапываясь в нем до утра. С заходом солнца, будто на крыльях белой совы, бесшумно проскользнули в стылое пространство синие сумерки и на землю упала ночная тень. Шоферы включили фары и сбавили скорость. По северной тайге хуже всего ездить в сумерках, когда ночь еще не совсем одолела день и свет фар плохо высвечивает ухабы на белом дорожном полотне. Так ехали долго и нудно. Постепенно темень сгустилась, явственней проступил небосвод, мороз покрепчал, набрасывая на стекла кабин пелену изморози. Не выключая свет, Исмаилов сбросил скорость и остановил машину. Ему последовали остальные. Без шапки, в легкой распахнутой куртке, Рамзан не торопясь пошел вдоль колонны, через шаг-два приседая, чтобы размять в коленях ноги. Коротко переговорив о чем-то с каждым из водителей, открывавшим дверцы кабин при его приближении, Рамзан подошел в свою очередь и к «Ниве» Жилина. Валерий опустил боковое стекло.
