Записки трудника. О современной жизни Соловецкого монастыря
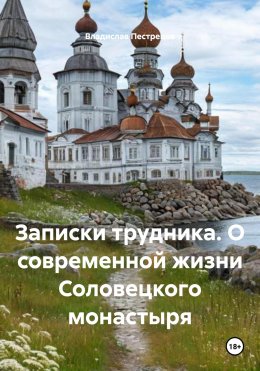
Вступление к книге
Написан этот труд на основе моего сотрудничества в Соловецком монастыре в 2014–2016 годах. Автор совершил преступление, пострадали люди, и чтобы от горя не перейти последнюю черту – самоубийство, уехал в эту обитель на краю света. И дату 3 июня 2014 года считаю своим вторым рождением. Последующие 2 года, проведенные на этой святой земле остались в моей памяти как лучшие в моей жизни. Священно начальство, братия, друзья-трудники буквально воскресили меня. Все изложенное в этом скромном труде – истинная правда, основано на личном дневнике и записях о впечатлениях.
Необъяснимые, сверхъестественные случаи, описанные в этой книге – они были, Господь свидетель.
Главное мое побуждение написать эту книгу – это открыть для благословенных читателей новый, удивительный мир монастырской жизни. Сломить психологический барьер о ней, так навязываемой темной силой.
Ведь не секрет, что враг человечества внушает обыкновенным людям ложное представления: мол, монастыри – это что-то отсталое, мрачное, строгое и жизнь в них наполнена лишениями и скорбями. Что населяют обители или фанатики, или неудачники, люди потерпевшие крах в мирской жизни. И это ему, лживому, зачастую удается.
Если и едут в наше время в обители, то очень многие здесь ищут только экзотики, поглазеть на «вымирающих динозавров», заодно посетить как бы действующие музеи, познакомиться с историей. Конечно, есть и настоящие паломники, которые приезжают с благими намерениями духовного роста, и таких все-таки большинство среди приезжающих. Но повторюсь, многие люди в нашей православной стране имеют навязанный врагом психологический барьер неприятия к монастырям и их насельникам.
Нет, ребята! Монастырская жизнь – это не что-то мрачное, а это радость и любовь! Господь здесь настолько близок, что Его здесь физически ощущаешь. Только здесь и остается настоящий православный, не исковерканный, христианский дух. Человека, приехавшего сюда, окружают действительно лучшие люди нашего общества, которые не развратились и вопреки всему ведут подвижническую жизнь.
Уверен, что поработать в монастыре бескорыстно, во Славу Бога желательно каждому православному человеку. Ваша душа наполнится радостью и благодатью. А Боженька, увидев ваш благородный порыв и труд – возблагодарит вас сторицей.
Хочется закончить это вступление словами преподобного Серафима Саровского: «Стяжай Дух Святый».
Автор
Часть I
Приезд
Впервые молюсь, искренне взываю к Богу. Такой молитвы у меня не было давно, примерно с год. Стыдно вспоминать его, проведенный в нескончаемой череде отчаяния, пьянства и опустошенности.
Стою я на паперти деревянного храма, снятого в известном фильме «Остров», где главную роль отца Анатолия воплотил Петр Мамонов. В затуманенной еще после вчерашнего «возлияния» голове как мозаика вспыхивают в памяти различные воспоминания и мысли: Родной город. Отъезд. Долгая дорога. Вокзал Архангельска. Стыдно вспоминать, но чтобы заглушить стресс – я пил и на вокзале, для маскировки налив водку в пустую полуторалитровую пластиковую бутылку из-под газированной воды. Такой способ употребления алкоголя не вызывал подозрения ни у граждан, ни у полиции. В калейдоскопе мыслей вспомнился Мамонов… – А мало, наверное, кто видел его выступления в своей группе «Звуки Му», незабываемые его телодвижения на сцене уникальны. А сейчас вот – отец Анатолий…, гениально воплотился. Он сам говорил в интервью, что играть ему и ненужно было, просто был самим собою. Сейчас живет где-то в деревне…, мыслит, пишет, философствует. Как же жизнь меняет человека. О чем это я? Да все о том же, человек все-таки может меняться., но кто в лучшую сторону, а кто-то, как я в худшую…
О себе рассказывать подробно не буду, скажу только, что приехал я сюда издалека, из одного южного города. И скажу честно, ехал я как на автомате. Увы, ехал не из любви к Богу, не чтобы получить «Царствие божие», и даже не из-за тяжести своих грехов, а ехал, потому что Господь оставил в моей жизни «единственную открытую дверь». Это потом, позже, я осознал свои ужасные грехи, совершенные в жизни.
Слава Пресвятой Троице, что помимо плохих привычек и страстей, наполнявших мою душу, все-таки умудрился по милости Господа воцерквиться уже лет как двадцать. Ходил в храм, исповедовался, причащался. Только благодаря этому – я не переступил последнюю грань…
Себя мне не жалко. Так мне и надо! Слишком уж я «прожигал» свою жизнь. Материально я был успешен, деньгами пользоваться не умел и не хотел. Поэтому и «швырял я хруст направо и налево», был расточителен, вел наполненную страстями невоздержанную жизнь.
Со временем я становился все тщеславней и циничней. Появились туфли по 40 тысяч рублей, кожаные куртки за 80 тысяч, поездки на выходные в Прагу и Париж. На Рождественский пост я посещал кабаре «Мулен Руж» в столице Франции…
Господь терпел, терпел мои беззакония, ну и смирил – разорился, обанкротился. Все рассыпалось как карточный домик.
Любил я в компаниях рассказывать следующую историю: Один человек, будучи в несчастье и отчаянии решил покончить с собой. Для этого он соорудил петлю, влез на табуретку, и последний раз оглядывая свою комнату, заметил в углу на столике початую бутылку водки – и это навело его на размышление: «Все равно мне умирать, дай я спущусь, да и допью ее». Слез, допил и думает: «А что это я вешаться собрался? Жизнь то налаживается!» Обычно, дружный грохот смеха оканчивал этот анекдот. Но я, убогий, не знал в то время изречения Преподобного Иоанна Лествичника:
«Опытом доказано, что за какие грехи осудим ближнего телесные или душевные в те впадем сами» В истинности этого духовного закона я уверился теперь на собственном опыте. Чтобы не покончить с собою, сбить стресс – я начал пить. И это привело меня к еще худшему душевному состоянию. Думал: «Да ладно 150–200 грамм от стресса – вполне позволительны. Но эти 200 грамм очень скоро, через 4–5 месяцев превратились в 500–700 грамм в суки. А при такой дозе – человек быстро превращается в животное.
И вот мой шанс выжить. Поменять давящий, зловонный, тесный панцирь отчаяния на иное, и вдохнуть полной грудью свежий, чистый, радостный воздух спасения в монастыре. В этот день я успел прогуляться в окрестностях Кемского подворья обители, с удивлением увидел прилив, а позже – отлив моря. Гомон чаек, запах водорослей с моря, чистый, свежий воздух настраивали на душевный покой. Белые ночи не располагали ко сну, и мы еще долго, далеко за полночь беседовали о духовной жизни на Соловках с соседом по келии, паломником из Новгорода.
Завтра, Бог даст, рано утром уходим на архипелаг.
Завтра начнется новая жизнь!!!
Святая обитель, первые дни
Утро, День обещал быть солнечным. Попрощавшись с гостеприимным монахом – начальником подворья. Мы отправились с одним паломником на расположенную рядом пристань, для отплытия на Соловки. Начало июня в этих краях – это не лето, а ранняя весна, снег растаял пару недель назад, и на деревьях и кустарниках только, только появились почки, из которых выходят первые робкие листки.
Погрузились в маленький катер принадлежащий монастырю, и в путь! Эх, хорошо, что я «напялил» на себя все, что было у меня из теплых вещей – это точно мне не помешало. Было ветрено и довольно холодно. Темно-синее море, яркое васильковое небо, белые чайки с гомоном сопровождали нас до самого архипелага. Непривычные для меня экзотические нерпы ныряли вокруг нашего катерка, и в радужных брызгах их можно было принять за привычных мне дельфинов. Проплываем острова под странным названием «Кузова», находящиеся на середине почти семидесяти километрового пути, и вот на горизонте узнаваемые контуры Соловецкого монастыря.
Господь создал здесь удивительно красивую природу. Эта красота какая-то патриархально русская, суровая и вечная. Когда видишь кремль в первый раз, создается впечатление будто встречаешься с былинной, сказочной явью. Как будто Александр Сергеевич Пушкин остров свой «Буян» в сказке «Руслан и Людмила», описывал именно здесь.
Пристань. Идем к главному входу обители. Захожу в Святые врата, они моим сознанием воспринимаются как вход в иной, освященный благодатию Божией, лучший, неизведанный мир. Мы падаем на колени не сговариваясь, и я ощущаю всю свою скверность и недостоинство, перемешанную со страхом дерзновения моего вхождения на святую землю монастыря. В памяти само собой вспоминаются строки о вхождении в Горний Иерусалим: «Не внидет всяко скверно и творяй мерзость и лжу, но токмо написанные в книгах животных».
Перед взором доминирует громада Спаса – Преображенского Собора, с четырьмя верхними угловыми пределами, напоминающими башни с узкими окнами – бойницами, Собор имеет вид крепостной твердыни. Храм господствует в окружающем пространстве, он был виден нам еще с катера при подходе к острову.
Впечатление такое, что ты находишься в машине времени, как-то мгновенно пройдя Святые врата оказываешься в веке семнадцатом. Вымощенная каменными плитами дорога ведет к этому шедевру архитектуры. Слева и справа – открытое пространство, зеленые лужайки, клумбы с цветами все это радует глаз. Вижу первых насельников монастыря, их черные мантии развивает ветер и от этого они кажутся величественными и неземными. Эти четверо направляются к какому-то храму справа от Преображенского Собора, позже я узнал, что это была храм Святителя Филипа. Но мы со своим товарищем сворачиваем налево и идем к центральной площади, к (Братскому корпусу). Спрашиваем у дежурного как нам встретиться с отцом Благочинным. В обители ничего не делается без благословения этого архимандрита. Отец Иаунарий встречает каждого новоприбывшего трудника лично, доброжелательно и в тоже время строго расспрашивает каждого о цели приезда, знакомит с внутренним распорядком и если кандидат подходит – благословляет поработать во Славу Бога. Примечательно, что если трудник курит, то ему благословляется жить только вне стен обители.
Поселили нас в Иконописном корпусе, на третьем этаже. Практически мы были одни из первых паломников, прибывших после зимних месяцев в начинающуюся летнюю навигацию. Зданию лет двести пятьдесят, огромная комната с восемью кроватями, пятиметровые потолки, толщина стен корпуса – метра полтора. Я сразу облюбовал уголок за печкой, в виде закутка два на два метра. Очень хорошее место, уютное и теплое, в меру светлое. А так как топим мы печку весь июнь – мое расположение было мне очень кстати.
Нас было трое поселившихся, – мои спутники не чета мне – были молоды, энергичны и радостны. На мне же лежала печать запоя и возраста. Я был под пятьдесят лет, с потухшими глазами и отменным животом, весил я тогда не менее 115 кг. В тот же день мы начали работать – вешали в «Архангельской» гостинице карнизы перед летним сезоном. Даже легкий физический труд для меня был в тягость, нагибаясь, я кряхтел, сопел, живот мешал нагнувшись, что-либо поднять с пола. Чувствовал я себя разбитым. А ведь всегда я был спортивен. Всю жизнь я увлекался горным туризмом, а также утренними пробежками занимался в течение 30 лет. И вот стресс и запой превратили меня в «слабака» и в полную «развалину». Придя в келию после обеда, решил попробовать отжаться, конечно, не от пола, а от подоконника высотой около метра. Благословенные! Представляете! Я отжался всего лишь 10 раз!
Забегая вперед, я скажу, что видя свое такое плачевное физическое состояние – стал ежедневно тренироваться, и уже через год моей нормой стало отжимание 500 раз до обеда и, конечно же, от пола. Физически развитым – меня сделали, конечно же, послушания, уборка снега зимой на территории, разгрузка и погрузка грузов а также заготовка дров. Эти послушания – общие и участвуют в них все насельники.
На следующий день, меня убогого, отец Благочинный благословил на мойку посуды. Вообще среди трудников ходят слухи, что этот батюшка прозорлив, или уж во всяком случае, превосходный психолог. Он дал мне то послушание, которое мне было необходимо в тот момент. Горы грязной посуды смиряли мою гордыню, к тому же появилась возможность быть часто наедине с собою. В первые две недели без привычки мне пришлось тяжело, горы грязной посуды, ежедневная трехразовая уборка сподвигали моего ветхого человека восстать, и он во мне внутренне ворчал. Сразу вспомнились где-то прочитанные строки советских писателей об эксплуатации толстыми «попами» несчастных, бедных трудящихся, к коим естественно я причислял и себя. Наставником у меня был брат из трудников. В каком-то значении – легендарная личность монастыря. Человеком он был, мягко говоря, упитанным, но его полнота ни как не отражалась на необычайной живости в характере и быстроту его движений. Среднего роста, лет 55-ти, в очках, весельчак и балагур – именно таким он запомнился мне. Наверняка в своем генеалогическом древе он имел в родственниках, как и барона Мюнхаузена, с его «правдолюбием», так и Василия Теркина, обладающего «молчаливостью и застенчивостью». Короче вот такая «термоядерная смесь» этих двух литературных героев. Прекраснейший рассказчик, обладающий артистическим даром. Рассказывая что-то, он не только увлекательно и интересно излагал, но и присваивал своим персонажам разные голоса, более того он имитировал голоса – он даже изображал мимику, и походку каждого своего героя. И чем больше было слушателей, тем больше у него было творческого вдохновения. И в конце такого импровизированного рассказа – спектакля, слушатели чуть ли не хлопали в ладоши. Свою веселость он сочетал с искренней, живой верой во Христа, был отзывчивым и хорошим товарищем.
Так вот, он меня и научил, я стал мыть посуду и в продолжение следующих трех месяцев нес это послушание. Спасибо всем братиям и матушкам, работающим на трапезной, которые терпели меня все это время. Послушание это считалось не из легких. Надо мыть всю посуду после трапез братии, включая и весь поварской инвентарь. Обычно день проходил так:
В 500 подъем, в 530 всенощная, утреня, часы, литургия – все утренние службы проходили в Филипповском храме. Обычно я был на службе до 700, потом шел на трапезную, включал посудомоечную машину для подогрева в ней воды, предварительно налив в нее вручную несколько ведер. До 800 успевал попить чайку, и уже после начинал мыть оставшуюся с ночи посуду, завтрак заканчивался в начале десятого утра, братия расходилась по послушаниям. Я же мыл посуду до одиннадцати, после шел в келию, до половины первого отдыхал и молился. С половины первого дня начинался «обед». Самая «горячая» часть дня. Посуды – много, несут и несут. Мойщика в эту пору, как правило, не видно из-за гор грязных кастрюль, тарелок, сковородок и чашек. И послушаешься так до 15–16 часов. Далее идет полуторачасовая передышка до ужина. Посуду после ужина моешь с 1800 до 1930. После смены выносишь мусор и моешь пол в помоечном помещении. Работал я ежедневно пять дней, потом 2 дня отдыхал.
Этому послушанию быстро навыкаешь, и появляется прекрасная возможность молиться внутренне. Но некоторые мойщики, например мой напарник – молился вслух, он читал «Богородица Дева радуйся…», пел тропари. Хотя и по словам других я неплохо выполнял данное мне послушание, но на нашей мойке подвизались действительно, лучшие меня, выдающиеся трудники. Например, один брат мыл пол не как все – после смены, а три раза за день, после каждого приема пищи братиями. А посуду он складывал не просто аккуратно, но еще и по размеру, а цветные «глобусы» (это такие глубокие, полукруглые миски-тазы) складывал по цветам, при этом он еще и весь день пел тропари святым.
Все трудящиеся трудники замечают, что есть большая разница между работой за деньги и послушанием во Славу Бога. Работать здесь – радостно. И матушки и братия – стараются поддержать психологически, научить и накормить мойщика всякими вкусностями. И работая здесь – целый день только и слышишь: «Спаси Бог»; «Помоги Господь»; «Спаси Господь»; «Христос Воскресе»!
Послушания
Трудникам благословляются различные послушания. Большой монастырь требует много рабочих рук. И все работы необходимы и важны. Нет здесь престижных и непрестижных работ, потому что делается все во Славу Бога. Здесь многие молодые люди, выросшие в городах, впервые в жизни познают простой, крестьянский труд. Как интересно и увлекательно учиться тому, что только видел на экранах телевизора или читал в книгах. Впервые в жизни поколоть дрова, открыв заслонки поддувала – растопить печку, научиться доить корову, ухаживать за ней, кормить кур и собирать их яйца в плетеную корзинку устланную сеном.
Есть и общие послушания – можно выделить такое, как заготовка сена для наших буренок. Работаем плечом к плечу с монахами и иноками, священноначалие монастыря не составляет исключение. Непривычно видеть, как игумен вместе с послушником на вилах несут стог сена.
Вместо городских платных фитнес-центров – у нас здесь свои тренажеры. Я сначала сокрушался: «Вот думаю дурень, платил у себя в городе за фитнес полсотни тысяч рублей в год за возможность покачаться. А здесь – раздолье – хошь снег убирай, хошь дрова коли, можно и дровишки заготовить для печи, таская их на третий этаж. Работа здесь идет скоро и радостно – Господь помогает! Офисные служащие осваивают много полезных в быту навыков.
Мой сосед по келии, добрый, молодой, способный человек, закончивший МГУ и работающий теперь в крупном холдинге говорил мне: «Работая в офисе и выполняя какую-то свою конкретную функцию, чувствуешь себя малозначительным винтиком в огромном процессе, и не видишь своего труда и конечного результата. А здесь все просто – вот корова, вот ее вымя, а вот ведро молока, которое ты лично надоил – результат виден налицо… А вот лопата, которой ты убираешь «издержки производства», образовавшиеся сзади коровы. Все ясно, четко и понятно!»
Что касается меня, отвыкшего от физического труда, то я был похож на того еврея с известного анекдота:
Попадает еврей в армию. Молодых бойцов выводят на хозяйственные работы. Задание прапорщика – вырыть траншеи. Раздаются лопаты для выполнения приказа. И еврей спрашивает – скажите, пожалуйста, а эта лопата с моторчиком? Прапорщик с изумлением смотрит на бойца и говорит:
– Ну где ты видел лопату с моторчиком?
– А где вы видели еврея с лопатой?
Вот так и я, после 20 лет офиса, с удивлением рассматривал выданную мне лопату, ища моторчик – не нашел…
Как я уже говорил – любое послушание – это радость, удивительно, но вроде довольно грубые и тяжелые работы – выполняются с удовольствием и внутренним удовлетворением и не замечаешь, как летит время. Радость в труде появляется от благословения Господня, ведь трудишься во Славу Его. Еще влияет и то, что все работают дружно, не выделяя того кто здесь живет больше или меньше, кто монах, а кто трудник. Как я уже упоминал – принимают участие на общих послушаниях и все иеромонахи, включая нашего Наместника, Благочинного и духовника монастыря. Непривычно и отрадно смотреть после мирского снобизма, социального различия между людьми, – как отец Наместник с отцом Благочинным сидят за общим послушанием вместе с братией, трудниками и перебирают лук. Все священноначалие выполняет со всеми посильную работу и по заносу дров в братский корпус, и при разгрузке грузов с катеров, доставляющих все необходимое с материка. Начинаешь понимать слова Спасителя о том, что «вы есть Тело Христово». Братия, выполняя каждый свое послушание – вносят свою лепту и составляют «тело» монастыря, дело общего послушания Господу. Кто трудится в трапезной, кто алтарником в храме, кто на общих послушаниях, кто на хозяйственном дворе – ухаживает за птицей, коровами, кто-то дежурит, кто-то делает мебель в столярном цеху – есть очень много различных и нужных послушаний. При этом есть четкая вертикаль подчинения священноначалию. Благословения – это святое дело, ничего не делается здесь без него. Пример для всех нас – наше священноначалие. Такой пример – чтобы иеромонаху отлучиться на природу или выехать даже на полдня в скит – батюшки берут благословение у отца Наместника или отца Благочинного. И вы знаете, мне такая жизнь нравится! Это правильная жизнь, и после мирской бездуховности, суеты и распущенности, а значит настоящей «духовной пустыни», здесь в монастыре вдруг оказываешься в оазисе и начинаешь пить чистейшую родниковую воду духовности – понимая что здесь ее исток. Ловишь себя на мысли, что ты находишься в веке восемнадцатом, а то и в семнадцатом. Телевизоров нет, как и не видно реклам, автомобилей, асфальта, архитектурных «шедевров» двадцатого века. Компьютеры установлены только в офисах. Мужчины практически все носят бороды и редко у кого они стриженые, бороды настоящие – патриархальные. Господь некоторых братьев щедро одарил этой мужской принадлежностью – встречаются бороды так сказать «лопатой» и до пояса. Женщины тоже соответствуют тому времени, они благочестиво ходят в длинных темных или черных юбках, в платках на голове и без косметики. Живешь в величественном, древнем кремле, и тебя окружает архитектура 16–18 веков. Одежда у монашествующих не изменяется столетиями. Зимой вообще забываешь, что живешь ты в третьем тысячелетии. Дополняет ощущение древности и то, что находится вне стен монастыря. За крепостными стенами не суета мегаполиса, а заповедник, захватывающая дух красотою природа. На прогулке часто встречаешь зайцев, лисиц и лосей. В море живут нерпы, белухи, а разновидность птиц измеряется десятками. Красоту и девственность природы описать не хватит слов, восхищаешься видами лесов, лугов, озер и безбрежного белого моря.
Здесь очень бережно сохраняется забытая в миру простота и доверчивость в людских отношениях. Взять, к примеру, такой факт, в братских корпусах нет замков, и я не слышал о случаях воровства. Конечно, складские, хозяйственные и служебные помещения – закрыты. Но сама братия в корпусе живет без замков, а в скитах, разбросанных по всему архипелагу, как в благословенную старину – если монаха нет в келии, выставляется на улице палка. О вышесказанном расскажу следующую характерную историю из своей практики:
Как-то по послушанию иду со своим священноначальником, отцом Нестером по территории нашего кремля, вокруг много людей – братия, трудники и паломники. Мой батюшка вдруг вспомнил, что мы забыли в кабинете ключи от склада. Я нес в руках довольно тяжелый и, кстати, новый и дорогой перфоратор «Макита». Развернувшись для возвращения, я неожиданно услышал от него: «Да оставь ты его, куда он денется!» Послушание надо выполнять и оставив инструмент прямо посреди площади в центре кремля, не скрою – я мысленно с ним попрощался. Мы с моим наставником вернулись назад. Взяв ключи, батюшка благословил меня еще отпечатать на компьютере текст объявления. Короче, минут через сорок, вернувшись, мы забрали свой инструмент, который благополучно дождался нас на своем месте, и продолжили путь к складу. Думаю про себя: «Сколько бы простоял бы перфоратор где-нибудь на городской площади перед кражей, время измерялось бы в минутах или секундах?»
Но вернемся к теме, благословения и послушания в обители. И то и другое вырабатывают главное для человека – смирение и кротость, без которых нельзя спастись. Боженька наш Иисус Христос ведь нигде не сказал, что любит инициативных и самовольных людей: а кого же любит? Кротких.
«На кого воззрю, токмо на смиренного и кроткого, и трепещущего словес моих».
Насколько послушание ценится в монашестве, можно увидеть из такого примера (книга о житии старицы наших дней Схимонахини Нилы (Колесникова) (1902–1999) составленную Александром Трофимовым и Зинаидой Свириденковой). Привожу выдержки из книги, рассказывающую о вступлении ее девочкой в монастырь:
«Евдокию поселили вместе с другими девицами, желавшими поступить в монастырь. Очень скоро пришло время первого экзамена. Старшая сестра велела им сажать капустную рассаду, но… вверх корешками. Девочки, еще не знавшие монашеской науки, конечно, удивились такому странному заданию, и стали сажать рассаду как полагается, то есть корешками в землю. Евдокия же и еще две девочки посадили рассаду так, как им велели. Когда пришла монахиня принимать работу, то спросила:
– Кто это так неправильно посадил капусту?
– Мы, – ответили Евдокия и две ее новые подружки.
– Вот вы и останетесь в монастыре, – сказала монахиня, а остальные могут возвращаться домой».
Жизнь трудников в монастыре
«Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками великого царства, и так же осторожно как с огнем…»
Схиигумен Савва
Простите меня грешного, но для ясного представления благословенных читателей о быте и взаимоотношениях трудников монастыря начну, пожалуй, с искушений, которые, увы, нас иногда и здесь сопровождают. Искушения между людьми здесь гораздо более тонкие, чем в миру. Если ты живешь в одной келии с шестью, восемью братиями, то каждый из них это твой член семьи. У каждого есть свои характер, опыт жизни, способности и привычки. И надо смиряться, быть максимально вежливыми и предупредительными со всеми. Стараться всегда приветствовать друг друга, не быть любопытным, то есть не лезть в чужие дела, и если сам человек о чем-то не рассказывает, то и не выспрашивать, и не намекать. Беречь необходимо чужой сон, если кто-то спит – не включать электрочайник, вести себя тихо, стараться идти по келии не шумя. Свое дежурство, надо нести без напоминания, выполняя обязанности. Если твоя неделя по уборке келии, коридора и туалета – постараться провести ее тщательно, не вызывая нареканий у братии. Не быть многословным, нарушая покой ребят, но и не быть слишком молчаливым, не здороваясь и не отвечая на приветствие – это многих искушает.
«Если не можете быть святыми, будьте хотя бы вежливыми»
Емилиан Симонопетритский
Конечно же, не жадничать, делиться посылками, и тем съестным, чем благословляют трапезарии. Здесь в обители конфеты, шоколад, сладости ценятся также как валюта в миру. Почему-то в монастыре их ешь с особым удовольствием и больше чем дома. Золотое правило: сначала надо подумать и только потом что-либо сказать, предложить, спросить или сделать. Монастырь – это место святое, и поэтому, если что-то сделаешь не так, не отнесешься к ближнему с любовью – бесы тут как тут. Они раздуют мнимую обиду как воздушный шар, столкнут братию между собой. Обиды здесь тонкие, на духовном уровне, из-за таких вот мелочей, потом думаешь: «А из-за чего, собственно, возникла обида на брата?» Что он спросонья не ответил на твое приветствие? Или он включил по своей забывчивости электрический чайник, когда ты отдыхал? Или сделал тебе легкое замечание по растопке печки? Не дал почитать свою книгу? Или у него, относительно тебя скользнуло по неосторожности слово? Отстаивает свое мнение? И вот такие мелочи раздувает враг в обиду. Если поддаться такой обиде, то братия перестают приветствовать, замечать друг друга. В первую очередь это тяжело для себя самого, уходит молитвенный настрой и внутренний мир.
Батюшки наши говорят, что если ты на кого-то держишь зло, то Богом не принимаются твои молитвы, посты и бдения. Даже исповедь и причастие твое пред лицом Творца – не чисты. Пока искренне не примиришься с братом, тебя оставляет мир в душе, и обмануть самого себя не получается, потому что совесть тебя обличает. Расскажу о себе, а не о других: – ох как тяжело потом смиряться и просить прощение! Потом молишься о спасении этого брата – не день, и не два, а бывало, по 2–3 месяца ежедневно в утренних и вечерних своих молитвах, исповедуешься в осуждении – тоже многажды. И только потом эта темная туча уходит из сердца. Я говорю о действительно искреннем примирении, а не о внешнем, когда «прощаешь» только на словах. Зная свою обидчивость и вспыльчивость, зная как тяжело вырывать это жало осуждения и обиды. Как-то раз я сознательно пошел на другой менее болезненный грех вместо возможного конфликта с братом по келии. Дело было так: Когда мой сокелейник с какой-то женщиной с мира обсуждал цвет мебели по телефону – не 15 минут, не 30 минут, не даже 50 минут, а целых час сорок – я понял что «закипаю». Волна гнева прихлынула к моему лицу, и сердце застучало учащенно. Я убогий понял, что сделать замечание брату с любовью – не смогу. Тогда чтобы избежать большего греха, я выбрал меньший грех – спустился на первый этаж, к себе на склад и «заел» свой стресс, выпил 2 кружки чаю со сладостями и конфетами. Также открыл баночку минтаевой икры. Потом вернулся и лег спать, не сделав замечание товарищу. Да, чревоугодие и тайноедение – это плохо, но этим я избежал конфликта с ближним. Поэтому лучше смиряться и уступать, так как обиды оставляют шрамы на сердце.
Психологические проблемы в миру решаются проще, там действует враг человеческий топорно и грубо, без «хирургического пинцета и скальпеля». По послушанию, я как-то поехал на одну стройку снимать размеры оконных проемов. Работали мастера с города. Вдруг слышу отборный, трехэтажный мат в адрес коллеги, коллега – тоже не лыком шит – отвечает в том же духе. Крича друг на друга минут пять, я смог разобрать среди сквернословия только одно, поддающееся цензуре слово. И это слово было «ж…». А через полчаса эти двое мирно беседовали в курилке и смеялись. Ну, уж если очень тяжелый конфликт – выпьют они после работы пузырь «водовки», и останутся друзьями. А в монастыре конфликты деликатны, это не ругань. Тем более не драки, а раздражительность и искание дополнительных несуществующих недостатков в брате.
В монастырь приезжают в основном искренние, любящие Бога не на словах, а на деле, смиренные и кроткие люди. Или приезжают такие как я – «сбитые летчики», у которых обитель это последний шанс, но таких меньшинство. Вот представьте – у вас семья, работа, дети, родственники – много неотложных дел и забот. Вам дают отпуск 15–20 дней. Что делает нормальный человек? Он отдыхает, едет к родственникам, занимается домашним хозяйством, дачей, или сидит дома – «зависает» в сети, смотрит телевизор, пьет с друзьями пиво, ходит на рыбалку. А сюда приезжают «ненормальные» – в лучшем смысле этого слова. Люди встают утром в 5 часов, ложатся вечером в 10–11 часов, и все это время келейные молитвы, храм, послушания с перерывом на трапезы. Работают самоотверженно, на совесть, во Славу Бога, не курят и, тем более, не пьют спиртное. Соблюдают распорядок дня, постятся. Если захочешь узнать человека, надо понаблюдать как он ест. За все время пребывания в монастыре, я не видел, чтобы кто-то на трапезе взял себе сразу два лакомых куска: рыбы, масла, бутербродов с икрой, которые благословляются по двунадесятым праздникам, или набрал себе салата не подумав о ближнем. Кушают все молча, со смирением, слушая чтение жития святых. С молитвою садятся за обеденный стол, с молитвою и встают после приема пищи, или как здесь называют, после трапезы. Некоторые трудники не говорят дома никому, что едут в монастырь, не говорят из-за своего смирения, а всем сообщают, что мол едут к родственникам или в пансионат отдыха. Знаю лично супругов, которые приезжают постоянно потрудиться уже в течение 12 лет, и приезжают на 2–3 летних месяца. Вот так эти люди скромно и незаметно для других несут свой подвиг. Не секрет, что миряне, особенно молодежь «подвизаются», теряя свое здоровье, на несколько иных городских ночных бдениях. И, к сожалению, все эти увеселительные «службы» на дискотеках, в клубах представляет им исконный враг человечества – дьявол. Один батюшка на проповеди рассказал следующий анекдот. Читатель, наверное, сразу напрягся, думает: «Хм, где батюшка, а где анекдоты, как такое может быть?» И, тем не менее, автор «записок» эту историю расскажет:
Некий человек умер. Предстал он перед Господом. Бог посмотрел на его жизнь – человек как человек. Плохого много не сделал, да и хорошего тоже, жил рассеяно, в Храм не ходил, редко, невнимательно молился… Господь и спрашивает его по своему милосердию:
– Ну что, человече, куда тебя направить – в ад или рай?
А тот отвечает:
– А можно мне посмотреть и то и другое?
– Ладно, смотри.
Ангелы берут душу усопшего и показывают Рай: – красота, покой, мир, все Славят Бога, благоухание и благолепие. Потом душу спускают в Ад. И он видит: длинный стол, уставленный всевозможными яствами, коньяк, водка, музыка, много девчонок, все курят и хохочут, идет «дым коромыслом». Опять душа человека предстоит перед Творцом. Создатель спрашивает:
– Что, видел?
– Видел.
– Что выбираешь?
Мужик отвечает:
– Мне и Рай понравился, но в Аду как-то веселее…
Господь говорит:
– Ну что же дело твое, твой выбор.
Душа оказывается в аду. И там начинаются мучения. Бесы хватают его, сажают в котел. Начинают издеваться. А человек завопил:
– Стойте, стойте, а где стол, где выпивка, где девочки, где «дым коромыслом»!!??
И старший бес отвечает:
– А это у нас реклама такая.
Избави Бог нас немощных от таких «ночных бдений» и такой рекламы.
У наших монастырских трудников считается плохим тоном часто пропускать службы и не молиться. И дело даже не в отце настоятеле и не в отце благочинном, который всемерно поддерживают дисциплину и молитвенный дух. Дело в совести каждого. На себе испытывал: Когда я выполнял «всенощное Афонское бдение с поклоном на всю кровать» и ленился встать на утреннюю службу, становилось необыкновенно стыдно. Совесть жгла меня пока я, кряхтя, все-таки не вставал и не шел одеваться.
А вообще на Соловках очень хорошо:
Зима у нас отличная, начинаются первые снегопады в октябре, заканчиваются в мае. С середины ноября и до середины января стоят прекрасные зимние дни. «Дни» – это сказано несколько преувеличено: – до 10 утра и после 15 часов ходишь с фонариком. Солнышко иногда показывается на горизонте с 12 до 13 часов – как же мы ему радуемся. Зато ночью бывают красивейшие северные сияния. Лето иногда тоже бывает – месяц – полтора, но правда, не каждый год. Лично я видел падающий снег 18 июня. В июне само-собой всегда топим печки. На море можно купаться, взяв благословение у отца благочинного – сколько угодно, сколько хошь, правда вода в нем не прогревается выше четырех градусов. Зато летний день у нас вместительный – вмещает в себя около пяти месяцев. Бывает, созерцаешь купола кремля, освещенные солнцем в два часа ночи.
Встаем мы в 5 часов утра, ложимся спать в 22–23 часа, службы каждый день утром и вечером, в остальное время – различные послушания и келейная молитва. На все надо брать благословение, в том числе и на прогулки по природе. В субботу работаем до обеда, а в воскресенье – выходной день с утренней литургией с 9 часов до, примерно, 12 дня. После обеда, в выходной можно прогуляться, порыбачить или поспать до вечерней службы. В общем, ребята – жизнь здесь – сплошная благодать и радость!!! Да, забыл! На некоторых скитах – еще благодатней! Там вообще как таковых выходных дней нет – только послушания и молитва. Бывает, стоишь зимой в Храме и согреваешься… земными поклонами. Помещение трудно протопить и на ночных службах с 23 до 330 утра столбик ртутного термометра не поднимается выше 5–7 градусов.
Кто-то может подумать: «Да что-то зело сурово у вас как-то. От себя могу только сказать – здесь вечная Пасха, в душе твоей – «Христос Воскресе!», и трудности превращаются в радость. В Соловецком монастыре встречаются Небо и Земля! Уж простите меня убогого за высокие слова. Здесь человек оказывается среди единомышленников, среди искренне верующей братии. Встречаются такие уникальные, чистые души, что ими любуешься и славишь Бога, что он еще не оставил такую «закваску», таких молитвенников и подвижников. Здесь нет мирской суеты, здесь человек лечит свою душу!
Пушлахта
Это легендарное послушание. Счастливчики могут на него попасть, только один раз в год, когда монастырь летом заготавливает дрова на зиму. Отбирают туда наиболее крепких и спортивных людей до 40 лет, и только добровольцев. Меня благословили случайно, потому что не хватало людей.
К этому времени я за месяц несколько окреп, но все равно имел еще красноватого оттенка нос и выпирающее пузо, хотя несколько и сдувшееся – результат физических послушаний и отжимания на руках.
Позвольте благословенные, чуть поподробней рассказать о моей физкультуре. Наверняка в монастырь поедут и «сбитые летчики» с пошатнувшимся от стрессов здоровьем. И укрепить им мышцы будет необходимо.
Отжимание – это универсальное силовое упражнение, и им легко заниматься в любых бытовых условиях и в удобное время. Нет необходимости в тренажерах и спортзалах. Отжимание много времени не занимает – в совокупности в день минут 15, не больше, легко регулировать постепенное увеличение нагрузок изо дня в день. Так что я рекомендую. За 30 дней после приезда, я уже отжимался по 50 раз за подход и общее количество отжиманий довел до 400 (С подоконника 70 см от пола). Лучше всего конечно делать земные поклоны с молитвой, но это для истинно смиренных подвижников, так как земные поклоны не должны совершаться без должного состояния духа, к этим поклонам надо дорасти духовно, и выполнять с любовью и кротостью, и главное, по благословению духовника. Еще раз простите за отступление от рассказа.
И так меня еще раз предупредили. Что будет нелегко и в суровых условиях, но я все же рискнул поехать, и не пожалел. Уже потом, на следующий год, я говорил здравицы этому послушанию, всемерно делал рекламу этому послушанию для новых трудников.
– Вот только там – настоящее мужское послушание во Славу Бога!
– Вы еще такого не испытывали!
– Машина времени! Возвращаешься на 500 лет назад!
– Поезжайте, и даже когда будете умирать, пушлахта будет стоять у вас перед глазами!
…И все в том же духе. Благодаря, наверное, моим восторженным воспоминаниям, на следующий год недостатка в желающих поехать туда не было, да еще выбирали, кому ехать. И я не кривил душой, помимо работы на грани своих тогдашних физических сил, я ощутил в этом путешествии необыкновенную радость. Старшим у нас был благодатный иеромонах отец Зосима, он со своим родным братом, теперешним духовником братии, отцом Германом, стояли у истоков возрождения монастыря в конце 80-х годов прошлого века. На это послушание он ездит по благословению Наместника обители, каждый год.
Погрузились мы на монастырский кораблик. Погода стояла теплая, небо ясное, ко мне еще раз подошел наш разводящий по работам, инок N, человек высокой духовной жизни, сын известного человека в стране и спросил:
– Точно ли я смогу поехать, смогу ли я выполнить тяжелое послушание?
И я ответил:
– Да, отче!
Пушлахта находится примерно в 120 километрах к востоку от нашего архипелага, в очень глухом месте, где сохранились еще традиции и предания беломорских поморов. Шли мы к этой деревеньке по морю часов десять. Сначала вся братия находилась на палубе, пообедав, мы все наблюдали резвящихся на водной глади нерп и белух. Блик солнца искрился на темно-синей, ультрамариновой акватории моря. Некоторые кормили чаек оставшимся после обеда хлебом, и их гвалт еще долго нас сопровождал.
Маленький кораблик слегка покачивало, и он шел ровно и уверенно. Белые ночи были в самом зените. Часов в 9 вечера, я от мерного покачивания катерка часто заморгал глазами, начал зевать и захотелось отдохнуть в горизонтальном положении – попросту поспать. Выделили мне… – ну даже и не знаю, как эту щель назвать… Под палубой отсек 70 см × 1,5 метра, высотой 60 см, где нельзя было даже присесть. Можно добавить, что надо мной на полу палубы расположились ночевать другие трудники, так что мой входной люк был застлан матрасами, и я даже при желании не смог бы подняться наверх. Короче, людям, страдающим клаустрофобией, здесь не понравилось бы.
Я подремал и попросился на воздух, разбудив спящего брата наверху. Выбрался на палубу – была полночь, и я замер в восхищении от увиденного пейзажа! Благословенные! Я исколесил всю Россию, и был в 24 странах мира – от необитаемых островов в Индийском океане до Парижа, от Африки до Скандинавских стран, – меня трудно удивить. Но такое я увидел первый раз в своей жизни. Это было как продолжение сна… Представьте – вокруг лилово-сиреневая бездна, из-за туманности не видно горизонта. Мы как бы невесомо зависли в мареве красивейшего заката. Ты стоишь на борту волшебного корабля и будто летишь и растворяешься в лиловом океане фантастического мира. Время остановилось, и ты не знаешь где мы – на земле или в раю, или на какой-то волшебной, далекой планете. Оторваться от зрелища невозможно. Сам собой открывается рот и, не помня ничего на свете, забываешься в этом сиреневом блаженстве.
Прибыли на место в 2 часа ночи, нас отвезли ночевать. От усталости, и от пережитого мной сиреневого видения, я быстро уснул. Ночлег нам с братиями отвели в большой светлой комнате, помещение находилось в «тутошнем» одноэтажном деревянном здании – в центре поселка. Сия избушка была построена в 60–70 годах прошлого столетия. Помимо гостевой нашей комнаты здесь находились еще и кабинет главы деревеньки, продуктовая лавка, закуток под почту. «Удобства» на улице. А так как было начало июля – комариное время, то рекомендовалось ходить в эти «удобства» с «насекомоотпугивающим» средством. Возле этого центра, в 20 метрах бил фонтаном источник с природной, минеральной водой. Вода была с некоторым специфическим вкусом. Братия этой водой умывалась, чистила зубы, мы ее пили и набирали ее для чая. Утром по пробуждению совместно помолились. Каждый по очереди вычитывал одну из молитв в утреннем правиле. Потом нас отвезли к деревянной пристани, к нашему кораблику, как впоследствии оказалось – к нашему неизменному месту трапезы.
Деревня расположена на берегу Беломорской губы, в первозданном девственном месте, вокруг леса где на 150 километров нет других поселений. Надо сказать, что люди здесь уникальные. Вот мы все говорим о себе – мы русские. А каждого «копни», даже не углубляясь в родословную, и окажется, что отец наполовину мордвин, а бабушка с Украины, и прадедушка – татарин. Здесь же люди – русские в настоящем смысле этого слова, в связи с обособленностью и удаленностью поселения. Деревня эта с историей, ей уже 300 лет. Поколений 10–12 местных жителей рождается без примесей других народов. Попадаются среди аборигенов блондины с голубыми – васильковыми глазами, они разговаривают на своем каком-то местном диалекте, скороговоркой, и с непривычки смысл сказанного не всегда понимаешь и переспрашиваешь. Летом число жителей примерно человек двести пятьдесят, на зиму остаются в четыре – пять раз меньше. Дом в центре с землей стоит около 700 тысяч рублей. Дикие животные особенно не заморачиваются с обходом поселка. Мы кормили с рук в самой деревне лису. Крупный лось проплыл вдоль нашей пристани. Стая диких гусей пролетела от нас в 20 метрах. Каждое утро наши трудники приносили повару по ведру рыбы. Эх, за обе щеки, как говориться мы вкушали жаренную красную рыбу, треску, камбалу. Повар баловал нас и ухой. Как выглядела сама деревня? – Откройте журнал по фито дизайну, и вы увидите Пушлахту! И это не преувеличение. Лично я засомневался, что все увиденное выросло просто так – по дикому. Но местные говорили: «Что ты, братик! Да никто ничего не сажал, само выросло». Представьте, – стелящийся по земле кустообразный можжевельник окаймляет красивые большие глыбы гранита, и все это на фоне березок и сосен, среди цветника и многотравья. Думаю, что только профессионал – специалист мог так подобрать композицию, посадочного материала и выдержать пропорции. Вдобавок ко всему этому великолепию – такие фито композиции гармонично вписываются к бревенчатым срубам и загородам, подернутых патиной седины…
Местное начальство нам выделило «Газон», который возил поленья от места распиловки стволов сосен к причалу. Какого он был года выпуска, я затрудняюсь сказать, похоже, он был ровесником сталинских репрессий. Древний антиквариат, с которого сыпалось все. И вот в течение шести благословенных дней мы возили на пристань поленья и ими загружали наш кораблик. После полной загрузки он уходил на Соловки и приходил новый катер с понтоном.
Так как я в последние годы тяжелей портфеля ничего не поднимал, у меня быстро выступила испарина. Появилось учащенное дыхание и высунутый от усталости язык. И в первый же день я оступился, и моя нога попала в щель между причалом и понтоном, от ушиба она опухла в области колена. Сразу возник помысел – мол, пора «валить» назад в монастырь – поподвижничал и хватит. Но как-то стало стыдно уезжать, остался, хотя меня и отговаривали. К тому же приехал отец Порфирий, наш Наместник Обители, и я, вдохновленный его присутствием, больше не помышлял ретироваться. Утром, по пробуждении, все оставшиеся пять дней – у меня болело все. Для того чтобы подняться с кровати на работу, я просыпался на полчаса раньше общего подъема. Сначала открывался один глаз, через 3 минуты другой, с величайшим трудом, я как-то умудрялся раскачаться и сползти с кровати на четвереньках – на этот финт у меня уходило минут десять. Минут через 15 я уже мог принять вертикальное положение и идти умываться.
Братия меня на работе оберегала, тяжелые поленья они грузили сами, а мне давали более легкую работу. Как это мне было необычно, что кто-то искренно сочувствует и заботиться обо мне. Именно в Пушлахте я и начал по-настоящему возрождаться духовно, оттаивать душой. Вечером мы ходили на местную речушку купаться, водичка была чистейшая и студёная, и после трудного рабочего дня буквально возрождала нас.
К шестому дню послушания меня силы стали оставлять, да и ребята уже не так энергичны, как в первые дни. Нам всем подавал пример отец Зосима. Несмотря на возраст и перенесенную несколько лет назад операцию, он был бодр и радостен. Братия старалась оберегать его от какой либо работы, но это нам не удавалось, батюшка всегда рвался в эпицентр работы, и помимо своего руководства и ценных советов, умудрялся еще и работать с нами физически.
Перед отплытием на архипелаг он еще отслужил литию по усопшему в начале двадцатых годов прошлого века священнику местной церкви, при социализме превращенную в клуб и сейчас закрытую. Перед отплытием все думали, какая будет погода на море. Легенды ходили, что иногда трудники отсюда добирались до монастыря не за 10 часов, а за 30. К тому же последние 25 часов были на пустой желудок, так как содержимое его из-за качки на море быстро извергалось вон из организма. И организмы были несколько вялого вида, и лица были несколько бледного оттенка… Но нам благоволил Господь, мы пришли назад даже не за 10 часов, а за 8, по прекрасной погоде.
И вот я, как Том Сойер при покраске забора, рекламировал это послушание:
– Да это «жесть»!
– Да ты не выдержишь, сбежишь!
– Если ты читал книгу «Моя жизнь со старцем» Ефрема Филофейского, и возгорелся желанием пожить в подвиге – тебе там самое место.
И люди стали сами напрашиваться на это послушание. Желающих было больше чем надо. За пять рабочих дней через руки семерых человек (с учетом, что поленья нужно было загружать на машину, а потом выгрузить на понтон – платформу, сложив аккуратно), т. е. объем увеличивается в два раза, прошло примерно около четырехсот кубических метров дров. И я это путешествие всегда вспоминаю с радостью и теплотой в сердце!
Саватьевский скит
На нашем архипелаге, отделенном морем от материка издревле строились «пустыни» – скиты – места эти были как подразделения большого монастыря. Устав в скитах более строг, чем в общежительной обители, здесь собирались подвижники очень строгой жизни, они вели, как правило, затворнический или полу затворнический образ жизни. Простите меня за сравнение – но это как спецназ в армии. Не многие выдерживают такой суровый подвиг.
Само слово «скит» произошло от названия Скитской (Нитрийской) пустыни, в которой в эпоху расцвета египетского монашества IV–VII веков подвигались самые строгие отшельники, первым из которых был Макарий Египетский.
В мое пребывание в монастыре действовало семь скитов, разбросанных по островам архипелага, плюс к ним Макарьевская пустынь, в которой расположен ботанический сад. Я вкратце их перечислю: два на острове Анзере (Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский скиты), один на острове Большая Муксалма (Сергиевский скит), четыре на острове Большой Соловецкий (Савватиева пустынь, Филиппова пустынь, Свято-Вознесенский скит на секирной горе, Исаковский скит). Я, грешный, наиболее часто благословлялся пожить на 5–7 дней в три из них – Сергиевский на Муксалме, Савватьевский и Исаковский скиты.
Зимой на Сергиевский скит я не ходил. О нем расскажу чуть позже. Мое любимое пристанище – баня в это время года трудно досягаема. Она чуть ли не до второго этажа бывает занесена снегом, и чтобы пройти эти 200 метров от главного корпуса скита, надо часа полтора времени, так как сугробы соответствующие. К тому же есть сложности с дровами для печки. Поэтому зимой там живет в подвиге только один монах – отец Моисей. Годами этот достойный монах стяжал благодетель нестяжательности и аскетичной жизни. Его быт даже монахи в монастыре называют суровым.
Когда наш архипелаг сковывался льдами Белого моря, застывали в ледяном панцире все 800 озер, я старался примерно раз в месяц благословляться в Савватьевский скит, а позже уже и в Исаковский.
Путь в Савватьево не близкий, зимой пешком – 4–5 часов ходьбы, примерно около 15 километров. Эта самая удаленная пустынь на Большом Соловецком острове. Именно на этом месте несли свой подвиг наши преподобные Савватий и Герман. Они впервые направились вглубь острова вдоль ручья, обрели здесь поляну на берегу озера, защищенную от холодных ветров. Поставив крест и устроив келию, они основали на острове первую монашескую пустынь, названную впоследствии Савватиева. Здесь преподобные прожили с1429 по 1436 год – семь годков. Автор не будет пересказывать их житие, лучше благословенному читателю прочесть о их святой жизни в многочисленных книгах и путеводителях по Соловкам.
Примечательна пустынь еще и тем, что с 1923 года в Савватиево было размещено подразделение СЛОНа для содержания около 250 политических заключенных. Поясню что СЛОН переводится как Соловецкий лагерь особого назначения. Здесь были произведены первые расстрелы. В двадцатых, тридцатых годах – конечно на их могилах никто никаких крестов не ставил. Зато им поставил кресты – Сам Господь Бог. Вы наверное уже знаете, что на острове Анзер выросла березка – именно на Голгофо-Распятском ските, и именно в шаговой доступности от церкви Распятия Господня – Чудо Божие! Она выросла в виде геометрически правильного креста, ее я описывать не берусь, лучше купите открытку с фотографией этого чуда и вы убедитесь, что форма ствола дерева и ветвей – сверхъестественны. Но некоторые не знают, что еще есть дерево – крест на Соловках. Тоже в шаговой доступности, но уже другой церкви во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии в Савватиевском скиту. Это большое хвойное дерево, выросшее на месте расстрела заключенных. Крест – не такой явный как на березе, но он тоже геометрически правильный. В застойные времена при Советской власти – скит окончательно обветшал, остались лишь развалины. Но Господь милостив – послал сюда истинного подвижника на восстановление пустыни – отца Иакова (Макеева). Конечно, отцу Иакову была оказана поддержка из монастыря и патриархии, отец Наместник, отец Благочинный, мой батюшка, отец Нестор – всегда благоволили скиту. Даже наш Святейший Патриарх Кирилл – взял на особую заметку воссоздание комплекса. Но подвиг отца Иакова – неоспорим. Второе десятилетие он живет в полузатворье и молясь, ежедневно работает, работает, и еще раз работает. Из дней образуются недели, из неделей – месяцы, потом годы и десятилетия. Трудится этот монах самоотверженно, не покладая рук. Летом он на себя берет еще и бремя спасения душ детей-подростков из неблагополучных семей. До двухсот юношей приезжают с наставниками к нему потрудиться и обрести веру.
Описывать зимнюю красоту озер, лесов и лугов – я не возьмусь, скажу только что природа – запредельно восхитительна. Опишу свои воспоминания.
И подхожу к скиту уставший, но довольный тем, что на фотоаппарат, благословлённый отцом Нестором, я запечатлел по дороге сюда кадров 50-ть60, фотографируя пейзажи. Верный пес, рыжий Шарик меня встречает звонким, радостным лаем. Раскланиваемся, обнимаемся с радушным хозяином скита, и мы с батюшкой заходим внутрь корпуса. Здесь тепло и хорошо. А вот и его послушник Володя. С Володей мы знакомы еще по его послушанию в столярном цеху. Хороший и трудолюбивый человек, к тому же очень душевный. С ним радостно обнимаемся, меня кормят, поят чаем, дают отдохнуть с дороги, ведь вечером будет всенощная служба.
Растопив печку, переодевшись, ложусь на кровать подремать. В 9 вечера – идем на вечернее правило в церковь, после ужинаем, идем отдыхать до половины одиннадцатого. По подъему идем на службу, ее начало в 23 часа.
В монастыре много храмов и церквей, и они все безусловно благодатные. Но служба в церкви Пресвятой Богородицы Одигитрии – особенная. Незримо, наверное, здесь предстоят отцы Савватий и Германе. В 16 веке в эту пустынь приходил помолиться игумен Филипп, который обрел в ветхой келии каменный крест и икону Божией Матери Одигитрии, принадлежавшие преподобному Савватию. Почитая память преподобных, в Савватиево издавна приходили помолиться монахи-отшельники. В 18 веке старую часовню перестроили, а в середине 19 века была построена каменная церковь в честь Смоленской Иконы Божией Матери «Одигитрия». Своим видом эта церковь напоминает древнерусский храм с простой четырехскатной кровлей, увенчанной шлемовидной главой.
На службах обычно мало людей: отец Иаков, из Свято-Вознесенского скита на Секирной горе приходят двое иеромонахов – отец Матфей, начальник этого скита, и его сподвижник – самый таинственный монах острова – отец Касьян. О нем мало что известно, это затворник, даже на праздники он остается на своем монашеском посту. Конечно же, был постоянный чтец Володя, и в этот раз я грешный, – вот и все люди. Конечно, иногда бывает довольно многолюдно – приходят еще 2–3 брата на выходные. Печку топили еще с утра, но она не может обогреть довольно большое помещение церкви.
Начинается служение Богу. Горят лампады, свечи. Образа от такого освещения становятся какие-то благодатные и вечные. За окном церкви видно заснеженное озеро, изгибами уходящее вдаль среди соснового бора. Тишина, только звучит молитва, она тебя захватывает всего, ты начинаешь молиться Иисусовой молитвой по своим четкам. Благодать такая, что четыре с половиной часа службы превращаются по ощущению в 40–60 минут. Ты приходишь в себя только от холода. И чтобы согреться начинаешь выполнять земные поклоны, так как поясные не могут тебя согреть.
Нельзя описать это словами – служба необыкновенная, ты растворяешься в молитве, видя монахов в тусклом свете лампад – переносишься сознанием куда-то в прошлое, к истокам. Исповедь иеромонаху, причастие святых тайн и ты видишь одновременно и с радостью и с сожалением, что окончена служба, выходишь в коридор, и мы все идем в трапезную, попить горячего чая и покушать. На часах половина четвертого утра, через полчаса расходимся по келиям для отдыха.
Батюшка всегда дает выспаться, никого не будет от сна. Люди высыпаются и постепенно сходятся вместе завтракать. Обычно это бывает в 10–11 утра. А после завтрака – молитва и труд, труд и молитва, все берут пример с отца Иакова. Глядя на его пример – и самому совестно отлынивать от работы. Поэтому в Савватиевском скиту – всегда труд. Труд во Славу Бога. Обычно я приходил помогать на 3–5 дней. И это время вспоминается мне как самое счастливое.
Исаково – безмолвие
Ну вот, проходят очередные два месяца послушания и отец Нестор, зная, что я опять попрошу меня благословить уйти на недельку в пустынь… благословляет меня сделать еще «одно маленькое дельце» в стекольном цеху. Сделав «дельце», прошу – Благословите, батюшка на недельку удалиться в лес.
Батюшка ответствует:
– А почему бы тебе на этот раз не пойти в Исаково?
– Бесов боюсь, ведь там надо жить одному, а на многие километры не будет ни одной живой души. А я слышал, что на Анзере недавно были от них нападения – монаха избили.
– Это байки. Не бойся, я помолюсь за тебя. Кстати, там надо навести порядок в избе, там где будешь жить.
– Благословите, отче…
Получив согласие у своего батюшки, я направился к отцу Иаунарию нашему благочинному, без его благословения в монастыре не делается ничего. Отпуская меня, он поинтересовался: какое правило я буду читать будучи в скиту. После, я взяв продукты у наших трапезников – отца Ионы и отца Васьяна, собрав рюкзак – двинул в путь. Зайдя по пути в поселковый магазин, взял там «контрабанду» впрочем, не запрещенную у трудников – купил курицу и 2 кг сарделек.
Прямая лесная дорога после поселка располагает к раздумьям. Что я знаю об этом ските? – Совсем немного: Он расположен в двух километрах от Секирной горы на берегу Исаковского озера. В древние времена здесь селились Соловецкие отшельники – подвижники веры. А свое название пустынь получила от стоявшей здесь деревянной часовни во имя преподобного Исаакия Далматского – святого подвижника древнехристианской церкви (IV в). В озерах разводили монахи рыбу, земли были расчищены под сенокосные луга. В настоящее время скит отстраивается заново, но рабочая бригада зимой уехала на материк, вернуться к лету, так что я там буду один. Жаль конечно, что не смогу попариться в валунной бане на берегу озера – конца 19 века постройки, – но это архитектурный объект.
Ну вот и развилка, отсюда хорошо просматривается Секирная гора с венчающим ее Свято-Вознесенским храмом. Знаю что он двух престольный. Нижний (теплый) храм освящен в шестидесятых годах девятнадцатого столетия, в память чуда архистратига Михаила в Хонех, а верхний (холодный) освящен в тоже время в честь Вознесения Господня. Этот храм уникален тем, что это единственная на русской земле церковь – маяк. Маяк и сейчас – действующий, он работает с 28 июля по 16 декабря, лампа маяка работает от аккумулятора, который подзаряжается от солнечных батарей и ветряка. К «Секирке» ведет длинная, без изгибов прямая дорога, но нам направо, по лесной дороге рассчитываю дойти до Исаково минут за тридцать. А вот и пустынь, как она красиво просматривается на берегу озера! Захожу на территорию, через деревянную стилизованную калитку – первые следы начавшейся реконструкции.
За плечами десять километров зимней дороги. Теперь самое главное расстопить печь, внутри избушки – минус пятнадцать, как впрочем и на улице. Вода в баке на кухне превратилась в огромный айсберг килограмм на 30–40. Прежние жильцы позаботились о ближнем – около печки поленница сухих дров. Все пошло хорошо, и через пару часов у меня в каливе был «Ташкент». Поужинал, помолился и лег спать. Сон был крепок и без всяких «явлений» – это по молитвам батюшки Нестера.
Утро. Молитвенное правило. Встал еще затемно, затеплил лампадки, свечи. В святом углу – иконы Спасителя и Богородицы, нашел много восковых запасенных свечей. После молитв и чтения псалтыри – растапливаю печь, осматриваю полки кухонного шкафа. Не безрезультатно.
На полках нашел сухари, что ж, ими вполне можно забивать гвозди, к тому же они черно-зеленого цвета. Так же обнаружил кусочек сыра – времен Ноя. Из продуктов были еще вполне приличные консервы. Сахар, рассыпной на столе, превратился в сладкий кристалл, как впрочем, и соль – она превратилась в соленый кристалл. Но это меня не трогало, мой рюкзак был набит «вкусностями» и «ништяками». Наши монахи, несущие свое послушание, в трапезной от Иона и Вассиана сердобольно снабдили меня всем съестным. С удовольствием вспоминаю, как они мне давали продукты:
– Консервы рыбные дать?
– Дайте штук шесть по банке в день.
– Возьми десять – пригодится, пойдем на склад, я еще тебе дам сгущенку и две банки тресковой икры. Что тебе дать к чаю?
– Дайте, отче, печенье.
– На, возьми еще и вафли, и халву. Что еще?
– Мне бы рыбку, я бы ее испек.
– Пошли, выберем…
Так что спасибо братиям, – я вполне был с запасом.
Пред генеральной уборкой надо бы переодеться. Так, во что бы? В мое поле зрения попадает подрясник. Какого он века? Да впрочем, не очень это важно, скорее всего позапрошлого. На этом предмете одежды было столько заплаток, что было затруднительно определить его первоначальный цвет.
Нашел сапоги на три размера больше. На голову «напялил» шапку-ушанку, наверняка до меня ее носил красноармеец. Дополняла мой стильный «прикид» – безрукавка из овчины, на пуговках, но, к сожалению, на два размера меньше моего. Не найдя зеркала – я расстроился, а ведь так хотелось покрасоваться. Взяв лопату, вышел на улицу. Меня оглушило безмолвие, тихо шел снег. Вид на зимний пейзаж был такой, что только за эту окружающую красоту можно было моей берлоге присвоить полноценные пять звезд отеля. Начал расчищать снег – вырыл траншею к дороге в скиту и туалету. Параметры таковы – глубина в среднем метр, и длиной траншея около сорока. На это ушло у меня полтора часа. После такого фитнеса снова любуюсь окрестностями. Передо мной заснеженная чаша озера, окаймленная хвойными и смешанными лесами. В этом царстве снега и света доминировала неподалеку Секирная гора и венчающий ее храм-маяк. Справа виднелись луга под зимним «одеялом», уходящие в перспективу. Сама Исакова пустынь стоит на пологом холме около озера, поэтому – все мною наблюдаемое было как на ладони. Передо мной было творение безначального, вездесущего, вечного и гениального Творца.
А вот, первая, неожиданная встреча – мелькнуло рыжее пятно. Скорее всего это лиса, надо бы ее покормить. Вернувшись в избушку, подкинул дровишки, ставлю разогревать вчера-приготовленную курицу и отварные макароны – будем трапезничать. Помолившись, поев – разрешаю себе отдохнуть. Можно пойти полежать на кровати, но сладкая, послеобеденная истома меня точно клонит ко сну, а я стараюсь блюсти свой режим – днем не спать. Лучше полистать на кухне свою тетрадь записей.
На столе горит свеча. Потрескивают дрова в печи. За окном открываются лесные, снежные дали. Идет снег. Очень тихо – настоящее безмолвие.
Так что там у меня. Выписал у Николая Новикова из его книги «Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий»:
«Просто веры в Бога недостаточно, ибо бесы веруют и трепещут» (Иак. 2, 19), надо знать «как веровать». – без этого знания наша вера может настолько измениться, что она будет очень далека от той, которые нам преподают Апостолы. Сама вера еще не является гарантией того, что мы будем верно поступать, что останемся верными Богу. Надо помнить, что Христа распяли не атеисты, а глубоко верующие люди».
– Да, глубокая мысль, действительно, Его распяли не атеисты… Важно нам грешным раскаиваться в грехах и исповедоваться.
Нахожу высказывание Иоанна Кронштадского:
«Многие думают, что и они в последнюю минуту покаются, скажут: «Памяни мя Господи во царствии Твоем» (см. ЛК. 23, 42) и этим спасутся. Нет, не рассчитывайте на покаяние при последнем издыхании, надо всю жизнь помнить Христа, следовать Его заповедям, и чаще прибегать к слезному покаянию! Разбойник вам не пример, ему было прощено все, за то, что он усладил своей живой верой последние минуты Страдальца – Богочеловека, в то время, когда Спаситель был окружен гонителями, когда человеческая природа Его невыразимо страдала. Не сравнивайтесь с ним, кайтесь, пока здоровы, пока живете…»
– Великие наставления святого… А вот я еще к этой теме сделал выписку из книги «Святое Евангелие с толкованием святых отцов» – именно об этом разбойнике:
«В древних преданиях есть сказание, что это был один из тех, которые напали в пустынях Аравии на Святое Семейство во время бегства в Египет, что этот разбойник не позволил товарищам обижать Матерь Божию, за что она обещала ему награду от Своего Божественного Сына.
Святитель Димитрий Ростовский говорит, что Матерь Божия стояла на Голгофе между крестом Сына Своего и крестом этого разбойника и тем исходатайствовала ему спасение».
– Как промыслительно – два разных источника взятых из разных книг – говорят одно и то же. Я часто слышал, что есть такое мнение, что мол можно спастись даже на смертном одре, призвав Спасителя. Получается – не совсем так. Какую жизнь вел умирающий? – именно это все и решает…
– Мне подумалось, что лучше всего, и удобнее всего сохранить веру и жить по христиански в монастыре. Подтверждение нахожу у старца Кирилла (Павлов род.1919), меня поразил следующий факт в его биографии:
«…в 1946 году окончил МДС и МДА (1954 г.), поступил (Авт. Внимание) – ПОСЛУШНИКОМ в Троице-Сергееву Лавру…Патриарший духовник: – у него исповедовались патриархи Алексий I; Пимен, Алексий II».
Так вот он пишет:
«В монастыре, хоть и плохом, человек повергается поношению, и трут его и мнут его там, и через это человек очищается, убеляется. Один человек, сам по себе, этого не может приобрести…»
А Кукша Одесский подтверждает эту мысль:
«В монастыре со всех четырех сторон – каменная ограда, а в миру со всех четырех сторон веет ветер искушений».
– Да, думаю, там не ветер, а ураган искушений. Я уже в монастыре больше полутора лет, и как же не хочется возвращаться в мир, но мне придется… Здесь я уже привык к другой поистине правильной среде. Взять, к примеру, церковное пение – поет братия чистыми, не прокуренными голосами на церковно-славянском языке. У них профессиональный вокал, они занимаются с регентом ежедневно. А в миру… Не буду, и не хочу даже комментировать «творчество» нашей отечественной попсы. Кстати, какое точное и емкое обозначение того чего они делают. Гениально выразился о своем цехе известный рэпер. Я приведу его строки из песни:
«У каждого свое ремесло, я делаю свое музло…»
Задумавшись, я сел у печи, подкинул поленья. Огонь явно обрадовался своей новой добыче, и весело охватил дрова ярко желтыми языками пламени, треск дров приятно нарушал безмолвие. Как же здесь хорошо. Задумавшись, я остался сидеть у печи с открытой дверцей топки и глядел на огонь. Увлекшись воспоминаниями, я и не заметил как пролетело время. Пора к ручью за водой…
Остров Анзер
Режим будильника на моем «Nokia», установленный на 5 утра, срабатывает. Но я уже минут как пятнадцать – уже на ногах, успел умыться и заправить свою постель. Так рано, как сегодня – я просыпаюсь редко, но сегодня – особенный день, мне предстоит однодневное путешествие на легендарный остров Анзер.
Наш северный архипелаг посередине Белого моря, уже сам по себе уникален – такого сочетания характеристик, пожалуй, больше и нет в России. Здесь сосредоточение духовного, исторического и географического наследия страны. Мы видим всю историю за последние 600 лет, восхищаемся архитектурно-культурным наследием, уникальными храмами и крепостью, удивляемся необычной северной природе. Острова находятся в 140 километрах от заполярного круга. Соловецкая земля освящена молитвами древних святых и новых мучеников. Своей автономностью монастырь напоминает маленькое государство с собственным управлением, хозяйством, транспортом, со своими обычаями и порядками.
Но Анзер, это самый северный и отдаленный остров, даже на таком фоне смотрится драгоценной жемчужиной. Здесь всегда подвизались самые ревностные подвижники благочестия. Этот остров и сейчас труднодоступен для посещения, и паломничество на его святую землю весьма ограничено. Там и в наше апокалиптическое время возносится особенная, пламенная молитва к Богу от немногочисленных, истинных подвижников – монахов, ведущих весьма суровую жизнь. Особый статус этого острова подтверждает такой факт: при посещении Соловков Святейший патриарх Кирилл, вместе с нашим неизменным наместником и игуменом архимандритом Порфирием летят на вертолете именно сюда, – на эту цитадель православия, и вместе с наместниками Голгофо-Распятского скита, возносят совместно свою пламенную молитву к престолу Господню. И уже после посещения Анзера Патриарх освещает своим присутсвием и обитель Спасо-Преображенского монастыря.
Об этом острове, и в частности о самом строгом ските – Голгофо-Распятском – среди нашей братии ходят многочисленные истории. Мне рассказывали, что жизнь тех местных монахов весьма сурова, они не потребляют в пищу молочного, елей (подсолнечное масло), да и рыбу едят весьма ограничено, только по выходным и в праздничные дни. Общая трапеза бывает один раз в сутки, в остальное время благословляется только чаепитие. Службы там длительные и ночные. Бдение идет с 12 ночи и до утра.
Устав скита очень строг, на службе все насельники должны присутствовать непременно. Даже если человек болен, ему благословляется молиться сидя в стасидии. Единственное извиняющее обстоятельство пропуска Богослужения, это если человек умер.
Мобильной связи на острове нет, как впрочем, и любой другой современной связи. Летом единственное сообщение с островом – это монастырский катерок, который иногда привозит паломнические, организованные группы на один день, а зимой, когда море сковывается льдами и заканчивается навигация, Анзер погружается в отшельничество и безмолвие. Тогда прекращается всякая связь с островом на долгие восемь месяцев, монахи живут обособленно, в подвиге затвора, без цивилизационных изысков и связи с внешним миром.
Рассказывают также – что нападение бесов там, в порядке вещей. Иногда это навязчивые помыслы, страхования, а иногда бесы являются в чувственном виде. В 2014 году ходила между нами трудниками история, что одного обособленно живущего монаха на спасательной станции несколько раз они избивали. Он пришел к скитоначальнику игумену Евлогию, и тот, помолившись, окропил святой водой келию этого отшельника. Но, возможно, эта история – вымысел.
Еще слышал, что если природа у нас на Большом Соловецком острове – захватывающе-красивая, то там она вообще – уникальная. Со дня сотворения мира остров не затронут цивилизацией. Растут реликтовые леса. Я лично видел принесенный к нам на трапезную белый гриб, найденный паломником на Анзере, весящий около пяти килограммов, и что примечательно – не гнилой, ножка его была толщиной с трехлитровую банку.
Вообще, мое одно из первых впечатлений связанное с этой жемчужиной архипелага, было при подъеме на вершину горы «Фавор» на острове «Большая Муксалма». Тогда мы с моим батюшкой – наставником отцом Нестором были там в начале лета и выбирали место для установки гигантского деревянного креста, изготовленного нашим столярным цехом по благословению нашего наместника отца Порфирия. Этот вояж сам по себе был запоминающийся. Мы с батюшкой, используя навигатор, определяли подходящую вершину для его установки. Иеромонах всегда для меня был образцом дисциплинированности, ответственности и настойчивости всего того, что касается послушаний. И вот мы с батюшкой на вершине, уже начало смеркаться, тяжелые, свинцовые, дождевые тучи не предвещали нам легкого возвращения в Сергиевский скит. Перед нами открылся захватывающий вид на остров Анзер, он как непотопляемый авианосец раскинулся в просторе синего моря. Вдруг предзакатный, яркий сноп солнечного света озарил из-за туч всю его центральную часть. Я четко увидел стоящую на возвышенности церковь «Распятия Господня» – белое здание с темно-серыми куполами. Как будто белый голубок, летящий к Ною с радостной вестью, решил отдохнуть на образовавшейся после потопа суше. Да, такие моменты запоминаются на всю жизнь!
Как мозаика вырисовывались эти воспоминания, когда я после утренней, келейной молитвы подходил к месту нашей встречи паломнической группы. Наш путь лежит сейчас к «Долгой» губе, к Варваринскому причалу. Это примерно около четырех километров. Дорогу эту я хорошо знаю, так как неоднократно хаживал по ней к моим грибным, сокровенным местам.
Мы идем с группой. И нас человек двадцать, идем в довольно быстром темпе, так как наш катерок уже дожидается нас. Минут через сорок мы на месте. С нескрываемом восторгом замечаю в чистейшей как слеза воде непривычных мне морских красных звезд – они довольно большие, были экземпляры до 30 сантиметров. Грузимся на кораблик – и в путь! Я не забываю заблаговременно одеть дополнительный свитер, он мне точно не помешает. Ведь я собрался находится на палубе, чтобы любоваться окружающей красотой.
Отправляемся. Довольно зябко, но я со своего «поста» не ухожу, весь захваченный созерцанием местной заповедной природы. Вокруг – сказочная явь. Окружающее захватывает, в такие минуты осознаешь гениальность Творца, создавшего эту красоту. Мы плывем мимо изрезанного берега морской губы, обрамленной соснами и хвойными лесами. Проходим несколько маленьких островков, отражение бескрайнего леса отражается в молочной глади глубокого залива.
Наш гид из монастырской паломнической службы рассказывает нам о Варваринской часовне. Ее построили в середине 19 века во имя святой великомученицы Варвары, здание было деревянным, крестообразным. В 20–30 годы XX века в часовне размещалось Управление лагерного лесничества. Среди работающих в лесничестве были архиепископ Илларион (Троицкий), писатель О. Волков, М. Розанов, князь И.Н. Чегодаев и многие другие. После лагеря часовня была заброшена, а в пятидесятых годах разобрана за ветхостью. В 2002 году архимандритом Иосифом с братией на месте фундамента часовни был воздвигнут поклонный крест.
К великомученице Варваре обращаются с молитвою и прошением о паломниках, которые отправляются в путь по морю на Анзер и Муксалму, почитая ее как избавительницу от внезапной смерти, от бури на море и огня на суше.
Я так же вспоминаю, что рядом с причалом есть одноименное озеро, славящееся обилием рыбы. Наша братия рыбачит здесь и возвращается с хорошим уловом.
Уже идем по морю больше часа, подходим к проливу «Анзерская салма». Она отделяет Большой Соловецкий остров с необитаемым поселком Ребалда от мыса Кеньга на Анзере. Этот пролив шириной около пяти километров, он славится своими коварными подводными течениями. Именно из-за них пешее зимнее сообщение с островом строжайше запрещено нашим священноначальством. Лед здесь зимой очень коварен, эти течения в некоторых местах подмывают его в подводной части, и он становится тонким, до двух – трех сантиметров, и в эти места не мудрено провалиться и погибнуть. Еще минут сорок, и мы причаливаем к берегу Анзера, хотя оговорюсь, – слово «причаливаем» – не совсем правильное. На самом деле катерок останавливается в метрах ста от земли из-за мелководья, и нас, паломников матросы перевозят на лодке.
Чаще всего путь паломников по Анзеру начинается с мыса Кеньга с юго-западной стороны. Отсюда около трех километров до Троицкого скита. Мы идем по лесной дороге. Ощущается святость и благодать, разлитая на этой земле, ведь Сама Пречистая неоднократно являлась сюда и обещала пребывать вовеки.
Незаметно лесная чаща сменяется открытым пространством, и мы все с возвышения впервые видим панораму с доминирующим в окрестности Свято-Троицким скитом. Само здание полуразрушенное, находится в стадии консервации. Мы посещаем церковь во имя Святой Троицы. Вход в трапезную часть и келейный корпус категорически запрещен ввиду возможности обрушения. Выходим на улицу, и с площади за алтарем храма хорошо виден канал. Он оказывается рукотворный, прорыт из Святого озера в море. Видим экзотическое здание из камня – валунную баню. Баня восстановлена. Недалеко находится так называемый млечный дом, в нем живут скитские трудники.
Ближе к берегу моря сохранились три амбара и причал. С южной стороны от церкви – плохо сохранившееся здание конюшни и развалины печи от сгоревшего в советские времена корпуса для трудников и богомольцев. Отсюда начинается дорога в Голгофо-Распятский скит. У мосточка, где дорога пересекает канал из Святого озера в море, недавно, лет как шесть назад воссоздана часовня в память иконы Божией Матери «Знамение».
Мы с группой располагаемся на берегу прекрасного голубого озера, его называют «Святым». Достаем свои припасы, молимся и трапезничаем. После завтрака продолжаем путь уже к местной Голгофе. Метров через триста дорога выходит на Богородичный луг, на котором по преданию особенно пышно цветут незабудки на тех местах, где ступала Пресвятая Богородица. На лугу восхитительное многотравие, оказывается, существовала традиция – многие иноки старались привезти семена трав из своих родных мест и здесь посеять. Километра через два дорога упирается в Большое Елеазарово озеро. Нам показывают место на противоположном берегу, на пригорке, поросшем островерхими елями, там построил себе келию преподобный Елизар. Обходим озеро и поднимаемся по тропинке с правой стороны, она ведет к вершине холма. Видим часовню, она построена на месте его пустынной келии. Молимся преподобному. Далее спускаемся по деревянной лестнице с другой стороны горы, видим у дороги большой поклонный крест. Вокруг запредельно красивая природа. Лесная тишина. Воздух густой, свежий, насыщенный хвойным ароматом. Благодать Божия. От переизбытка чувств и окружающей благодати многие паломники начинают молиться вслух, читают «Богородица Дева радуйся», тропари, у многих в руках четки, они безмолвно занимаются Иисусовой молитвой.
Пройдя по основной дороге еще около километра, видим справа тропинку к деревянному поклонному кресту. От креста открывается вид на Голгофу. Наш экскурсовод рассказывает: оказывается здесь все промыслительно и сверхъестественно. Мы принадлежим к тому поколению людей – моловеров, которым надо все пощупать и потрогать, и подтвердить веру научными фактами, а после получения научных доказательств – все равно остаемся маловерами… Но надо начать с самого начала:
В 1702 году в Троицком скиту появился инок высокой духовной жизни. Этим иноком был преподобный Иов (в схиме Иисус). Под его руководством подвизались еще два ученика. Один из них иеродиакон Паисий. Теперь цитата, обратите внимание на так называемый «рацион питания» подвижника: «Итак, в среду 18 июня 1712 года после Божественной Литургии преподобный Иов пришел в свою келию и по обычаю вкусил «муки ячменя, растворенная варом (кипятком), и воды мало». Такую пищу он принимал всегда, с тех пор как поселился в Анзерском скиту, и то принимал в меру, только полфунта (200 грамм) в день, лишь бы не умереть от голода, хлеба же никогда на огне не пек, следуя сказанному пророком: постом и воздержанием смиряя душу свою, и питие свое с плачем растворяя. Посевая семя в век гряядущий, преподобный и сна позволял себе мало, подолгу пребывая в бдении»
А я думаю про себя: «Какая у него была святость и смирение! Ведь надо еще подчеркнуть, что этот преподобный был ранее, в Москве рукоположен в иерея. Он был хорошо известен государю Петру Алексеевичу, который избрал его духовником царской семьи. И как водится, был из-за зависти оклеветан перед царем, обвинен и сослан на Соловки. Вспоминаю также, что Петр I позже встретился с Иовым и просил вернуться к царскому двору, но монах испросил у государя позволения остаться на Анзере. Со стыдом сравниваю свои «подвиги» – ем в день три раза, и зело обильно. И это не считая мною любимых чаепитий, и чаепитии эти, – увы, не случаются в «сухомятку». А еще я люблю шоколад и конфеты и творожочек с трапезной…
Мои раздумья прерываются продолжением рассказа экскурсовода…
… В тот день он оставался в скитской келии, собираясь немного поспать. Но едва задремал, как внезапно был восхищен духом и оказался в келии отца Паисия, который в это время писал образ преподобного Елеазара. Тут же преподобный Иов увидел и второго своего духовного сына, и, удивляясь происходящему, начал, как обычно беседовать с учениками. Неожиданно «Предста ему преподобный Елеазар, и ничто же к нему глагола». Отец Иов удивился явлению святого и, прекратив беседу, прилежно смотрел то на честные седины преподобного, то на его живописное изображение, стоящее рядом, и поражался сходству. Преподобный стал невидим, но вскоре предстал ему второй раз, и снова отец Иов замолчал, а преподобный скрылся. Было и явление в третий раз, на котором Елеазар помолившись, упросил посетить келию «чудную Царицу Небесную всего мира Заступницу нашу Пресвятую Владычицу Богородицу с девственным полком иноков-ангелов.
Преподобный Иов, радуясь духом и сердцем веселясь от видения Небесной Царицы, и пав на землю, поклонился ей. Пречистая глаголила ему: «Не бойся, возлюбленный угодниче Сына моего и Бога!» И отверзе оконце внутренния келии и показа ему божественным своим перстом: «Зри высокую гору сию, иже нарицается Голгофа, и буде утверждение твое наверху горы сия, и вселишися на ней жити с двемя ученики твоими. Освяти гору сию Голгофу, поставь на ней крест, иже зде устроится церковь Распятия Христова, и скит Распятский прозовется, и превознеется паче ливана плод Его, и процветет ограда яко трава земная…»
Когда преподобный Иов с опасением размышлял, истинное ли было это видение, последовало второе явление Пресвятой Богородицы с преподобным Елизаром, и Дух Божий, действуя устами и языком праведника, понудил его петь тропари, а в конце стихиру: «Днесь висит на древе…», которая заканчивается трижды торжественно повторяемыми словами: «Поклоняемся страстем Твоим Христе!» Тогда богоблаженный отец полностью уверовался в проявлении Божественного проявления. Вот так началось строительство этого таинственного скита. Это был 1712 год.
Думаю, что к сказанному экскурсоводом, люди отнесутся по-разному. Первые, – люди верующие и благочестивые возгласят: «Слава Господу и Матушке нашей Пресвятой Богородице!» Вторые, – люди-маловеры, так сказать «захожане» и «приезжане» церкви, подумают: «Ну, может быть, и не было такого, но место конечно святое, а монахи выбрали постройку церкви и скита, потому что это удобное место, рядом с озером, это гора – доминант всего острова, церковь отовсюду, издалека видна. Третьи, – люди неверующие скажут: «Хм. Красивая легенда».
Так вот, для второй и третьей категории людей можно дать маленькую справку: Описываемые события произошли в начале восемнадцатого века, когда география как наука еще была в зачаточном положении. С тех пор прошло три века, и только сейчас обнаружилось, что Голгофа Иерусалимская и Голгофа Анзерская находятся на одном меридиане – 36 градусов восточной долготы!!!
И еще, лично свидетельствую: – я любитель пеших прогулок, за почти два года нахождения на архипелаге исколесил все острова и озера, являюсь грибником со стажем. И нигде! Повторяю, нигде! Я не видел даже чего-то подобного на дерево-крест, выросшего в шаговой доступности от храма «Распятия Господня!» По оценкам специалистов этой березе – больше ста лет. Форма ветвей – уникальная и сверхъестественная. Господь и сегодня свидетельствует об истинности повествования о явлении Своей Пречистой Матери и Ее благословении на устройство Голгофо-Распятского скита!!!
Но я несколько отвлекся, наш путь продолжился, и мы вскоре оказались недалеко от цели нашего путешествия. Надо сказать, что Голгофский скит строился во образ Иерусалима: в поднебесье гора Голгофа, под горой деревянная церковь Воскресения Христова – Гроб Господень, а храм с крестом представляет собой поклонную гору. Здешний храм Воскресения Христова поставлен на месте явления Пресвятой Богородицы и преподобного Елеазара преподобному Иову. Посетив храм и часовню на месте обретения мощей священномученика Петра, замечаем, что гора покрыта крупными синими незабудками: так бывает каждый год ко дню явления Божией матери преподобному Иову, по преданию, они особенно пышно цветут там, где ступали стопочки Пресвятой Богородицы.
Наш путь наверх. Дорога пошла в гору и, по мере нашего приближения к скиту, становится все круче. Гора лесная, покрыта смешанным лесом. До вершины идет спирально дорога. И вот мы на вершине! Оглянулись – и что за прелесть! Кажется, любовался бы и любовался. Нельзя глаз отвести, все бы смотрел на чудный вид окрестностей острова. Он как-то сразу открывается перед нами как на ладони с его лесистыми мысами, далеко вдающимися в море, а вот и пролив, издали кажущийся совсем узким! А вот и озеро у подножия Голгофы. Вокруг острова безбрежная синь северного моря. Сразу вспоминаю, что знаю о Анзере: Это второй по величине остров Соловецкого архипелага. Его площадь – 47 квадратных километров. Анзер вытянут на 17 километров в длину, а наибольшая ширина – 6,5 километров. Здесь несколько природных зон. Есть тут и сосновый бор, много озер (а их – на минуточку – более шестидесяти), смешанные леса, тундровая растительность. На Анзере находится местный «Эверест» – высшая точка Соловецкого архипелага – гора Вербокольская (высота 88 метров). А мы сейчас находимся на высоте – 64 метра. Но довольно наслаждаться видами. Теперь идем в храм. Он парит над горой как белый голубок. Храм построен в 1830 году и отреставрирован в 2008 году.
Сразу обращает внимание на себя необычный иконостас. Он вместил в себя иконы, изображающие главные события Страстной Седмицы: «Вход Господень в Иерусалим», «Моления о чаше», «Поцелуй Иуды», «Приведение на суд к Пилату», «Поругание от римских воинов», «Несение креста», «Распятие» и «Воскресение». Наша паломническая группа совершает молебен преподобному Иову, и все мы прикладываемся к его честным мощам, которые поставлены справа на солее у храмового образа. Вспоминаются слова Господа: «Кто мне служит, Мне да последуют; и где Я, там и слуга мой будет» (Ин. 12:26). После церкви немного спускаемся, и в метрах двадцати видим чудо Божие – ту крестообразную березку!
Но, к сожалению, нам пора домой. Нас ожидает монастырский кораблик в Копальской губе, а это еще три километра. Усталые, но довольные, мы проходим этот путь минут за сорок. Садимся на местный флот и идем по морю назад к Варваринскому причалу. Как пролетели те два с половиной часа возвращения – я не помню, от усталости и впечатлений я принял в кубрике полу лежачее положение и быстро заснул. Мы возвратились уже вечером, но из-за белых ночей время суток почти неизменяемо. Около 10 вечера, а светит закатное солнце, очень светло.
И вот обратное пешее возвращение от причала к монастырю. Этот путь я прошел в вожделении вечернего чаепития, мысленно выбирая, что же лучше мне открыть к ужину – банку сайры в масле или тресковую икру. Увы, мне грешному чревоугоднику, даже после посещения такого святого места, меня одолевают такие земные помыслы…
Белые ночи – монастырь
Весь архипелаг погрузился на летние месяцы в волшебство белых ночей. Они как-то усиливают благодать, щедро разлитую здесь на Соловках, по милости Господней. Несколько столетий, почти половину тысячелетия эта земля, орошается мощами монахов – подвижников, лежащих здесь. Шестьсот лет, без малого, возносятся молитвы иноков, шестьсот лет не угасают лампады перед иконами, шестьсот лет возносится пламенный молитвенный столб к престолу Господа. И летняя, окрашенная закатом, золотая ночь усиливает понимание того, что мы в избранном Богом месте. Монастырь белыми ночами приобретает вид несокрушимой Божией цитадели. Купола многочисленных храмов горят на фоне северного, свинцового неба в лучах многочасового заката и в два часа ночи.
Высокие, крепкие стены кремля приобрели вид терракотового несокрушимого препятствия от всех темных сил, которые ежедневно множатся в нашем бренном мире. Но не по зубам наша твердыня этим супостатам. Господь бережет свою православную крепость. Мысленно, если мы вознесемся на высоту птичьего полета, мы увидем гиганский, вытянутый с севера на юг пятиугольник, напоминающий корабль, по его углам стоят как богатыри, круглые башни: вот Архангельская, Никольская, здесь Корожная и Прядильная, а там Белая. Крепостные стены и эти башни сложены из необработанных валунов, в изобилии встречающихся на Соловках. Будто какой-то исполин их выстроил играючи. Но нет, это результат титанического труда монахов и мирян, ведь некоторые валуны весят до 700 сот пудов, а это на минуточку – 11 тонная глыба. Можно вспомнить из прочитанного путеводителя, что эта крепость была построена в конце шестнадцатого века за 14 лет. Общая протяженность стен по внешней стороне составляет около 1200 метров, толщина основания пять – семь метров, а высота до семнадцати, а вместе с шатром, покрытым тесом до 30 метров. Вот такие цифры.
Именно сюда столетиями едут и едут паломники. Зов души привлекает сюда людей со всей нашей необъятной родины. Как стремятся со всего мира православные попасть на греческий Афон, так и со всей России стекаются на паломничество, сюда наши верующие, чтобы задуматься, помолиться, оставить свою лепту, потрудившись во Славу Бога.
Мы, трудники, живем в монастыре. Берем пример для себя в труде, молитве, образе жизни с насельников монастыря, дорогих нам батюшек, монахов, иноков и послушников. Пытаемся направить нашу истерзанную в миру жизнь в привычное русло. Живем мы в древнем иконописном корпусе, он еще дожидается реставрации, сохраняя свой пропитанный историей архитектурный облик. Да, конечно, стены кое-где разрушены, штукатурка на фасаде облупилась, стыдливо обнажая старинную кирпичную кладь. В полуметровых стенах здания, в оконных проемах, напоминающих бойницы, вставлены оконные рамы – это сталинское наследие, в этом здании был лагерный лазарет. Поднимаемся с уличного дворика по скрипучим деревянным ступеням, открываем тяжелые двойные двери из лиственницы, и вот мы уже в корпусе на первом этаже. Направо видим табличку: «Женщинам не благословляется», там, за дверью уже отреставрированный, после ремонта жилой блок здания.
Налево видим ветхий коридор с пятиметровыми потолками, по нему можно пройти к паспортному столу, кабинетам и хозяйственному складу, задрапированному большим количеством реек, досок, фанеры, прислоненных к стене коридора. Именно здесь я работал под началом отца Нестора, выполняя послушание кладовщика. Но наш путь не сюда. Поднимаемся по крутой, длинной, бетонной лестнице на второй уровень. Здесь находится трапезная для паломников трудников. Очень «вкусное» место. В холле, наверное я выбрал неправильное обозначение – оно как-то режет слух, лучше сказать – в углублении коридора – сложены дрова в аккуратные поленницы. Приготовление пищи, отопление у нас на дровах – печное.
Наш путь дальше – наверх, на последний третий этаж. Именно здесь живут многочисленные трудники монастыря. Вот ветхий коридор, в нем мы видим аккуратно прислоненные к стене оконные коробки с рамами, изготовленными нашим столярным цехом – они подготовлены для бедующей реставрации корпуса. Отец Порфирий – наместник монастыря, сочетает в себе и молитвенный дар, и большие хозяйственные способности. И первый его помощник в этом хлопотном деле – отец Нестор. Их неутомимыми трудами возрождается обитель.
Мы видим длинный коридор, ведущий к единственному окну. Из него открывается изумительный вид на монастырский причал. Лудные острова, которые очень хорошо видны с этого окна, в белые ночи превращаются в сказочное видение. Белое море и небо сливаются в туманно-золотистом мареве, и эти острова будто «повисают», парят в пространстве. Повернув налево, мы на месте, перед нами коридор с печью, слева общая келия на восемь человек, справа – огромное помещение с большими окнами – витражами, видом на белое море, в этом помещении размещаются до 30 человек. В упомянутом коридорчике между этими двумя келиями имеется общий стол, за ним трудники после послушаний и служб пьют чай, для таких чаепитий монастырь благословляет варенье, печенье, многочисленные сладости. Это место общения, иногда добрых духовных споров. Прямо по коридору находится общая молельная комната. Трудники сами, как могли ее обустроили, здесь много репродукций икон, есть общий стол, горят лампады, имеется аналой. Вечернее правило перед сном выполняется каждый день.
