Смартфон
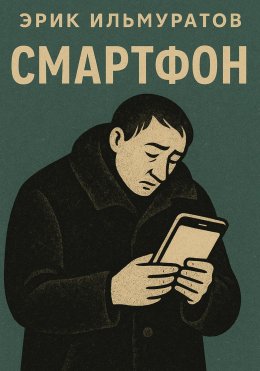
В корпорации… но лучше не называть, в какой корпорации. Ничего нет обидчивее всякого рода корпораций, отделов, департаментов и, словом, всякого рода должностных лиц. Сегодня каждый частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила жалоба от одного проджект менеджера, не помню какой компании, в которой он излагает ясно, что священное имя его произносится всуе. А в доказательство приложил к жалобе огромнейший том какого-то постмодернистского сочинения, где через каждые десять страниц появляется проджект менеджер, местами в совершенно пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше корпорацию, о которой идет речь, мы назовем одной корпорацией. Итак, в одной корпорации служил один сотрудник; сотрудник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным… Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается должности (ибо у нас прежде всего нужно объявить должность), то он был то, что называют вечный джун. Фамилия сотрудника была Босоножкин. Уже по самой ней видно, что она когда-то произошла от какой-то босоножки; но когда, в какое время и каким образом, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Босоножкины не носили босоножек. Имя его было Даздраперм Даздрапермович. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло так. Родился Даздраперм Даздрапермович к ночи, если только мне не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерофейкин, служивший завхозом в роддоме, и кума, жена участкового, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Бледнобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, – подумала покойница, – имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, – проговорила старуха, – какие все имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу – вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, – сказала старуха, – что, видно, его такая судьба. Уже если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Даздраперм, так пусть и сын будет Даздраперм. Таким образом и произошел Даздраперм Даздрапермович. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет джуном. Читатель может сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно.
Когда и в какое время он поступил в корпорацию и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же тренером нейросети, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в галстуке и с лысиной на голове. В корпорации не оказывалось к нему никакого уважения. Охранники не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через турникет пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь менеджер совал ему в таск-менеджере задачи, не сказав даже «вот интересная, хорошенькая задача», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных компаниях. Молодые сотрудники посмеивались и острились над ним, во сколько хватало остроумия, рассказывали тут же пред ним разные выдуманные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Даздраперм Даздрапермович, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всего этого хаоса он не делал ни одной ошибки. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое жалостливое, что один стажер, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький клерк с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным…
Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он работал ревностно, – нет, он трудился с любовью. Там, в этой тренировке нейросети, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые темы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякий ответ, который выдавала ему нейросеть. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в мидлы; Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один гендиректор, будучи добрым человеком и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенную тестировку промта; именно из готового уже алгоритма велено было ему сделать какой-то отчет в другой отдел; дело состояло только в том, чтобы переменить заголовки да состряпать на основе этого небольшую презентацию. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я потренирую нейросеть». С тех пор оставили его навсегда гонять промты. Вне этого занятия, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем гардеробе: костюм у него был не черный, а какого-то серо-фиолетового цвета. Воротничок на рубашке был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех вопящих резиновых петушков, которых десятками скупают на маркетплейсах. И всегда что-нибудь да прилипало к его костюму: или скотча кусочек, или какая-нибудь ниточка; Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой сотрудник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отлетел пистончик со шнурка, – что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.
Но Даздраперм Даздрапермович если и глядел на что, то видел на всем сгенерированные нейросетью тексты, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, электросамокат наезжал ему на ногу, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине тротуара. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свой доширак и ел сосиску с гречей, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору. Заметив, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал ноутбук и продолжал тренировать нейронку. Если же задач не было, он уже нарочно, для собственного удовольствия, общался с искусственным интеллектом и спрашивал у него черт знает какие пустяки.
Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и все белые воротнички наедятся, кто как мог, сообразно с получаемой зарплате и собственной прихоти, – когда все уже отдохнуло после офисного стука клавиатур, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, – когда работники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, кто на вечер – истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого круга коллег; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, умной лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, – словом, даже в то время, когда все служащие рассеиваются по маленьким квартирам своих приятелей поиграть в плойку, затягиваясь дымом из электронных сигарет, рассказывая в перерыве какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о Петьке и Чапаеве, – словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, – Даздраперм Даздрапермович не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Напечатавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Так протекала мирная жизнь человека, который умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только джунов, аналитиков данных и бизнес-аналитиков, но и тех, кто ничего никогда не анализировал.
Есть в России у всех, получающих шестьдесят тысяч рублей до вычета налогов, одна проблема. У любого уважающего себя человека должен быть смартфон, и чем позднее модель – тем лучше. Без смартфона человека не считают за равного. Даздраперм Даздрапермович с некоторого времени начал замечать, что старый телефон его разряжается как-то слишком уж быстро, а приложения на нем работают слишком уж медленно. Рассмотрев его хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах стекло уже исцарапалось, а разъем для зарядки подозрительно потрескивает. Стоит знать, что смартфон Даздраперма Даздрапермовича служил тоже предметом насмешек коллег; они отнимали даже благородное имя смартфона и называли его лопатой. В самом деле, он имел какое-то странное устройство: рыжеватый дисплей раздвигался, подставляя миру допотопную клавиатуру, к тому же интерфейс его был пиратским. Увидев, в чем дело, Даздраперм Даздрапермович решил, что смартфон нужно будет снести в «Петрович», конторе по починке техники, которая, несмотря на страшный полуподвальчик в Апрашке, занималась довольно удачно починкой ноутбуков и всяческих других устройств первой необходимости. Об этой конторе, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести всякое место было описан, то, нечего делать, подавайте нам и «Петровича» сюда. «Петровичем» оно стало называться с тех пор, как в нулевые точку основательно погромили скинхеды; Предприимчивый Али понял, что название нужно менять, а с изготовления ключей и ремонта обуви переквалифицироваться на технику. За прилавком сидел сам Али – непьющий, но все равно почему-то страшно опухший человек с удивительно тонкими пальцами. В обеденный перерыв Али любил прошмыгнуть до ближайшего ларька и взять себе большой, ни на что не похожий кебаб, завернутый в слой бумаги и заботливо уложенный в неоправданно веселый оранжевый пакет. Али носил на ногах сандали до самой глубокой осени, но ног его из-за прилавка все равно никто никогда не видел.
Спускаясь по лестнице, ведшей к Али, которая, надо отдать ей должное, была вся была залита водой, засыпана окурками и проникнута насквозь тем запахом, который присутствует неотлучно на всех лестницах петербургских домов, – спускаясь по бесконечно длинной лестнице, Даздраперм Дазрапермович уже подумывал о том, сколько запросит Али, и решил не давать ему больше тысячи. Даздраперм Даздрапермович прошел через табачный магазин, не замеченный даже молодым продавцом, и вступил наконец в закуток, где увидел Али, сидевшего за серой пластиковой стойкой и подвернувшего под себя ноги босые свои, как турецкий паша. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Даздраперму Даздрапермовичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Али висела связка проводов, а на коленях лежала раскуроченная материнская плата. Он уже минуты с три пытался попасть отверткой в винтик, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самый винтик, ворча вполголоса: «Не идет, а! Уел ты меня, шайтан этакий!» Даздраперму Даздрапермовичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Али сердился: он любил посещать Али тогда, когда последний был сыт и доброжелателен. В таком состоянии Али обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Теперь же Али был, казалось, крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Даздраперм Даздрапермович смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Али прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Даздраперм Даздрапермович невольно выговорил:
