Ядвигина лилея
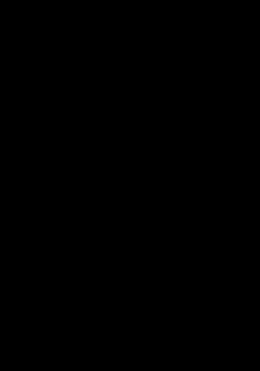
Село Тылич стояло на краю света – там, где дороги терялись в непроходимых лесах, а люди жили с оглядкой на старых богов. Здесь верили, что беда приходит не одна: сначала война заберёт мужей, потом мор выкосит детей, а уж если хворь хотя бы однажды заглянет в дом – жди, что за ней потянется и нечто похуже.
Тени в Тыличе были длиннее, чем в других сёлах. Они стелились по земле, как дым от неугасимых свечей, цеплялись за подолы юбок, лизали ступни тех, кто шёл на погост с тяжкой ношей. Здесь даже ветер шептал по-старому – словами, что забыли живые, но помнили мёртвые.
Ядвига Лисовска знала это лучше других.
Она осталась вдовой в двадцать три года, с тремя детьми на руках и корчмой, что едва кормила семью. И выжила – хотя ненасытная война забрала мужа, голод скосил половину села, а свекровь перед смертью прокляла её, плюнув на порог чёрный, как смола, комок прожилок. Выжили и её дети: Янек с веснушками, как россыпь конопляного семени, Кася с глазами мокрого льна и Владек – тихий, будто тень от облака.
Бабы шептались, что слишком уж ловко Ядвига уклоняется от бед: «Колдовство!» – но она лишь смеялась, выплёскивая помои на сметник. Ей было не до сплетен: надо растить детей, топить печь, давить сливы для наливки. Жить. Пусть говорят. Она-то знала правду: если не верить в порчу, она не пристанет.
За эту лёгкость её и не любили, а как свекровь померла, и Ядвига сама себе хозяйка стала, злыдни втройне принялись пустое перемалывать. Известное дело, молодая вдова, всё ещё красивая, несмотря на тяготы – всегда мишень для ядовитых языков. Да только Ядвиге дела не было до их сплетен. Сучья забота – брехать без умолку, а человечья – разум иметь. Она растила своих детей, хозяйничала в корчме и до чужих мужей интереса сроду не имела. Дважды за четыре её чёрных года к ней сватались вдовые мужчины, но Ядвига даже не колебалась, отказывала сразу. Никакой отчим чужих детей кормить не хочет. Дети только матери и нужны, а она нужна им. Вот и весь смысл жизни.
На том Ядвига и порешила.
А потом случилась у неё большая любовь.
По какому капризу судьбы в её скромную корчму занесло тогда молодого шляхтича – спросить бы у древнего дерзкого бога с колчаном и стрелами или же у старух с прялками, да не была Ядвига обучена таким премудростям. Жила она просто и полюбила просто – с первого взгляда и до конца своих дней. Шляхтич ворвался в её жизнь, ожёг серо-голубыми глазами, холодными, как первая звезда, и потребовал кубок лучшего вина.
Наверное, он ждал чего-то невозможного – вина из винограда, что выспел на склонах далёких южных гор, где море синее неба, а солнце после полудня плавит древние камни. Да, наверняка он хотел вина, за которым рыцари отправляются в крестовые походы, вина, что пьют короли на своих пирах.
А что могла дать ему Ядвига?
Только самое лучшее, что у неё было – сливовицу.
Ту самую, что пять лет зрела в дубовых бочках, впитывая аромат древесины, пока не стала крепкой, как польская сталь, и терпкой, как женская измена.
Она налила ему полный кубок.
Шляхтич, пригубив, поморщился, но выпил до дна, глаз с Ядвиги не сводя, и жгли его холодные глаза, ох, как жгли! Потом приказал подать чаю – ну, тут уж она расстаралась, заварила собственный сбор из карпатских трав, да на сладчайшей родниковой воде, щедро сдобренный липовым мёдом. Шляхтич выпил пару чашек, ничего не сказал, кинул на стол пять злотых и одну, на вид серебряную, но сильно потёртую монетку с профилем кричащего человека, и умчался на вороном своём коне в неведомые дали. Щедро заплатил, очень щедро. Правда, ту монетку неправильную Ядвига так и не рассмотрела толком, сперва не до того было, а потом, видно, дети утащили поиграть и потеряли.
Ядвига после его визита всю ночь глаз не сомкнула, ворочалась в жёсткой своей постели, то утыкаясь лицом в подушку, то отбрасывая её прочь – будто и постель, и сам сон, прежде бывший благом после тяжёлого дня, стали ей вдруг невыносимы.
Шляхтич не шёл у неё из головы.
Отродясь не бывало в её корчме таких мужчин: изысканных, благородных, пахнущих не дегтем и потом, а лавандой, коньяком и выделанной кожей.
Она вспоминала тёмно-русые его волосы с медным отливом, глаза льдистые, но с такой дерзкой искрой на дне зрачков, что в какой-то момент ей захотелось прямо там, в корчме, стащить с головы чепец, высвободить волосы из кудельного обручка, встряхнуть огненной своей, непокорной гривой – и будь что будет! Вспоминала тонкий шрам от виска до подбородка, холёные длинные пальцы, подкручивающие усы… Вспоминала, как пахло от него: лавандой, коньяком и кожей – и сладко, мучительно сладко сводило ей низ живота той забытой уже, женской истомой.
Так и маялась до утра, ворочаясь в одинокой постели, будто на раскалённых углях. Губы в кровь искусала, а всё равно не могла унять того огня, что разлился по жилам жгучей смолой. Точно злой дух вселился, да не простой бес-искуситель, которого в костёлах заклинатели изгоняют, а сам князь тьмы, что является в обличье прекраснейшем, чтобы сжигать дотла.
