Кража Казанской
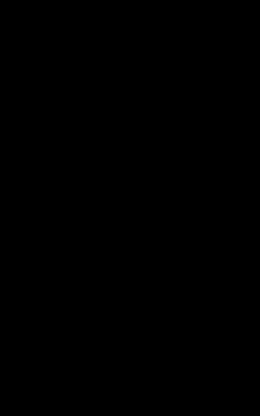
Часть I
Крамольник
Глава 1
Май 1903 года
Доклад военной контрразведки
Май задался. Всего-то канун лета, а распекало так, что впору принимать водные процедуры на Большом озере в Екатерининском парке. Только вчера прошла сильная гроза, окатив ливнем округу на двести верст, и вновь распекало солнце. Прохладу можно было встретить только в шумливой листве, которую мягко трогал теплый ветер.
Поначалу местом для основной резиденции Николай Александрович хотел выбрать Аничков дворец, где родился его отец – Александр Третий – и где на свет появился он сам. Но, поразмыслив, царь выбрал Царское село – весьма живописное место с Александровским садом и большими прудами, в которых плавали серебристые карпы.
Александровский дворец, где проживала венценосная семья, был заложен еще в 1792 году по распоряжению Екатерины II и строился для ее любимого внука великого князя Александра Павловича (впоследствии императора Александра I) в качестве дара к предстоящему бракосочетанию. Однако по каким-то причинам Александр к подарку бабушки охладел и, бывая в Царском Селе, предпочитал останавливаться в Большом Царскосельском дворце.
У его преемников отношения с Александровским дворцом сложились лучше. Николай I большую часть времени проводил в его стенах и сделал немало ради его благоустройства. Для Александра Александровича (будущего императора Александра III) дворец тоже был знаковым местом, его великокняжеской резиденцией. Уже став императором, из многочисленных летних дворцов он отдавал предпочтение Гатчинскому.
Николай Второй в качестве основной резиденции выбрал Александровский дворец, который считал родным домом. В каждое последующее императорское правление дворец улучшался и к 1903 году представлял собой красивое двухэтажное удлиненное здание с двойными флигелями по сторонам, исполненное в стиле романтического палладианского классицизма. Все здание было окрашено в ярко-желтый цвет, но величественные колонны фасада всегда оставались белыми.
Именно в его стенах протекала большая часть жизни венценосной семьи. Здесь же располагалось средоточие политической власти в России: здесь проводились важнейшие заседания правительства; в кабинеты дворца Николай Второй приглашал министров для доклада, в парадных залах принимал иностранных послов.
Николай Александрович пересек приемную, где по обыкновению размещались флигель-адъютанты, дружно вставшие при его появлении, и твердой поступью вошел в свой кабинет.
На его столе, расположенном подле камина и обитом ореховым деревом, в рамках стояли семейные фотографии, немного в сторонке из-под бумаг торчали три курительные трубки; перед креслом лежали две объемные папки, крепко стянутые красными тесемками: в первой находился доклад министра финансов Сергея Витте[1], во второй – заключение разведчика полковника Самойлова[2] о японской армии.
Сергей Юльевич отчитывался по прошедшему году: он сумел добиться значительного притока зарубежного капитала в Россию, а также всячески поощрял инвестиции в железнодорожное строительство, приоритетным считая Великий Сибирский путь. На Дальнем Востоке с огромной скоростью милитаризировалась Япония, и Витте, являясь активным противником возможной войны, призывал усилить дипломатию, чтобы избежать вооруженного конфликта. В противном случае индустриализация России значительно замедлится и можно будет забыть о проведении железнодорожного пути в этот отдаленный уголок страны.
В докладе полковника Владимира Самойлова отмечалось, что война с Японией практически неизбежна, и он со строгой математической точностью, будучи инженером, подсчитывал количество орудий и батальонов у каждой из сторон, предрекая скорое поражение русской армии.
Государю хотелось лично выслушать доводы полковника Самойлова. Прежде он не был с ним знаком, а потому для начала велел доставить копию личного дела военного разведчика. Биография Самойлова оказалась весьма прелюбопытной.
Свою военную карьеру Владимир Самойлов начинал с Полтавского кадетского училища, продолжил образование в Николаевском инженерном училище. Во время службы в Закаспийской саперной роте заинтересовался японской и китайской культурами. Как один из блестящих офицеров был направлен в Николаевскую академию Генштаба, которую закончил по первому разряду. За короткий срок сумел выучить японский и китайский языки, именно это обстоятельство послужило основанием для перевода Владимира Константиновича на должность помощника адъютанта штаба Приамурского военного округа. В то же время Самойлов стал заниматься разведкой в японских военных соединениях. Далее он был назначен штаб-офицером для особых поручений при Главном Начальнике Квантунской области. Участвовал в военных действиях в Китае, занимая должность начальника штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. Последний год Владимир Самойлов в звании полковника пребывал военным агентом в Японии.
Ровно в назначенное время флигель-адъютант препроводил к государю русоволосого невысокого мужчину с тонко стриженными усами.
– Я вас представлял немного другим, – широко улыбнулся Николай Александрович.
– Похожим на японца, полагаю? – с серьезным видом поинтересовался полковник.
– Ну-у… Где-то так, – мягко улыбнулся Николай II.
– Не мудрено! Многие так думают, Ваше Императорское Величество, – озоровато заметил полковник.
– Вы присаживайтесь, Владимир Константинович.
– Благодарю вас, – Самойлов опустился на мягкий стул, обитый зеленым бархатом.
– С большим вниманием прочитал ваш доклад, – продолжал Николай II. – Вот он и сейчас лежит на столе… После него решил познакомиться с вами лично. Признаться, в нашем государстве таких людей, как вы, к сожалению, немного… Ваш вывод в отношении усиливающейся японской армии для меня был весьма неожиданным. Впрочем, как и для офицеров Генерального штаба. Значит, вы говорите, что война с японцами неминуема?
– Именно так, Ваше Императорское Величество, – уверенно произнес полковник, глядя прямо в глаза Николаю II.
– Расскажите вкратце, на чем основаны ваши выводы. Обоснуйте!
– Тогда у меня к вам такой вопрос: как вы относитесь к английскому боксу?
– Положительно, – серьезно отвечал государь.
– Значит, вы меня поймете… Русское командование зачастую уподобляется боксеру, что выходит на ринг с завязанными глазами и при этом рассчитывает победить сильного тренированного противника. Мы совершенно ничего не знаем о японской военной промышленности и не желаем этого знать. У нас должным образом не налажена даже военная разведка. А ведь не только Германия, но и Япония – наши стратегические противники, а между тем они – признанные лидеры, когда речь заходит об организации военной разведки. Еще в средние века в Японии, на всех ее островах, государство создало мощнейшую разветвленную систему полицейского шпионажа, притом в таких размерах, какие были немыслимы для стран Европы того же времени. Для японцев шпионаж – не просто добыча информации, это большое искусство! У нас же все выглядит по-другому, в России даже нет единого государственного органа, который бы координировал разведывательную деятельность всех ведомств. Так, например, разведкой занимаются офицеры Военного министерства и Адмиралтейства, и зачастую их выводы об одной и той же ситуации прямо противоположные. Разведчики стоят на страже интересов своих ведомств, а не государства в целом. Далее, в России никто не занимается систематизацией и анализом добытых разведданных, подготовкой обобщающих докладов для государя и Военного министерства. Такое положение я объясняю тем, что докладывать особенно нечего, потому что уровень разведывательной деятельности России крайне низок. Тем более разведке нечего сказать о Японии, которая до сих пор является закрытой страной.
– Японию я знаю не понаслышке, мне приходилось там бывать, – басовито произнес император. – Мне не показалось, что японцы ведут какую-то агрессивную политику по отношению к России, хотя там и совершили на меня покушение. Но это лишь частный случай… Возможно, что после вашего доклада я поменяю мнение… Но, в таком случае, как же налажена военная разведка у японцев?
– Последние годы Япония наращивает экономический и военный потенциал, что толкает ее собирать сведения о близлежащих территориях Китая, в особенности Маньчжурии, а также о Дальневосточном регионе России. Главным образом их интересуют вооружение и состав наших сухопутных соединений. Все эти многочисленные разведданные поступают в Генеральный штаб японской императорской армии.
– И что же они хотят? – хмуро спросил Николай Александрович.
– Того, что хотят все империи мира: природные ресурсы на смежных территориях для собственного пользования. А заполучить их можно только военным путем. Надо признать откровенно, мы до сих пор слишком мало внимания обращали на Японию, а наш Генеральный штаб по-прежнему считает, что ее армия и флот чрезвычайно слабые и не сумеют помешать нам утвердиться на Дальнем Востоке. Вот это и есть наша стратегическая ошибка… Нам бы не следовало забывать, что в действительности Япония – очень хитрый и опасный враг!
– Вижу, что вас отрекомендовали верно, вы действительно разбираетесь в разведке и знаете ее наиболее слабые стороны. Но позвольте с вами не согласиться кое в чем. Наше государство никогда не пренебрегало агентурой, на ее деятельность выделяются из казны сотни тысяч рублей. – Хмыкнув, Николай Второй добавил: – Поверьте, я знаю, о чем говорю. Лучшие офицеры русской армии, владеющие иностранными языками, направляются как агенты в европейские столицы, где ведут разведывательную деятельность. Результаты их работы приносят большую пользу России.
– Ваше Императорское Величество, не берусь умалять достоинства русских разведчиков. Хочу с вами согласиться, что в Германии, Франции, Румынии и других европейских государствах наши агенты действуют весьма грамотно и эффективно. Но эффективность нашей военной разведки значительно снижена на Дальнем Востоке. Это объясняется вполне разумной причиной: российская разведка просто не успевает за активным расширением наших территорий в Маньчжурии. А подготовка хороших агентов – дело трудное и кропотливое.
– Возможно, что вы правы, – задумавшись, ответил император. – И какие будут ваши предложения?
– Нужно изменить государственный подход к разведке. Мне довелось закончить Николаевскую военную академию, но военной разведке там нас не обучали, не преподавали даже азы! Разведка среди офицеров считается делом для дворянина недостойным, я бы даже сказал, непотребным… По их мнению, ею могут заниматься только низшие слои дворянства и мещане, сыщики да переодетые жандармы. Такое представление о разведке следовало бы сломить на государственном уровне. Добившись этого, мы сможем привлечь в разведку самые блестящие умы России! Только в таком случае можно улучшить качество добываемых сведений.
– Очень дельное замечание. Попробую изменить ситуацию, хотя сделать это будет крайне непросто. А вот каковы ваши личные наблюдения, Владимир Константинович, что вы думаете о японцах?
– Генеральный штаб явно недооценивает японцев. Они умнее, хитрее, изворотливее и сильнее, чем нам представляется. Армия в Японии непрерывно наращивается. Ее численность держится в строжайшем секрете. По самым скромным подсчетам, в ней не менее полумиллиона человек.
Пальцы государя нервно отбили по поверхности стола короткую дробь.
– Не мало… Но, по данным Куропаткина[3], их армия составляет немногим более трехсот тысяч.
– Японцы специально занижают численность своей живой силы, чтобы наша армия не успела к началу войны подтянуть дополнительные силы, – горячо заверил полковник Самойлов. – Японские контрразведчики весьма преуспели в разного рода дезинформации. Это как раз тот самый случай.
– Что думает японское командование о русской армии?
– Японцы считают, что наша армия и флот будут разбиты даже до того, как дождутся подхода подкреплений. По их мнению, русский флот значительно устарел и слабее японского.
Николай Александрович аккуратно положил руки перед собой на стол.
– Возможно, что немного и устарел, но не до такой же степени… И как же в таком случае, по мнению японцев, будут развиваться боевые действия?
– Через две недели после объявления мобилизации Япония высадит первые четыре дивизии в Корее, близ города Чемульпо. Им ничто не помешает, потому что к тому времени русский флот будет разбит. Еще через две недели будут высажены дополнительно четыре дивизии, а через неделю – еще две. Таким образом, на реке Ялу будет сосредоточено десять японских дивизий, которых с тыла будут прикрывать резервные войска. Для решающего сражения они могут отправить еще больше, но считают, что этого вполне достаточно, чтобы разгромить шесть дивизий русских.
– Вот эти ваши данные достоверные? – с некоторым сомнением спросил государь.
– Они очень надежные, Ваше Императорское Величество, и получены из разных источников, – убежденно заверил Самойлов.
– Ваши предположения очень разнятся с тем, что мне недавно написал генерал Куропаткин. Вот его доклад, – приподнял Николай Александрович тонкую синюю папку, лежавшую от него по правую руку. – На каждой странице он меня убеждает в легкой и быстрой победе над японцами. Генеральный штаб тоже уверен, что японцы не сумеют оказать даже малейшего сопротивления. По словам генерала Куропаткина, как только японская армия будет разгромлена на материке, следует высадить десант на японские острова, взять столицу Японии и водрузить над дворцом императора российский флаг. Как вам такое развитие событий?
Полковник Самойлов отрицательно покачал головой:
– Такой поворот событий просто невозможен, при всем моем уважении к Алексею Николаевичу. Военный министр совсем не знает японцев: ни их обычаев, ни их традиций. Он крайне слабо представляет, что такое воинственность самураев. Информацию об армейских соединениях он получает из недостоверных источников, от людей, которые не владеют японским языком, или от тех, кто завербован японской контрразведкой. А надежных переводчиков с японского не отыскать даже в Токио. Кроме того, на японских островах отсутствует сеть тайной агентуры русской военной разведки.
– Что ж, ваши знания меня впечатлили. Вас охарактеризовали как незаурядного разведчика, каковые встречаются очень редко, теперь я смог убедиться в этом лично. Я передам ваш доклад в Генеральный штаб для самого тщательного изучения. Уверен, что генералы сумеют сделать соответствующие выводы.
Глава 2
29 июня 1904 года
2 часа ночи
Кража Казанской иконы Божией матери
Часы на вратах Казанского Богородицкого монастыря пробили четверть третьего. Ночь задалась глухой и темной. Небо заволокло темно-серой пеленой облаков, через которую слабо пробивалось свечение звезд; едва приметными очертаниями просматривалась полная луна. Послушница Татьяна с бидоном в руках вышла из келий и скорым шагом направилась в жилые помещения игуменьи.
– Ты куда, шальная, несешься? – спросила старица Феодора у послушницы, выплывая из сумрака черной тенью. – Так и расшибиться ведь можно. Ночь на дворе стоит, или не спится?
– Занедужилось матушке-настоятельнице, велела клюквенного морса принести, – робея перед строгой старицей, пролепетала послушница и показала небольшой алюминиевый бидон, что держала в руке.
Хмуро посмотрев на Татьяну, монахиня милостиво разрешила:
– Ну иди, коли велела.
Распрямив и без того несгибаемую спину, Феодора величаво зашагала в ночь.
Старая и худая, с вытянутым лицом, изрезанным длинными глубокими морщинами, старица походила на крепкий корень дерева, что невозможно было ни согнуть, ни поломать. Такое корневище не сгодится даже на растопку, любой огонь заглушит. По ночам Феодора не спала – часто расхаживалась по монастырскому двору, нагоняя своим мрачным обликом страх на молодых послушниц. Нередко, заметив ее черную долговязую фигуру среди монастырских построек, послушницы тайком крестились, чтобы пересилить суеверный страх. Во всем ее облике присутствовало нечто демоническое, не поддававшееся объяснению, заставлявшее думать о потусторонней силе. Побаивались ее даже старцы, умудренные годами, а потому почти не общались с этой монахиней.
Борясь с бессонницей и усмиряя свою мятежную природу, Феодора бо́льшую часть ночи проводила в молитвах и подолгу выстаивала на коленях перед каждой из чудотворных икон. Сестры меж собой шептались, что старица замаливает какой-то стародавний грех, о котором так ни разу и не проговорилась, вот только удавалось ей плохо: по ее тоскующим и запавшим в орбиты глазам было понятно, что память крепко держит давно ушедшее событие.
Послушница Татьяна Кривошеева тоже старалась избегать с ней встреч, зная, что ничего хорошего они не сулят. Воспринимала их, как скверный знак, подтверждавшийся не единожды. Так, например, как-то раз Феодора вошла в швейную мастерскую – ну нее, знатной мастерицы, вдруг оборвалась шелковая нить, чего прежде не случалось. Тканое полотно пошло узелками, а рассерженная игуменья наложила на нее епитимью, и целую неделю Татьяна подметала двор, залезая метлой в самые неприглядные уголки, часто облюбованные мышами.
А однажды, когда помогала на кухне и относила сестрам в трапезную еду, она повстречала в коридоре Феодору, что-то бубнившую себе под нос. И уже через пятнадцать минут опрокинула кастрюлю с пшенной кашей, за что получила порицание от сестер и очередное наказание от настоятельницы. После того случая кроме церковного послушания она получила еще одно – прибирать в церкви после поздней литургии. Далее было послушание кладовщицей при келаре[4]. Только много позже, прознав про ее способности к рисованию, игуменья перевела ее в художественную мастерскую, где, малость подучившись, Татьяна стала писать иконы. Именно из-за любви к иконописи она приняла послушание в Казанском Богородицком девичьем монастыре, известном на всю Россию мастеровитыми богомазами, полагая, что ее божье предназначение – в тишине монастыря расписывать стены и писать божественные образы.
А ведь поначалу все складывалось иначе: большую часть времени Татьяна проводила в общении с сестрами – за столом, за его пределами; и в скотном дворе приходилось нести послушание, и траву косить на монастырских землях, и хлев убирать. Времени не было даже карандаш в руки взять…
Однажды, когда Татьяна уже писала иконы, в мастерскую неслышно вошла настоятельница и с интересом принялась наблюдать за тем, как на доску укладываются точные и верные мазки. Несмотря на юный возраст, Татьяна с ее уверенной манерой писать не производила впечатления ученицы, казалось, что работает опытный иконописец.
– А ты хороша в работе! – неожиданно раздалось за спиной. Повернувшись, Татьяна увидела игуменью, с восторгом наблюдавшую за ее умелыми руками. – Говорили мне, что у тебя божий дар, но я не полагала, что настолько.
– Что же вы, матушка, сразу меня тогда в мастерскую не поставили? – не удержавшись, спросила Татьяна. От обиды красивое лицо послушницы сморщилось моченым яблоком.
Татьяна Кривошеева любила рисовать с детства, и все, кто видел ее рисунки, в один голос утверждали, что у нее художественное дарование и что ее ожидает большое будущее, вот только никто не полагал, что свою жизнь она захочет связать с монастырем. В отроческом возрасте, когда Татьяна оканчивала старшие классы художественной школы, вместо цветов и птиц она вдруг неожиданно для всех принялась рисовать образы святых. Получалось довольно удачно, и сметливая мать стала относить ее работы на рынок, где они пользовались немалым спросом. Трудно было поверить, что небольшие иконки писала тринадцатилетняя девочка. Уже в то время Татьяна точно знала, что свяжет свою жизнь с Богородицким девичьим монастырем, где будет писать образы святых для церквей и соборов. Вот только никогда не полагала, что путь, проложенный заветным помыслом, окажется столь тернистым.
Сейчас, находясь в Богородицком монастыре, имевшем лучшую иконописную школу на тысячу верст вокруг, Татьяна думала, что многие послушания, которые она смиренно переносила, были возложены на нее провидением. И тем самым еще сильнее укрепили ее желание служить Богу, а самое главное – наделили внутренней силой, без которой невозможно создать столь запоминающееся творение, что захотелось бы преклонить колени перед ним.
– Думаю, что ты это и сама знаешь, – с теплотой произнесла игуменья, ласково посмотрев на молодую послушницу – Послушание – это рай в душе, когда ты и молишься, и работаешь, и отдыхаешь, как монастырским уставом заведено, как святители наши православные наказывали. Ты каждое послушание через силу исполняла, а должна была воспринимать его всем сердцем, как если бы оно исходило от самого Бога. Ты должна была пройти немало испытаний, чтобы научиться жить в ладах с собой. А справиться с таким бременем дано не каждому. У тебя это получилось, и теперь ты будешь писать иконы с очищенным сердцем.
Первое послушание Татьяны было церковное, получила она его сразу же после того, как стала носить подрясник: пела молитвы на клиросе и в хоре, а вскоре ее звонкий и сильный голос был отмечен архимандритом, который всерьез принялся настаивать на том, чтобы послушница осталась в хоре до самого пострига. Именно в этом предложении пряталось искушение дьявола, прекрасно знавшего, что это занятие у Татьяны получается лучше, чем у других певчих, и что паства нередко приходила в церковь именно из-за нее, чтобы послушать ее ангельский голос. Только Божий промысел, оказавшийся сильнее всякого соблазна, вывел ее на верную дорогу.
Интересно, какое такое наказание ждет ее в этот раз после встречи с Феодорой? Послушница невольно перекрестилась, глядя, как темный образ монахини, запрятанный в черные покрывала, поглощается беззвездной ночью.
Быстрым шагом Татьяна пошла в сторону жилого строения, где проживала игуменья. Проходя мимо соборного храма, увидела через узкие окна второго этажа робкий красно-желтый свет – то догорали последние свечи. Наверняка в его помещениях припозднилась храмовая уборщица.
Прислонясь к собору и протыкая черноту неба заостренным куполом, стояла белокаменная колокольня. Уже подходя к западному притвору храма, послушница услышала приглушенный крик:
– Караул!
Остановившись, Татьяна попыталась распознать, откуда именно прозвучала мольба. Тишина. Неужели померещилось? Бывает же такое… Послушница последовало дальше, как вдруг вновь прозвучал голос, куда громче прежнего:
– Караул!!!
Может, из колокольни кто зовет? Подбежав к ней, послушница дернула за ручку двери. Заперто!
– Кто здесь? – выкрикнула Татьяна в дверь.
– Это я, дед Федор, – прозвучало глухо из подвала притвора.
– Кто же вас в подвале-то запер, дедушка? – взволнованно произнесла девушка, признав монастырского караульщика Федора Захарова.
– Разбойники, доченька! Кому же еще? – отвечал караульщик. – Грабители! Буди мужиков, пусть сюда идут. Может, они еще и не ушли, святотатцы[5] проклятые! Беги быстрее! Мужики на сеновале спят!
– Я сейчас, дедушка! – выкрикнула послушница и побежала в сторону конюшенного двора.
Не добежав до сеновала, Татьяна повстречала звонаря Никифора, оставшегося при монастыре насельником[6].
– Ты куда бежишь, бедовая! – изумился Никифор.
– Дядя Никифор, сторожа в подвале заперли. Помощи просит! Грабители в монастыре, говорит, беги к мужикам, пусть помогут!
Звонарь переменился в лице:
– Пойдем. На сеновале они. Господи, что же будешь делать-то? Все не так!
Подошли к сеновалу, двухэтажному деревянному строению с высокой островерхой крышей.
– Мужики, поднимайтесь, дед Федор в подвале заперт! На помощь зовет! Чужие в монастыре! – прокричала послушница.
Семь мужиков, ночевавших на сеновале, выскочили оттуда дружной крикливой гурьбой, кто с чем: с лопатой, граблями, дворник вооружился топором.
– Мы им покажем, христопродавцам! – кричал старший конюх, сотрясая ломом.
– Всех порешим! – вторил ему звонарь.
Монастырь переполошился. Из своих келий повыскакивали монахини, робко, опасаясь худшего, выглянули послушницы.
– Показывай давай, откуда он кричал?
– Он у притвора, – подсказала Татьяна, – пойдемте скорее!
Пробежав двор, поднялись на высокое крыльцо паперти. И тут отчетливо из подвала прозвучал надломленный, но все еще крепкий старческий голос:
– Помогите!
– Это ты, Федор? – переспросил Никифор, узнавая голос монастырского караульщика.
– Я. А кто это с тобой? Свои?
– Не дрейфь, старик, свои. Кто тебя запер-то?
– Выпустите меня отсюда!
– Кто же тебя там запер? Рассказывай!
– Сейчас все расскажу.
Дверца подвала была закрыта на задвижку. В глубине помещения горела лучина, обернутая клочком белой тряпки. Через щель в двери просматривалось длинноволосое и бородатое лицо сторожа.
Отодвинули задвижку, тяжело шаркнувшую по сухому твердому дереву, настежь распахнули дверь. Из глубины подвала, подсвеченного коптящей лучиной, выбрался семидесятилетний сторож. На морщинистом унылом лице старика запечатлелось большое горе. Глаза безумные, вытаращенные. Время, проведенное взаперти, показалось ему вечностью.
– Так, что произошло, дед? Рассказывай!
– Меня сюда воры засадили. Четверо их было, – едва ли не всхлипывая, заговорил старик. – Ограбили нас нынче. Надо бы осмотреть церковь как следует. Сосуды священные, иконы чудотворные…
– А сам ты что делал, старик? – в сердцах молвил Никифор.
– А чего с ними сделаешь-то? – плаксиво ответил караульщик Федор. – Как дали мне старому по мордасам, так у меня в голове все помутнело, а после в подвал заперли. До сих пор в глазах одна темень.
Мужики гурьбой подошли к центральному входу храма. Дверь цела, замок в неприкосновенности висел на своем месте. Осмотрели западные двери собора. Тоже заперто.
– Может, ты попутал чего, старый, может, и не грабили храм, – в сомнении произнес старший кучер, и тотчас его взор натолкнулся на замок с вытянутой дужкой, лежавший на крыльце.
– Ограбили, христопродавцы!
Не иначе воры орудовали ломом, в полной уверенности, что их никто не поймает: жилые помещения монастыря располагались в другом здании. Если кто и мог им помешать, так только старый сторож. Убивать караульщика не стали, надавали тумаков, да и заперли в подвале.
Нижний замок на двери оказался целым, срывать его не стали. Между косяком и дверью воткнули широкую доску, сделав большой зазор, что позволяло протиснуться взрослому человеку. Внутренняя дверь храма, закрываемая на чугунную задвижку (замок с нее был сорван и валялся на пороге) после завершения церковной службы, оставалась приоткрытой.
– Что же будет теперь? Что же будет? – причитал старик, покачивая головой. – Как же я матушке игуменье в глаза посмотрю? Какой позор моим сединам, после стольких лет верной службы…
Мужики следом за Никифором протиснулись в храм. За ними несмело вошли монахини с послушницами. Какое-то время никто не решался проходить в глубину помещения, опасаясь горшего, а потом направились к месту, где размещались чудотворные иконы.
Худшие страхи оправдались сполна. Осмотревшись, они обнаружили, что исчезло два чудотворных образа: Казанская икона Божией Матери и икона Спасителя с ризами. Остались лишь осиротевшие ковчеги[7], один из которых, – из-под иконы Спасителя, – был изрядно погнут.
Красноватый свет от лампадок, что держали послушницы, вошедшие в храм следом за мужиками, красными зайчиками падал на близстоящие иконы, боязливо перебегал с одного места на другое. Пугаясь поруганных ковчегов, он лишь слегка скользил по ним и забивался ярким багрянцем в дальние углы храма, после чего вновь суетливо ложился на стены, заставленные многими образами.
Монахини, остерегаясь глянуть на пустые ковчеги и не находя себе места, кружили по храму с охающим и стонущим людом.
– Не уберегли! Как же так можно?! – вопрошал караульщик Федор Захаров, посматривая на вошедших, как если бы рассчитывал отыскать в их лицах поддержку. Не находил. Угрюмые взгляды присутствующих бесчувственно скользили по его тощей скорбящей фигуре. – И ризы, и короны царские на ней. Все пропало!
– Да что там короны! Заступница пропала! Матушку нужно разбудить, – произнес молчавший до того Никифор. – Вот горе-то какое на нас свалилось!
– Не нужно меня будить, – прозвучал за спиной властный голос настоятельницы, заставивший обратить на себя внимание всех присутствующих. – Проворонили? – хмуро оглядела она присутствующих.
Взор игуменьи остановился на стороже Федоре Захарове. Дряхлый старик с осунувшимся морщинистым лицом и сутулой спиной, встретившись глазами с игуменьей, совсем поник. И прежде не отличавшийся прытью, сейчас он едва мог пошевелиться, как если бы взвалил на свои сгорбленные плечи всю тяжесть произошедшего.
Высокая, дородная, начальственная, знающая себе цену настоятельница Маргарита, задрав острый подбородок и разгоняя одним своим взглядом работников и монахинь, которые успели немалым числом набиться в храм, подошла к пустому ковчегу, где прежде находилась Чудотворная Казанская икона Божией Матери, и долго смотрела на него. Послушницы, окружив игуменью, подсвечивали ей светильником поруганное место.
– На этом самом месте когда-то было Явление Чудотворной Казанской иконы. Это дом ее! Здесь она более трехсот лет пребывала. Стыд-то какой на наши головы обрушился! Кто бы мог подумать… Что же мы архиерею скажем? Перед всем православным миром отвечать придется! – Заметив в руках одной из послушниц пасхальный фонарь, зло процедила: – А фонарь-то этот зачем принесла? Уж не к Пасхе ли готовишься? У нас у всех горе большое, а ты тут с пасхальным фонарем шляешься!
Искорка, блеснувшая на полу, привлекла взор настоятельницы. Склонившись, старица подняла с пола крупную жемчужину. Долго ее рассматривала в затянувшейся тишине, а потом произнесла с укором:
– Вот и все, что осталось от Явленной[8] иконы. – Подошла к другому ковчегу – пораненному, побитому, покореженному, откуда прежде на молящихся взирал образ Спасителя, и произнесла: – Осиротели мы… Что же мы теперь без матушки и без батюшки делать-то будем?
– Матушка настоятельница, может, судебного следователя позвать? Хотели сразу к нему пойти, да не осмелились без вашего благословения, – произнесла старица Феодора.
Та, глянув сердито на монахиню, ответила:
– Не нужно… С полицмейстером нужно для начала поговорить, я сама ему сообщу, – и, не сказав более ни слова, покинула собор.
Глава 3
30 июня 1904 год
Отыскать за девять дней
Судебный следователь по важнейшим делам Александр Степанович Шапошников проснулся ни свет ни заря. Не спалось, хоть ты тресни! Наступил последний день перед отпуском, его следовало пережить, а далее он планировал отправиться на отдых в Ялту, куда наведывался каждый летний сезон. В этом году он тем паче не хотел нарушать установившуюся традицию. Благо, что для этого имелись весьма серьезные основания. Главнейшее из них: милая дама тридцати пяти лет, с которой он познакомился два года назад в поезде, когда ехал по служебной надобности по Московско-Казанской железной дороге из Казани в Первопрестольную. Его, как и многие полицейские чины, должен был принять министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве[9] по случаю назначения на должность судебного следователя по важнейшим делам.
Министр внутренних дел прослыл человеком решительным, а потому предполагалось, что в своей речи он будет настаивать на более радикальных мерах по отношению к преступным элементам. На одной из станций Шапошников вышел из поезда, чтобы подышать свежим воздухом, а заодно продумать предстоящий разговор с министром (Плеве любил общаться с судебными следователями из провинции, чтобы знать, о чем думает народ), и уже на перроне разговорился с молодой женщиной с красивым именем Маруся, которая, как выяснилось, ехала в соседнем купе. Даже тогда Александр Степанович не думал ни о чем серьезном – это была обычная, ни к чему не обязывающая беседа, которая скрашивает утомительную дорогу. Так ему и казалось до тех самых пор, пока вдоль железнодорожного полотна не потянулись села Подмосковья с крепкими высокими церквушками. Уже здесь Шапошников понял, что не готов расстаться с понравившейся ему женщиной и хотел бы продолжить знакомство. А если отношения будут складываться благоприятно, и дама останется столь же легкой в общении и нескучной собеседницей, как во время краткого путешествия, то он не прочь даже завести с ней ни к чему не обязывающий роман.
Наконец прибыли в Москву. До следующего поезда в Санкт-Петербург у него оставалось часа четыре, так что времени было вполне достаточно, чтобы проводить даму до дома. Тем более что при ней было два аршинных тяжеленных чемодана. На его предложение помочь женщина с радостью согласилась, что являлось весьма благоприятным знаком. Проводив ее до тетушки, проживавшей в большом доходном доме на Мясницкой, и заполучив заверения милой попутчицы, что они непременно встретятся в Казани, Шапошников вскоре вернулся на вокзал, чтобы продолжить свой путь.
Связь между ними не оборвалась, как оно нередко случается, и Маруся вернулась в Казань уже на следующей неделе. Они прогуливались по Русской Швейцарии[10], захаживали в рестораны и просто наслаждались обществом друг друга. Ни в тот раз, ни еще долго потом Александр Степанович не мог представить, что из кратковременного романа выйдет нечто более серьезное. Вот так оно бывает…
Неделю назад Маруся отбыла в Ялту, где он до середины августа снял для них на берегу моря небольшой, но очень уютный домик, утопавший в окружении сирени, словно в плену. Предстоящая поездка волновала, заставляла думать о приятном. Ничего, последний рабочий день он как-то сумеет перетерпеть, а дальше последуют одни лишь приятности: общество красивой женщины и коктейль из солнца, моря и красного вина.
Поднявшись, Александр Шапошников сделал атлетическую гимнастику, – следует держать свое тело в хорошем тонусе, – и сел завтракать. Как обычно, безо всяких излишеств: чашка кофе и небольшой бутерброд с сыром. Неожиданно во входную дверь деликатно постучали.
– Настя, открой дверь. Опять тебя где-то носит! Ведь дверь же вынесут! – раздраженно крикнул судебный следователь.
– Сейчас, барин, – недовольно произнесла пятидесятилетняя служанка. – Я же не молоденькая. Потерпят, ежели нужно. Не козой же мне скакать по квартире, ничего с ними не случится.
Открыв дверь, служанка увидела на пороге околоточного надзирателя, выглядевшего крайне смущенно.
– Мне бы с судебным следователем Шапошниковым повидаться. Очень важно, дело не терпит ожидания.
– Барин, к вам полиция пришла. Спрашивают.
Отхлебнув кофе, Александр Степанович поднялся и подошел к порогу.
– Разрешите представиться, ваше высокоблагородие, околоточный надзиратель Михаил Нуждин.
– С чем пожаловали, любезнейший? – удивленно спросил Шапошников, предчувствуя, что случилось нечто особенное, способное перевернуть намеченные планы.
– Меня к вам полицмейстер отправил, сказал, что вы непременно должны подъехать к нему. – И, видно, усмотрев на лице судебного следователя некоторое неудовольствие, продолжил с толикой официоза в голосе: – Господин полицмейстер так и сказал: «Безо всякого промедления!»
Осознав, что завтрак придется прервать и что последний день службы предстоит провести не в своем кабинете с безотлагательными бумагами, а за очередным судебным расследованием, он лишь в сердцах крякнул.
– Сейчас буду, только надену мундир. – И уже в досаде, не скрывая прорывающегося раздражения, добавил: – Не в домашнем же мне являться к полицмейстеру! – Заметив топтавшуюся рядом служанку, припечатал: – Сколько раз тебе говорил, не клади мне в кофе сахар! А ты опять за свое!
– Барин, да как же пить без сахара такую горечь? – Анастасия удивленно вытаращила глаза на Александра Степановича. – Мне вас жалко, вот я и кладу.
– Как-нибудь без тебя разберусь! Вот возьму и рассчитаю тебя! Поедешь к себе в свой Верхний Услон коров пасти!
– Не рассчитаете, барин, – уверенно заявила служанка. – Кто же вам тогда фрак будет чистить? – Вы прямо как ребенок малый. Что ни трапеза, так весь мундир в гороховом супе. А то и каша какая-нибудь налипнет. Глядишь на вашу одежду и думаешь, что воробьи на воротник нагадили… Где вы еще такую простофилю, как я, найдете, чтобы ваш мундир от горохового супа отскребала? Оно ж ведь как клей!
– Ну что ты за баба такая, Настя? – беспомощно взмахнул руками Шапошников. – Я ей одно слово говорю, а она мне десять в ответ! И все норовит что-то неприятное сказать!
– И скажу, барин, – не на шутку распалилась служанка. – Жениться вам надобно, а то все холостякуете. Глядишь, может быть, и повзрослели бы. Вон девок сколько хороших без мужика маются! Работящих, красивых, все замуж хотят! А вы прицепились к этой мамзельке своей и видеть никого не желаете. А у нее только курорты да рестораны на уме.
Колыхнув полновесной грудью, служанка отправилась в соседнюю комнату. Уже у двери произнесла:
– А если вы, барин, как телок малый, так я могу вас со своей племянницей свести. Она у меня девка видная, и лицом, и статью удалась. Вы только скажите.
Скрывшись в соседней комнате, служанка плотно закрыла за собой дверь.
– Ну ты посмотри на нее! – с укором произнес судебный следователь, глянув на околоточного надзирателя, неловко переминавшегося с ноги на ногу. – Выгнал бы эту бабу к чертям, да уж больно хороший борщ готовит! Солянку еще… А какие у нее получаются расстегаи! Ни в одной ресторации Европы таких не сыщешь!
– Я вас понимаю, ваше высокоблагородие, – охотно поддержал Нуждин. – Иногда думаешь, а нахрена мне нужна вся эта морока с бабами? Лучше бобылем жить. А потом от души как-то отойдет, полегчает малость, и думаешь… А вроде бы оно и ничего.
Облачившись в мундир, Александр Шапошников вышел на улицу, где его уже ждал легкий фаэтон. Кучер был широкоплечим приземистым татарином в штанах с широким шагом и в рубахе, сшитой из цветного ситца, на бритой голове – тюбетейка из четырех клиньев.
Кивнув ему, как доброму знакомому, судебный следователь устроился на кожаном сиденье фаэтона рядом с околоточным надзирателем.
– Куда ехать, вашбродь? – повернулся извозчик.
– Вези к дому полицмейстера, – ответил околоточный надзиратель.
– Мигом, вашбродь!
Казанским полицмейстером был Павел Борисович Панфилов, сорока пяти лет отроду, занимавший эту должность с 1889 года. На полицейскую стезю он вышел не сразу. Поначалу была военная служба. Участвовал в русско-турецкой войне, в память о которой получил медаль и «Румынский Железный крест» за переход через Дунай. А после окончания военной кампании он перешел на действительную государственную службу в полицейское ведомство. Его карьера развивалась стремительно: уже через несколько лет он занял высокую и ответственную должность Уфимского полицмейстера, на которой прослужил шесть лет, добившись значительных успехов по искоренению конокрадства и поимке беглых каторжан. Проведя в Уфе три года, Павел Борисович перевелся в Казань, где взвалил на свои плечи весьма беспокойное хозяйство. В этой должности он дослужился до чина коллежского советника, получив целый ряд высоких наград, среди которых были орден Святого Владимира четвертой степени и орден Святой Анны второй степени. Женат, имел сына и дочь. Его супруга, миловидная женщина лет сорока, просто не чаяла в нем души. Проживал Павел Борисович на казенной квартире по улице Воскресенской, считавшейся лучшей в городе, и имел содержание в две тысячи семьсот рублей в год, что весьма недурно.
Квартира полицмейстера размещалась в доходном доме на втором этаже между городским пассажем и чередой отелей, в которых любили останавливаться состоятельные знаменитости.
Воскресенская улица, располагавшаяся в самом центре города, была излюбленным местом прогулки у казанцев. В многочисленных магазинах имелось все: модные аксессуары, дорогая одежда, английская обувь, – как для шикарного отдыха, так и для длительного путешествия. В ресторациях можно было отлично провести время и вкусно пообедать, продегустировать французские и итальянские вина, а в лучших парикмахерских, что находились по соседству, можно было модно постричься.
Фаэтон остановился у приметного двухэтажного здания с вывеской на фасаде «Художественная фотография», именно здесь на втором этаже проживал полицмейстер. Судебный следователь по важнейшим делам Шапошников почувствовал некоторое волнение. С Павлом Борисовичем он был знаком без малого десять лет, но встречались они исключительно по службе, большей частью в казенных кабинетах. И вот впервые он был приглашен в квартиру полицмейстера, а, следовательно, предстоящее дело выглядело настолько серьезно, что требовало безотлагательного решения.
Околоточный надзиратель, видно, почувствовав состояние Шапошникова, посоветовал по-отечески:
– Вы уж там пободрее. Павел Борисович понимание имеет.
– Хорошо, любезнейший, учту ваше пожелание, – вяло улыбнулся судебный следователь.
Поднявшись на второй этаж по мраморной лестнице с чугунными перилами, Шапошников дернул за шнурок колокольчика. На мелодичный звон дверь открыли незамедлительно, и в проеме появилось хорошенькое девичье личико.
– Вам кого, барин?
– Мне бы Павла Борисовича. Я судебный следователь по важнейшим делам Шапошников.
– Проходите… Павел Борисович уже вас ждет, – пригласила служанка в белом переднике и такого же цвета чепчике. Мила. Вежлива. Скромна. Наверняка обладает еще десятком добродетелей. Иначе в таком доме ей не удержаться.
– Благодарю вас, – шагнул в распахнутую дверь судебный следователь.
Пошел четвертый год, как Александр Степанович состоял в должности судебного следователя по важнейшим делам. И был назначен на столь высокую должность Высочайшей властью по представлению министра юстиции. Прежде он служил при охранном суде и проводил предварительные следствия в пределах своего участка. Сейчас у него было право действовать в пределах всего судебного округа, а это означало, что его могли направить (кроме собственно Казанской) в Симбирскую, Вятскую, Пермскую и Уфимскую губернии.
Навстречу Александру Шапошникову вышел сам полицмейстер в кафтане из темно-серого сукна. Именно таким судебный следователь видел его на службе. В летнюю пору допускалось носить двубортные кители с плечевыми знаками, однако в силу причин, известных лишь ему самому, полицмейстер пренебрегал этой формой одежды. Александр Степанович обратил внимание, что на вешалке висела фуражка полицмейстера из темно-зеленого сукна с оранжевыми выпушками по краям околышка.
– Вы знаете, зачем я вас вызвал?
– Не имею ни малейшего представления, господин полицмейстер.
– Да, конечно… Давайте пройдем в гостиную. Не топтаться же нам у порога.
Мужчины прошли в просторную гостиную, заставленную итальянской мебелью. В углу стоял секретер с откидным столом старинной работы, вероятно, хранивший немало секретов своих прежних хозяев. В такой мебели обычно множество тайных отсеков, щелей, где можно запрятать секретные послания, а то и дорогие украшения. Помнится, в деле, что он вел два года назад, фигурировал примерно такой же старинный секретер, в недрах которого обнаружилась предсмертная записка, составленная сто двадцать лет тому назад.
Уже никому не было дела до человека, решившего свести счеты с жизнью, как не было и людей, толкнувших его на такое безрассудство, а вот боль, запечатанная в клочке бумаги, благодаря секретеру сумела пережить столетие.
Шапошников подумал о том, что старинный секретер оказался в гостиной полицмейстера далеко не случайно. Как профессиональный следователь, полицмейстер любил всякие ребусы и не мог не знать о тайнах старинной мебели, представлявшей собой изящество из сложной комбинации полированных досок.
Они сели за овальный стол с толстой столешницей. Широкие спинки венских стульев удобно облегали спину.
– Начну сразу с дела… Ограблен Богородицкий монастырь… Из него вынесли две самые главные чудотворные святыни: образ Спасителя и Казанскую икону Божией Матери.
– Как?! Ту самую? – на лице Шапошникова отобразилась изумление, и полицмейстер поспешил заверить:
– Да, именно та самая икона, что была найдена Матроной в 1579 году. Вместе с иконой воры украли и корону Екатерины Великой. Там только одних бриллиантов и алмазов более пятисот камней, да жемчугов более тысячи штук! Про ризы я уж и не говорю… По этому поводу ко мне уже приходили игуменья монастыря и архимандрит Казанского Спасо-Преображенского монастыря. Они с меня взяли слово, что розыском похищенных икон займутся лучшие следователи. Мой выбор пал на вас. Вы не возражаете, Александр Степанович? – полицмейстер цепко посмотрел на судебного следователя.
– Сочту за честь, господин полицмейстер, – приподнявшись, произнес Александр Шапошников.
– Вот и прекрасно. Садитесь… Вам будут даны самые высокие полномочия. Можете уже сейчас создавать следственную группу. У вас есть кто-нибудь на примете?
Павел Борисович в общении прослыл человеком в высшей степени деликатным, даже мягким, что никак не влияло на его деловые качества. Спрашивал строго, невзирая на чины.
– Для начала возьму помощника пристава Плетнева. Ну и пусть Нуждин будет, а там посмотрим. Не сомневайтесь, сделаю все возможное дня раскрытия преступления.
– Сразу хочу предупредить, что работать будет непросто, а спрашивать с нас будут сурово. Безо всяких скидок… Кража Чудотворной иконы Божией Матери и образа Спасителя произошла в самое неблагоприятное для нас время – в ежегодные многодневные церковные тождества. Как вы знаете, в это время со всех окрестных церквей, монастырей и соборов в Казань несут крестным ходом высокочтимые святыни. А вскоре пройдет празднование Явления самой иконы Божией Матери.
– Да, через девять дней.
– Именно так… А что такое праздник иконы Богородицы? К нам прибудут многие тысячи паломников не только из Казанской губернии, а даже из самых отдаленных уголков Российской империи, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на нее… А иконы не будет. Да-с… Недовольство верующих может вылиться в самый настоящий бунт! И не только в Казани, по всей России может крепко громыхнуть! За эти девять дней мы с вами должны не только отыскать икону, но и вернуть ее на прежнее место, чтобы не вгонять в скорбь сотни тысяч верующих. Вам понятна поставленная задача?
– Так точно, господин полицмейстер! – с готовностью отозвался судебный следователь.
– Тогда незамедлительно приступайте! – Глянув в сторону громоздких напольных часов, стоявших в углу комнаты, добавил: – А мне через полчаса предстоит встреча с губернатором. Тоже по этому вопросу… Разговор обещает быть сложным. Петр Алексеевич – человек непростой, но думаю, что с плеча рубить не станет. – Неодобрительно покачав головой, добавил: – Его только что членом Государственного совета выбрали – и тут такое! Государь наш, Николай Александрович, хоть и незлобив, но такое происшествие вряд ли забудет.
Глава 4
Главный свидетель
Еще через сорок минут судебный следователь Шапошников в сопровождении помощника пристава Плетнева и околоточного надзирателя Нуждина прибыл на место преступления. В Богородицком женском монастыре царило полнейшее уныние, как если бы старицы переживали огромное личное горе. Возможно, что так оно и было в действительности.
Настоятельница Маргарита, хмуро встретившая следственную группу у входа, скупо произнесла, указав на худую и высокую девушку лет двадцати:
– Послушница вас по двору проведет и все покажет. Зовут ее Татьяна. Она первой и нашла сторожа, запертого в подвале. А у меня дела… Хозяйство большое, за всем присмотр должен быть. Вот, старший конюх с тоски опять запил! А ведь говорила ему окаянному, чтоб воздержался! Так нет же, не понимает доброго отношения. Другого искать нужно. И доски под иконы искать, договариваться с кем-то нужно, чтобы подходящий материал подобрал, ведь не каждое дерево подойдет. Если что надобно будет, дайте мне знать, – и, приподняв посох, плавной походкой направилась в сторону мастерских.
– Ну что ж, показывайте, что у вас тут произошло, – посмотрев на послушницу, попросил Шапошников. – Ну а вы, братцы, – обратился он к Плетневу и Нуждину, – осмотрите пока двор, может что-то важное отыщется.
– Сделаем, ваше высокоблагородие, – охотно отозвался помощник пристава.
В соборном храме судебный следователь осмотрел учиненное разорение, удрученно покачал головой, осознавая масштабы, а потом поинтересовался у послушницы:
– Надо полагать, что иконы были украдены из-за богато украшенных риз? Сомнительно, что воры будут красть иконы ради икон… Их весь православный мир знает, где же их продашь?
– Очень хочется вериться в это, – смиренно отвечала послушница. – Бриллиантов и изумрудов на ризах много, золотыми ожерельями украшены, жемчугом обсыпаны.
– Можете сказать, какова стоимость украденных риз?
– Матушка сказала, что их стоимость до ста тысяч рублей.
– Немалая сумма, – едва ли не ахнул Шапошников. – А кроме этих двух чудотворных икон с ризами и короной Екатерины Великой ничего более не пропало? Посмотрите повнимательней.
– Как-то других пропаж и не обнаружили. Видно, не до того нам было… Как же так можно, иконы украсть!
– Разделяю ваше возмущение. А что в тех двух шкафах находится? – указал судебный следователь на два огромных шкафа у стены.
– В них свечи лежат, а еще выручка от их продажи.
– Они у вас всегда приоткрыты?
– Господи, и деньги тоже украли?! – всплеснула руками послушница, открыв дверцы.
– Давайте осмотрим их. – Шапошников подошел к громоздким шкафам. – Замки сломаны. Грубовато сработано, наверняка ломом поддели. – Два верхних ящика оказались выдвинуты. – Что находилось в этих ящиках? – спросил Александр Степанович.
– Деньги лежали, – рассеяно отвечала Татьяна.
– Больше ничего?
– Нет.
– И сколько денег было?
– Триста шестьдесят пять рублей.
– Вы уверены? Откуда такая точность?
– У меня есть еще одно послушание – помогать свечнице в храме, я за эти шкафы отвечаю. В этот раз я не успела деньги в церковные книги записать, думала, что утром сделаю, а оно вон как обернулось.
После осмотра монастырского двора вернулись помощник пристава Прохор Плетнев и околоточный надзиратель Михаил Нуждин.
– Господин судебный следователь, мы выяснили, как святотатцы проникли в монастырь, – объявил Плетнев.
– И как же? – посмотрел на помощника Шапошников.
– Через кирпичный забор со стороны сада купца Попрядухина. Вам лучше посмотреть.
– Пойдемте, глянем. Вы нам очень помогли, – посмотрел Шапошников на послушницу. – Можете заниматься своими делам. Дальше мы уже без вас справимся.
– Как скажете, батюшка, – смиренно отозвалась Татьяна и направилась к собору.
Втроем вышли за монастырскую стену и направились в тенистый кленовый сад, разбитый на аккуратные участки песчаными дорожками, по краям которых стояли небольшие деревянные лавочки. Прошли вдоль монастырской каменной ограды, заросшей колючими кустами акации и шиповника. Остановились подле короткой лестницы, смонтированной из крышки стола, к которой приколотили две длинные перекладины.
– Вот здесь они перелезали, ваше высокоблагородие, – заговорил околоточный надзиратель. – Гляньте наверх… Они там даже кирпичи разобрали, чтобы перебираться сподручнее было. А вон и обломок кирпича валяется, – показал он рукой в корневище высоко разросшегося шиповника, откуда красным сколом выпирала половинка кирпича.
– А что в этом месте со стороны монастырского двора находится? – поинтересовался Шапошников.
– С той стороны в это место деревянный забор упирается, – подсказал помощник пристава Плетнев. – Забор невысокий, отделяет монастырский сад от заднего двора.
– Понятно. Значит, они оторвали от стола крышку, – он перевел взгляд на торчавшие из земли короткие деревянные столбики, к которым, очевидно, когда-то прилагалась столешница, – закрепили на ней вот эти жерди, получилось что-то вроде лестницы, а потом приставили ее к кирпичному забору. Когда они влезли на лестницу, то им стало понятно, что перелезть через забор не получится, и поэтому грабители на самом верху разобрали еще два ряда кирпичей и перелезли на ту сторону прямо в монастырский сад. Преступники должны были оставить какие-то следы… Давайте посмотрим тут повнимательнее. Надо понять, какой дорогой они возвращались.
Сыщики разбрелись в разные стороны, стараясь не пропускать ни пяди истоптанной земли. Осматривали поднявшуюся траву, выпиравшие из земли корневища, густые акации, даже поломанные ветки, что торчали всюду неприглядно, словно культи инвалида.
Первому удача улыбнулась помощнику пристава Плетневу.
– Кажись, отыскал, ваше высокоблагородие, – распрямился он в немалый рост. – Брелок это. Гляньте туда.
Подошедший Шапошников в изрядно примятой траве увидел металлический брелок очень тонкой работы.
– А ты глазастый, как я посмотрю, – похвалил помощника Александр Степанович, поднимая с земли сверкнувший брелок. – Нужно матушке игуменье показать, должна знать, где он висел.
– Ваше высокоблагородие, тут еще кое-что отыскалось, – проговорил околоточный надзиратель, указав на небольшой куст акации, атакованный темно-желтым мхом. – Тряпицы на кустах висят.
На длинных ветках акации, ощетинившейся колючками во все стороны, висели два желтых лоскута от шелковой ленты.
– Похоже, что с иконы, – проговорил судебный следователь. – Получается, что после ограбления храма они этой же дорогой и возвращались… А это что такое? – усмотрел Александр Степанович белую бусинку. Поднял ее, повертел в руках. – Жемчужина. Довольно крупная… Не иначе как на ризу была пришита. Да тут еще есть, – заприметил он в кустах несколько жемчужных горошин. – Перелезали через забор, вот и просыпали. – Вытащив из кармана небольшой конверт, Шапошников аккуратно уложил в него брелок; достав еще два, поместил в них обрывки тканей и с десяток жемчужных горошин. Крупные, округлые, с небольшими щербинками, что придавали им еще большую ценность, перлы некогда были извлечены из раковин близ греческого Константинополя. Таких более нигде не сыщешь. – Нужно показать монахиням. Пусть скажут, с какого оклада изъяты.
Вернулись в монастырь, где царила скорбь. Вопреки обычным дням, нынешний был особенно тих. В первом часу пополудни в оскверненную обитель пришел архиепископ Казанский и Свияжский Димитрий[11]. Едва поздоровавшись с настоятельницей Маргаритой, он попросил его более не беспокоить и прошел в осиротелый храм, где в одиночестве молился два часа кряду. Монахини, не смевшие нарушать одиночества владыки, нерешительно топтались в притворе, но, услышав глухие рыдания шестидесятипятилетнего старца, поспешили уйти прочь.
– Что-нибудь узнали? – подошла к судебному следователю игуменья Маргарита. – Кто же совершил неслыханное святотатство? Сейчас у православных праздные дни, со всей России верующие в Казань идут. Вот только у всех у нас тоска на душе. По всей губернии уже печальная новость разошлась, через день-другой вся православная Русь скорбеть станет. Не обиделась бы на нас Матерь Божия, – перекрестилась настоятельница обители.
– Кое-что мы отыскали. Жемчужины, обрывки лент. Думаем, что это с Казанской иконы Божией Матери слетело или с образа Спасителя. Можете взглянуть? – Шапошников вытряхнул из конверта на ладонь несколько перламутровых горошинок.
Не по-старчески свежее лицо слегка просветлело от надежды:
– Это с оклада Казанской иконы Божией Матери. Узнаю каждую жемчужинку. Но все-таки лучше обратиться к монахине Варваре, она у нас заведует золотошвейной монастыря. Знает ризу каждой иконы, многие жемчужинки сама прилаживала. Пойдемте, я вас сопровожу.
Они прошли мимо пруда, в котором, горделиво распрямив шеи, плавали три лебедя – два белых и один черный, мимо двух бревенчатых изб, где размещались трапезная с хлебной и квасной, и вошли в третью, где были ткацкая и рукодельные мастерские.
За ткацкими станками сидели послушницы и монахини, не поднимая голов от красочных полотнищ, и ткали покрывала. У одного из станков, что-то подсказывая послушнице, стояла гибкая высокая инокиня лет сорока пяти с приятным лицом и большими доверчивыми глазами.
– Варвара, подойди сюда! – позвала игуменья наставницу.
Монахиня немедленно подчинилась.
– Слушаю, матушка.
– Вот сейчас господин судебный следователь тебе покажет предметы, найденные у монастырской изгороди, а ты скажи, где ты их видела.
– Извольте глянуть, – разжал Александр Степанович пальцы. – Встречали ли вы такие вещи?
Глянув на раскрытую ладонь, монахиня немедленно ответила:
– Как же не встречать? Эти три большие жемчужинки были закреплены на ризе Чудотворной иконы Богоматери. Эти четыре – на окладе над ее головой, вот эти три маленькие – на одеянии младенца Христа.
Ссыпав жемчужины обратно в конверт, Шапошников открыл следующий:
– А вот эти вещи откуда будут?
– Вот этот кусочек от шелковой ленты, к которой крест золотой был привязан, а висел он на образе Спаса. Украшен он был ярко-красными рубинами.
– Вы не могли ошибиться?
– Да как же можно, барин? – едва не обиделась Варвара. – Сколько же раз я перед этой иконой на коленях простояла. Сколько раз ризы перешивала. Каждая из них у меня и сейчас перед глазами.
– Что ж, вы нам очень помогли. – Глянув, как инокиня тактично отступила в сторону, поинтересовался у настоятельницы. – А со сторожем можно поговорить?
– Можно. Сейчас он у себя, – величаво проговорила игуменья. – Следуйте за мной.
Они прошли к сторожке, притулившейся правым боком к каменному строению. Хлипкая дверь оставалась открытой. Через проем был виден худой старик с помутненным взглядом. Он казался таким же старым, как и иконы, которые он охранял до последнего времени.
Углядев игуменью с сопровождающими, что направлялись в сторожку, почтительно поднялся. Прошаркал два шага до порога и остановился. В старческих потемневших глазах – легкая тревога.
– Федор, тут к тебе господа из полиции пожаловали. Допросить тебя хотят. Отвечай им прямо, как есть, – строго напутствовала игуменья. – А то я тебя знаю, плут старый!
– Матушка, да как же можно? – обиделся старик. – Расскажу все, как на духу.
– Меня зовут Шапошников Александр Степанович, я судебный следователь по важнейшим делам. Расскажите поподробнее, что произошло ночью двадцать девятого июня и как вы оказались заперты в подвале?
– Разрешите присесть, ваше высокоблагородие, нынче все на ногах да на ногах… Глаз не сомкнул. Мне бы прилечь да поспать час-другой, а не могу! Сон не берет… Будто в наказание. Не уберег Чудотворную, видно, гореть мне в геенне огненной.
– Присаживайтесь, – разрешил судебный следователь, указав на один из двух табуретов, что были в сторожке. Старик, кряхтя, опустился. Сам Шапошников разместился на втором. Теперь ему было видно, насколько стар этот человек. Ветхая, пожелтевшая от времени кожа была в сплошных морщинах. Дряхлый старик, доживавший свои последние дни.
– Видно, с этим позором мне и в могилу ложиться. Где-то около часу ночи с монастырского двора я к себе в сторожку пошел…
– А у вас имеется какое-то оружие? – полюбопытствовал Шапошников.
– Какое там! – отмахнулся старик. – Палка и доска! Вот и все мое оружие. Обычно я палкой по доске постукиваю, чтобы воров переполошить. Только разве это поможет? Взял я палку и доску для верности и пошел монастырский двор осматривать… А тут, когда уже к колокольне подходил, какой-то подозрительный шум услышал. Даже и не шум, а какое-то неясное царапанье. Прислушался я малость и понял, что оно идет от двери на западной паперти собора. Странным мне все это показалось. Ну я и пошел туда. Смотрю и вижу: на паперти четыре человека стоят. Я поначалу решил, что может быть кто-то из наших рабочих. А потом думаю: а чего же им в час ночи-то у храма толкаться? Ну я и крикнул эдак построже: «Кто вы такие? Чего вам здесь нужно?» Тут один из них сбежал с паперти – и прямо ко мне, а другие так внимательно глянули на меня, потом один револьвер вытащил, а другой нож – и тоже на меня пошли. Подумалось тогда, хана мне пришла! Турки не сумели убить, только поранили, а вот эти точно убьют! Пора мне к моей покойной Агате. Три года, как жену похоронил… Жалко дочку оставлять, ну да что тут поделаешь. Как-то не складывается у нее больно. Первый муж, от которого она дите народила, помер. Царствие ему небесное… Хороший человек был. А второй пьет беспробудно… Тоже, думаю, помрет скоро от горькой.
– И что там дальше произошло? – поторопил Шапошников.
– Тот, что был с ножом, закрыл мне рот, а второй, с револьвером, направил его мне в грудь, и сказал: «Если пикнешь, застрелю!»
Старик тяжко вздохнул, потом умолк. Продолжать разговор ему не хотелось. Так и ушел бы с этого места, не будь рядом приставучего судебного следователя.
Александр Степанович представлял собой воплощение понимания и кротости. Смотрел ласково, понимающе кивал и ждал от старика интересного повествования. Расстраивать столь любезного человека Федору было неловко, вот только очень не хотелось вновь припоминать пережитое. Но судебный следователь был настойчив и дружески поинтересовался:
– Что же вы замолчали, любезнейший? Продолжайте, я вас очень внимательно слушаю. Уж очень интересно узнать, чем же вся эта катавасия закончилось.
Невесело вздохнув, Захаров продолжил:
– А чего тут продолжать? Принялись они мне руки выкручивать. Ну, тут палка с доской у меня из ладоней выпали. Потом подтащили меня к подвалу, столкнули вниз и дверцу закрыли. Еще прижали ее чем-то тяжелым. Я было попробовал дверцу приподнять, а она ни в какую не поддается! Я ведь ее сам мастерил, доски толстые, из дуба, только немного смог приподнять. И тогда тот худой, с ножом, в щель лезвие просунул и пригрозил: «Будешь орать, убью! И мощей твоих старых не пожалею».
– Так и сказал? – удивленно протянул следователь.
– Так и сказал, – убежденно отвечал Захаров. И насупившись добавил: – Мне перекреститься, ваше высокоблагородие?
– Не нужно, – смилостивился судебный следователь, – и так верю. Как выглядели святотатцы? Лица их запомнили? Может, приметы какие-то вспомните?
– Не вспомню я, кромешность вокруг была, – пожаловался старик. – А потом, страху они на меня нагнали, как-то не до того было.
– Продолжайте, голубчик.
– Подождал я малость. Нужно было что-то делать. Кто его знает, что они там замыслили… Тогда я пошел к другому отверстию, оно из подвала прямо на лестницу паперти выходит, и крикнул: «Караул!» Может, кто-то услышит. А мне опять нож показали. Сказали, что больше терпеть не станут, а если пикну еще раз, так шкуру мою старую продырявят. Ну я и умолк… Не знаю, сколько просидел там, но времени много прошло. Выглянул снова и увидел человека, шедшего к игуменскому жилью. Присмотрелся малость, думаю, неужто они? А когда человек поближе подошел, то я послушницу Татьяну признал. Ну тут я отважился, кричать принялся, вот она и подошла… А дальше вы уже знаете. И что мне теперь делать, ваше высокоблагородие?
Судебный следователь Александр Шапошников мгновенно посуровел, превратившись из располагающего добряка в стража закона.
– Молиться, любезнейший, чтобы все, что вы здесь сейчас мне рассказали, оказалось правдой. Я – не те милосердные грабители, что вас заперли, – губы Шапошникова скривились в ухмылке. – Если дадите повод усомниться, так не посмотрю на ваши старые мощи. Вмиг на сахалинскую каторгу отправлю! – Громко шаркнув табуретом, следователь поднялся. – Пойдемте, господа, опросим других свидетелей. Должен же был хоть кто-то видеть этих преступников.
Глава 5
21 октября 2000 года
Место для храма
До отъезда в Ватикан оставалось пять дней. Совсем немного, но вместе с тем достаточно, чтобы еще раз пройтись по всем намеченным ранее пунктам и осмыслить: все ли сделали так, как нужно? Может, что-то упустили? Тогда следует немедленно исправить оплошность.
Совещание группы из пяти человек (именно столько по протоколу Святого Престола допускается на аудиенцию к Папе Римскому Иоанну Павлу II), которые отправятся в Ватикан, решили провести вечером. По обыкновению собрались в кабинете мэра.
Окна были завешены тяжелыми темно-зелеными портьерами, через которые едва просматривался свет уличных фонарей. На противоположной стороне – крупномасштабная карта Казани, задрапированная синей тканью.
– В Ватикан мы подъедем немного пораньше, чтобы узнать, что же понтифик думает о передаче Казанской иконы Божией Матери в Казань. Нас обещают встретить, и еще у нас будет возможность переговорить с человеком, который имеет связи в Ватикане. Когда-то он издал книгу Иоанна Павла II. Но следует быть готовыми к любому раскладу. А теперь давайте все вместе подумаем, может быть, мы чего-то недоучли? – заговорил Камиль Шамильевич, глядя на присутствующих. – Начнем с подарков, это очень важный элемент при всякой официальной встрече. Наша задача – представить Казань самым благоприятным образом. О себе мы должны оставить хорошую память, поэтому в подарок нужно привезти нечто запоминающееся. Людмила Николаевна[12], вы учли мои рекомендации? С подарками все в порядке?
– Да, Камиль Шамильевич, – энергично отозвалась Андреева. – Это татарский халат, тюбетейка, еще Коран, переведенный на татарский язык, презентационная книга об истории Казани… На мой взгляд, это особенно ценный подарок. Книга очень дорогая, большого формата, с огромным количеством фотографий. Напечатано лишь сто экземпляров для самых важных персон. Наши национальные сладости… Уже договорилась с кулинарией, мастера обещали сделать чак-чак[13] по какому-то особому рецепту. Еще будут татарские конфеты талкыш калеве[14], пахвала…
– Мне, кажется, это перебор. Не можем же мы привести в Ватикан всю татарскую кухню! Достаточно будет чак-чака и талкыш калеве. Вот когда понтифик приедет к нам… Там мы уже покажем наше татарстанское гостеприимство. Но самый главный подарок не это… А католический собор! Построим его в ближайшее время. Я тут немного просмотрел литературу и хочу сказать, что первые католики в Казани появились еще в восемнадцатом веке. Прибывали они отовсюду, но чаще всего – из Германии и Прибалтики. В 1858 году построили католический храм, причем, по данным переписи населения немногим более ста лет назад, католиков в Казани было свыше двух тысяч. Некоторые из них работали преподавателями в Казанском Императорском университете. Католический храм закрыли в 1927 году, а приход распустили. Так что мы в какой-то степени восстанавливаем историческую справедливость. Можно было бы отдать католикам старый храм, но есть сложность… Здание церкви было передано КАИ под лабораторию. А в его центральной части установили аэродинамическую трубу. И если ее извлечь из здания, то стены растрескаются и сама труба будет уничтожена, поэтому такой вариант для нас не выход. Об этом твердят и руководство университета, и архитекторы. Верное решение – это подыскать для строительства католического храма новое место. Людмила Николаевна, в прошлую нашу встречу я вас озадачил поиском свободной территории для католического храма, вы присмотрели что-нибудь подходящее?
– Да. Выбрала два места. Одно их них в Дербышках[15], другое в поселке Борисково[16].
– Дербышки и Борисково нам не подходят, слишком далеко. Верующим сложно будет добираться и так же непросто выезжать оттуда. Католический храм раньше ведь был в центре города, давайте предоставим католикам такое же удобное место. У меня на примете есть одно свободное и очень благоприятное место на пересечении улиц Островского и Айдинова. Самый центр, а если храм спроектирует талантливый архитектор, то он украсит наш город. Нужно срочно заняться оформлением земельного участка. Землей, кажется, у нас Ринат Хасанов занимается?
– Да, он.
Исхаков поднял трубку телефона и быстро набрал номер.
– Ринат, давай, зайди ко мне на минутку.
Вскоре в кабинет вошел худощавый молодой человек в темном строгом костюме, с круглыми линзами в темно-серой роговой оправе на тонком аккуратном носу. Внешне он больше напоминал аспиранта-физика, нежели городского чиновника. Внимательные умные глаза смотрели прямо и изучающе.
– Ринат, ты ведь у нас землей занимаешься…
– Да, Камиль Шамильевич.
– Мы тут подобрали подходящий участок для строительства католического храма. Это рядом с Кабаном[17], на пересечении Островского и Айдинова. Нужно его оформить под католический храм. И сделать это следует быстро, до моего отъезда в Ватикан.
– Камиль Шамильевич, я бы хотел напомнить, что эта земля держится под строительство жилого дома.
– Жилой дом – это, конечно, хорошо. Но для него мы подыщем другое место. Не хуже и тоже в центре! Ты ведь исторический факультет заканчивал?
– Да, исторический.
– Значит, наверняка помнишь Указ Николая II «Об укреплении начал веротерпимости»?
– Может, не дословно, – проговорил молодой человек неуверенно. – Но о чем там идет речь, представляю.
– А вот я тебе напомню: там сказано, что всем российским гражданам предоставляется право исповедовать любое вероучение. За прошедших сто лет мало что изменилось, у нас страна по-прежнему многоконфессиональная. Сейчас у католиков нет своего храма, где они могли бы проводить богослужения и совершать религиозные обряды, а следовательно, им нужно помочь.
– Понимаю, сделаю в ближайшее время, – уверенно отвечал Ринат Хасанов.
– И еще у меня к тебе один вопрос. Ты, кажется, стихи пишешь?
– Скорее балуюсь? – смущенно отвечал Хасанов.
– Прекрасно! Значит, ты человек творческий, – заключил мэр. – Наверняка у тебя среди друзей или знакомых есть хорошие художники?
– Есть такие, – сдержанно проговорил молодой человек.
– Договорись с одним из них, чтобы он нарисовал нам картину предполагаемого католического храма на перекрестке Островского и Айдинова.
– Но как ему объяснить такой заказ?
– Постарайся не вдаваться в подробности, сейчас это ни к чему. Да и рановато еще… Чего бежать впереди паровоза? Объясни, что работа нужна для мэрии. Скажи ему… Если хорошо нарисует, мы повесим его работу в одном из кабинетов. Разумеется, работа будет оплачена.
– Сделаю, Камиль Шамильевич. Но времени на работу мало, краски могут не высохнуть до вашего отъезда.
– Ничего страшного, будем сушить картину прямо в салоне самолета, – заверил Камиль Исхаков.
Глава 6
Июль 1904 года
«Этого просто не может быть!»
Полиция обошла всех известных ей скупщиков: «Не приносил ли кто что-нибудь ценное? Например, алмазы с риз, а может быть, и сами иконы?» Те обиженно отвечали: «Неужто думаете, что не сказали бы? У нас приказчики крепкие, скрутили бы кощунов да к вам бы и привели!» Расспросили казанских воров, пытаясь хоть что-нибудь выведать о судьбе чудотворных икон Казанской Божией Матери и Спасителя. Однако все предпринятые усилия оказались тщетны. Воры крестились и божились, что не совершали святотатства, утверждая: «Мы хоть и падшие люди, но уж не настолько, чтобы красть из храма Явленную икону да икону Спасителя. Мы уж понимаем, что она значит для православного люда. Да нас за такое святотатство самих бы в кутузке задавили!»
– ЧТО ДЕЛАЕТСЯ-ТО, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ! – бедово запричитала Ефросиния, вернувшись с базара. – Казанский Богородицкий монастырь ограбили! Две чудотворные иконы унесли: Спасителя и Казанской Божией Матери.
– Как так? – невольно ахнул Владимир Вольман, посмотрев на жену.
Ежедневно ранним утром он выпивал крынку свежего парного молока с белым хлебом, съедал миску рассыпчатого деревенского творога и шел в Александровское ремесленное училище, где работал штатным смотрителем. Но сейчас, позабыв про завтрак, с вытаращенными глазами взирал на супругу, ожидая продолжения.
– А вот так! На базаре об этом только и говорят. Народ волнуется. Идут в сторону Богородицкого монастыря, хотят монахинь наказать за то, что иконы не уберегли. А некоторые и вовсе говорят, что они в сговоре с ворами были.
– Ну и дела, – невольно покачал головой Вольман, пораженный чудовищной новостью.
– Когда домой-то возвращалась, решила мимо монастыря пройти, посмотреть, что там делается, в храме-то. В монастырский двор прошла, а там народу уже полно. Хотела в храм войти, а он переполнен, да так, что и шагу не ступить! Люди плачут, рыдают, говорят, что осиротели без матушки. Никто не знает, что и делать-то. Погоревала я вместе со всеми, поплакала, а потом и домой потопала. А когда из храма выходила, тут как раз городовые монастырь оцепили, никого более в него не пускают. А народ-то все идет и идет… А тут еще и полиция конная подъехала. Грозила, коли напирать станут, так ногайками всех разгонят. Я и пошла домой побыстрее от греха подальше.
– А как же святотатцы в храм-то попали, коли он на запоре? – воскликнул в возмущении смотритель.
– Взломали дверь-то, вот и вошли! – как на несмышленыша, посмотрела Ефросиния на мужа.
– Там же вот такие амбарные замки висят, это какой же инструмент должен быть, чтобы замки с двери сорвать? А еще засовами запирают!
Наскоро перекусив, Владимир Вольман направился вАлександровское ремесленное училище. Пошел уже пятый год, как он работал штатным смотрителем, иначе – руководил училищем. Просто так на столь ответственную должность не поставят, требовалось заслужить. Обычно ее занимают люди, прошедшие университетский курс. Но Владимир Вольман окончил лишь гимназию, зато имел десятилетний педагогический опыт работы и был выдвинут директором училища, как педагог, «отмеченный ревностью к службе, имеющий хорошее поведение и обладающий широкими знаниями».
Назначение на столь высокую вакансию Вольман воспринимал как колоссальное доверие со сторон руководства, а потому следовало ему соответствовать. Его должность включала многочисленные административно-хозяйственные мероприятия, в число которых входило руководство учебным процессом, а при необходимости – он давал советы учителям, следил за ходом преподавания и обеспечивал учащихся учебной литературой и книжными изданиями. А кроме этого надлежало вести бухгалтерские и хозяйские дела. Все эти дела подразумевали, что он должен находиться в училище неотлучно.
В год он получал всего-то четыреста рублей, лишь немногим больше, чем обыкновенный учитель. Преимущество заключалось в том, что штатный смотритель являлся государственным служащим и производился в классные чины, значит – награждался медалями, а то и орденами. Нередко смотрители получали дополнительные денежные пособия, а то и пенсии, что немаловажно.
Но жалования смотрителя на многодетную семью не хватало, а потому Владимир Вольман затеял небольшое ремесло и в свободное от службы время принимал заказы на разного рода слесарную и кузнечную работы.
За неделю до ограбления к нему пришел ювелир Николай Максимов, которого он хорошо знал по прошлым заказам, и попросил сделать клещи с большим рычагом для растяжки колец и для поднятия тяжести не менее чем в тридцать пять пудов[18]. Столь серьезный инструмент вполне можно было использовать для взмывания самых крепких дверей. Такое явное совпадение Вольмана насторожило. Невольно закралась мысль: «А что, если Николай Максимов причастен к краже чудотворных икон из Богородицкого монастыря?»
В Александровское ремесленное училище в этот день он уходил с тяжелым сердцем. Не отпускала мысль, что в своих предположениях он прав. Стараясь не поддаваться унынию, Владимир Вольман кое-как доработал до конца дня, а потом направился в полицейский участок, где его, тщательно опросив, отвели к судебному следователю по важнейшим делам Александру Шапошникову.
На Владимира Вольмана судебный следователь произвел самое благоприятное впечатление: внешность весьма располагающая, интеллигентен, доброжелателен. Перед таким хочется непременно исповедоваться.
– У вас, как мне сообщили, имеются сведения, которые могут пролить свет на ограбление Богородицкого монастыря? – любезно поинтересовался Александр Шапошников, когда свидетель расположился за столом напротив.
– Имеются, – сглотнув, отвечал Вольман. – Я работаю смотрителем Александровского ремесленного училища…
– Мне это известно, – учтиво улыбнулся следователь, дав понять, что следует переходить к показаниям.
– Ага… Я иногда со своим помощником Евсеем беру заказы на слесарные и кузнечные работы. Опыт у меня в этом деле большой… Кое-что умею. Одному нужно замок починить, другому вырезать что-нибудь из жести, третий хочет, чтобы я ему ручку дверную смастерил. В общем, работы хватает. А тут двадцать второго июня приходит ко мне старый знакомый – ювелир Николай Максимов, – и заказывает клещи для растяжки колец с большим рычагом. Да такие, чтоб с их помощью можно было тяжесть до тридцати пяти пудов поднять. Я еще тогда подумал: «Что же это он ими поднимать будет?» А потом, когда ограбление Богородицкого монастыря случилось, я подумал, а вдруг он это сделал? Такими клещами тяжелую церковную дверь с запорами поломать несложно.
Судебный следователь по важнейшим делам Шапошников внимательно выслушал смотрителя Вольмана, не особенно веря в удачу. Схожих показаний за последние дней пять набралось с десяток: в ограблении подозревали соседей, неожиданно разбогатевших; близких приятелей, тративших деньги без меры; малознакомых людей, что-то прятавших у себя в кладовках да сараях. Но при тщательной проверке выяснялось, что каждое заявление оказывалось пустышкой. И вот сейчас Шапошников слушал очередные свидетельские показания, которые следовало проверить, как и все предыдущие.
Макнув перо в чернильницу, Александр Степанович произнес:
– А вы знаете, где живет ваш знакомец?
– Знаю.
– Назовите его адрес, – придвинул к себе Шапошников карандаш с листком бумаги.
– Улица Университетская, дом четыре. Там же у него и ювелирная лавка имеется, – пояснил Вольман.
– Все ясно. Вы нам очень помогли, можете идти. Мы вас не задерживаем.
– А что дальше-то?
– Что вы имеете в виду?
– Ну вы его того… заарестуете что ли?
– Сначала нужно удостовериться, действительно ли он причастен к ограблению храма, а уж потом будем решать, как следует поступить. И о нашем разговоре никому ни слова!
– Понимаю, – пробасил смотритель. – Как же может быть иначе?
Поднявшись, Владимир Вольман слабо кивнул на прощание и вышел за дверь.
Александр Шапошников отдал распоряжение секретарю:
– Вызовите ко мне помощника пристава Прохора Плетнева и околоточного надзирателя Михаила Нуждина. И пусть они прихватят двух городовых покрепче. Могут понадобиться.
ЧЕРЕЗ ЧАС С НЕБОЛЬШИМ СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА В СОПРОВОЖДЕНИИ ДВУХ ГОРОДОВЫХ ПОСТУЧАЛАСЬ В ДВЕРЬ ЮВЕЛИРНОЙ ЛАВКИ, которая, несмотря на разгар рабочего дня, оказалась закрытой.
– Открывайте, полиция! – раздраженно потребовал судебный следователь Шапошников.
Через несколько минут раздался звук проворачиваемого в двери ключа, и их взору явилась невысокого роста женщина с густыми рыжими волосами и многочисленными конопушками на маленьком утином носу.
– Судебный следователь по важнейшим делам Александр Степанович Шапошников, а это мои помощники, – показал он на Плетнева и Нуждина, хмуро взиравших на женщину. – Хозяин дома?
– Так спит он, – обескуражено произнесла та, покосившись на городовых за спинами помощников. – А что стряслось-то? Может, побил кого?
– Придется его разбудить, – произнес Шапошников, решительно переступая высокий порог лавки. Осмотрелся по сторонам: – Так и где он находится?
Ювелирная лавка представляла собой небольшое помещение, разделенное на две части столами и длинным прилавком, за стеклом которого лежали немногочисленные ювелирные украшения, в основном серебряные и позолоченные, не блиставшие роскошью и рассчитанные на людей с небольшим достатком.
– Так где хозяин? – строго посмотрел Шапошников на хозяйку.
– Пройдите в покои, там он дрыхнет, – показала женщина на узкую дверь позади прилавка.
Распахнув дверь, Александр Степанович уверенным шагом прошел в помещение, наполненное застарелым запахом сивухи. На пружинной узкой кровати, укрытой темно-желтым покрывалом, в верхней одежде и в сапогах лежал хозяин ювелирной лавки Николай Максимов и, задрав нос к потолку, негромко похрапывал.
– Разбудите-ка его, милейший, – обратился судебный следователь к крепкому городовому с мрачным взглядом.
– Это мы зараз, мы привычные, – охотно откликнулся городовой, подступая к кровати, и потряс спавшего за плечи: – А ну вставай, шельма! Его высокоблагородие с тобой разговаривает!
Максимов едва открыл глаза, что-то недовольно буркнул под нос и, перевернувшись на другой бок, вновь впал в спячку. Ювелир был крепко пьян и пробуждаться не желал.
– А ну поднимайся, тебе говорят! Позвольте по мордасам ему двинуть, ваше высокоблагородие? – спросил разрешения городовой. – Я эту публику хорошо знаю. Пока крепко по башке не ударишь, ни за что не проснется.
– Постарайтесь как-нибудь без особого мордобоя, милейший. Он нам живой нужен, – едва усмехнулся Шапошников.
Встряхнув как следует Николая Максимова, городовой посадил его на край кровати и приказал:
– Его высокоблагородие спрашивать тебя сейчас будут! Отвечай, шельмец ты эдакий!
Николай Максимов понемногу пробуждался от грез. Посмотрел во все стороны, усиленно протер кулаком глаза, после чего недовольно произнес:
– Сказано же было, потерпите. Болею я нынче… Через недельку приходите. Лучше прежнего будет.
– Похоже, что он не проснулся… Ты мне вот что, приятель, скажи, – ласково заговорил Александр Шапошников, – куда ты подевал те клещи, которыми дверь в храме поломал?
Какую-то минуту ювелир осмысливал сказанное. Потом его глаза, враз протрезвевшие, заполнил страх.
– Никаких клещей у меня нет! – попытался он вскочить.
Городовые, вставшие по обе стороны от него, вжали мужчину в кровать, не давая подняться.
– Сидеть, бестия!
– Как же нет? – удивленно спросил судебный следователь. – Когда именно такие клещи вы заказали у Владимира Вольмана. И даже наказали ему, чтобы клещи были с большим рычагом дня растяжки колец и для поднятия тяжести не менее чем в тридцать пять пудов. А это не шутка!
– Не знаю я никакого Вольмана! И клещи я никакие не заказывал! – заупирался Николай Максимов. – Можете обыскать, ничего у меня не найдете!
– С этим еще успеется, – пообещал Александр Шапошников. – А теперь ответьте мне на вопрос: кто ваши сообщники, с которыми вы грабили Богородицкий монастырь? Где прячете награбленное? И самое главное… куда вы запрятали Чудотворную Казанскую икону Божией Матери?
– Я не понимаю, о чем вы меня спрашиваете! – выкрикнул в отчаянии ювелир Максимов. – И никакого награбленного я не держу!
– Любезный, можно вас на минуту, – отозвал в сторонку плечистого городового судебный следователь.
– Слушаю, ваше высокоблагородие.
– Тут где-то поблизости телефон есть?
– У купца первой гильдии Мусина есть, его контора отсюда метрах в ста будет, – подумав, отвечал городовой.
– Давайте, сходите к купцу Мусину, позвоните от него в Александровское ремесленное училище и скажите, чтобы смотритель Вольман пришел со своим помощником… Евсеем, кажется, по этому адресу. Да немедля! – строго добавил судебный следователь. – Вижу, дело может затянуться, а нам это без надобности. Время торопит.
– Сделаю как надобно, ваше высокоблагородие. Не беспокойтесь!
Через полчаса в ювелирную лавку подошел смотритель ремесленного училища Владимир Вольман со своим помощником, молодым мужчиной лет тридцати с длинными мускулистыми руками.
Запотелый, раскрасневшийся смотритель повинился, показав на свои широкие ладони, в поры которых въелся мазут:
– Вы уж не серчайте на меня, прямо с занятий явился. Учителей-то у нас не хватает, ведь просто так кого-то с улицы не поставишь, вот и приходится самому вести некоторые предметы.
– Не поставишь, это верно, – легко согласился Александр Шапошников. – У меня к вам вот какой вопрос: вам знаком этот человек? – показал он на ювелира Максимова, сидевшего в углу комнаты под присмотром двух городовых.
– Как же не знать? Это Николай Максимов. Ювелирный мастер, – произнес охотно Владимир Вольман.
– При каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
– А какие тут могут быть обстоятельства? – озадаченно пожал плечами смотритель ремесленного училища. – Уже года три как знакомы. Он меня просил разные инструменты для ювелирного дела изготовлять. То какие-то щипчики ему вдруг понадобятся, а то пинцеты, а то иглы, вот я и мастерил.
– А когда он сделал вам последний заказ?
– Это было двадцать второго июня, как раз за неделю до ограбления Богородицкого монастыря. Он попросил смастерить клещи, которые могли бы поднять тридцать пять пудов. Мне приходилось делать клещи, но чтобы такой мощности – никогда! Еще тогда подумал, что с таким инструментом только двери выворачивать… Я у него спросил в тот раз, мол, зачем тебе такие клещи, а он мне ответил, что для домашнего хозяйства. Дескать, ему сруб в деревне подправить нужно… Вот я и сделал ему клещи со своим помощником, Евсеем, – кивнул он в сторону длиннорукого молодого мужчины. – А еще он сказал, что работа очень срочная, и заплатит вдвойне. Но так просто эдакий инструмент не соорудишь. Тут и хорошая муфельная печь для плавки металла должна быть, и наковальня соответствующая, и помощник нужен толковый. Но мы сделали все как положено!
– Вы подтверждаете сказанное? – повернулся Александр Шапошников к Евсею.
– Подтверждаю, – согласился длиннорукий, – я еще в тот день руку себе обжег о металл. – Закатав рукав рубашки, он продемонстрировал большой ожог на предплечье. – Гляньте!
– Вижу… А что вы можете сказать по этому поводу, любезнейший? – посмотрел на притихшего Максимова судебный следователь.
– Не заказывал я им ничего, не было этого! – уверенно проговорил ювелир. – Сговорились они, вражины проклятые, чтобы честного человека опорочить и свои гнусные делишки прикрыть.
– Как не было? Ты чего врешь?! – неожиданно вспылил Евсей, подскочив к Максимову. – Что ты такое говоришь?!
– А вот и не было! Первый раз тебя вижу! – усмехнулся Максимов.
– Так ты еще издеваешься, гад! – Ударом кулака Евсей сбросил ювелира со стула и принялся его душить на глазах у оторопелых полицейских. – Говори правду, а то задушу, как гадину!
– Был я там… Я заказал клещи… – прохрипел Николай Максимов.
– Вот и ладненько… Уберите его! Ведь задушит! – прикрикнул Шапошников на городовых. – Этого мне еще не хватало. Отведите его в другую комнату!
Городовые насилу оттащили обезумевшего помощника от ювелира и выволокли за дверь.
– Вы можете идти, – обратился Шапошников к Владимиру Вольману, смиренно стоявшему у стены. – Вы нам очень помогли.
Попрощавшись, смотритель быстрым шагом направился к двери.
– Какой вы веры будете? – спросил Шапошников после некоторого молчания, установившегося, когда Вольман закрыл за собой дверь.
– Православный, – хмуро произнес Максимов, потирая сдавленную шею.
– Значит, верующий.
– Раз в неделю церковь обязательно посещаю. Как же без того?
Достав портсигар, Александр Шапошников вытащил из него сигару и протянул ее ювелиру.
– Вот покурите, успокойтесь. И расскажите, как все было на самом деле.
Дрожащими руками, Николай Максимов взял сигару и неожиданно расплакался.
– Я с вами вон как! А вы мне сигару… Все расскажу, как на духу! Клещи мне заказал один богатый покупатель. То цепочку у меня купит золотую, а то браслет позолоченный. Не мог я ему отказать, хотя мне самому подозрительно было, для чего ему такие клещи.
– А чего же он сам не заказал? Не спрашивали у него?
– Спрашивал… Говорит, что в Казани он недавно, а потому не знает хороших мастеров. Попросил меня, чтобы я этим занялся. Вот я и обратился к Вольману. Хорошо ему заплатил. А он всегда на совесть делает. Характер у него такой.
– Как имя этого богатого покупателя? – доброжелательно спросил судебный следователь.
– Федором его зовут, фамилия – Чайкин.
– После ограбления вы с ним виделись?
– Виделись, – сглотнув, произнес Максимов. – Я как раз «Казанский телеграф» читал, там большая статья была об ограблении Богородицкого монастыря. А тут Чайкин ко мне в лавку заходит и спрашивает, что это я читаю? А я ему и отвечаю: «Тут написано, будто бы Богородицкий монастырь ограбили. Две чудотворные иконы вынесли: Богородицу и Спасителя, вместе с ризами и короной императрицы. А еще добра всякого разного набрали. Уж не твоих ли рук это дело? Тебе для ограбления большие клещи нужны были?» Федор ухмыльнулся и вытаскивает из кармана наган, а потом говорит: «Знай, с кем имеешь дело! Если вякнешь кому-то, пристрелю».
– Что он за человек, этот Федор Чайкин?
– Шальной он очень. Ничего не боится! Ему пристрелить человека – раз плюнуть. А еще он запойный… Рассказал, что два года лечился от пьянства в сумасшедшем доме, насилу, говорит, вылечили. Как-то мне однажды признался, что и раньше иконы воровал.
– Где он проживает, знаете? – Максимов молчал. – Чего молчишь? – не выдержав затяжной паузы, прикрикнул Шапошников. – Или мне опять Евсея позвать? Он миндальничать не станет! Бывал у него?!
– Доводилось как-то… Снимает он небольшую квартиру за пятнадцать рублей, на пересечении улиц Муратовской и Кирпично-Заводской. Это сразу на выезде из города.
Записав адрес на листке бумаги, Шапошников спросил:
– Кто-нибудь еще живет вместе с Чайкиным?
– Он с Прасковьей живет, бабой одной молодой. Души в ней не чает, все для нее делает. А у этой Прасковьи дочка еще есть. Ну и мать этой полюбовницы с ними проживает. Еленой зовут. Фамилия – Шиллинг.
– Вы очень помогли следствию, голубчик, – положив карандаш и листок бумаги в карман, произнес судебный следователь по важнейшим делам.
– А что со мной-то будет?
– Разберемся. Вас пока ждет кутузка. Ничем не могу помочь. Отдохните, подумайте… Может, еще что-нибудь дельное вспомните.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ВАЖНЕЙШИМ ДЕЛАМ ШАПОШНИКОВ вместе с помощником пристава Плетневым и околоточным надзирателем Нуждиным немедленно прибыли в дом на пересечении улиц Муратовской и Кирпично-Заводской. В многоквартирном деревянном двухэтажном строении (во дворе которого был устроен длинный палисадник, а еще небольшие постройки дня хранения утвари и дров), занимая угловые комнаты с отдельным входом, проживала Елена Шиллинг – мещанка сорока девяти лет, уроженка города Ногайска Таврической губернии. Женщина сохранила привлекательную внешность; приятные черты портило лишь высушенное лицо и недобрый взгляд; вдовая, православная (хотя муж лютеранин), имеет двух детей: взрослых сына и дочь.
В результате короткого допроса было установлено, что ее дочь, Прасковья Кучерова, сожительствует с разыскиваемым квартирантом, Федором Чайкиным. О том, куда они уехали, Шиллинг не проронила ни слова, хотя, конечно же, не могла не знать, где именно те сейчас находятся.
В квартире крымской мещанки Шиллинг уже четвертый час шел обыск. На сравнительно небольшой площади обнаружили немало ценностей, их хватило бы на несколько изысканных ювелирных магазинов. В шкафах найдены десятки обрезков от ризы, в коробках россыпью лежали сотни разноцветных драгоценных камней; в сундуках – обломки украшений и убрусы[19], расшитые золотом. В щелях и скрытых нишах секретера обнаружились серебряные гайки, восемь ниток жемчуга и снова куски украшений. Фрагменты золотых изделий и серебряная проволока отыскались и в чулане; а в сенях, в большом котле с мутной водой, нашлись украшения с драгоценными камнями. При более тщательном осмотре двора выявилась россыпь жемчуга, уже изрядно затоптанная, а в перекособоченном сарае между поленницами, завернутые в грязные тряпицы, нашлись части золотых украшений, речной и морской жемчуг, а также серебряная и золотая проволоки, скрученные в плотные мотки.
На лавке в углу большой комнаты под присмотром рослого полицейского, упершись взглядом в стену, сидела хозяйка дома Елена Шиллинг. Выглядела отрешенной, отсутствующей, но в действительности все было иначе: она цепко наблюдала за действиями полицейских и сыщиков и за всем тем, что происходило вокруг нее.
Хозяйка оказалась не столь проста, как могло выглядеть поначалу, – в подоле платья у нее нашли четыреста рублей. Когда у нее забирали припрятанные деньги, то она смотрела на полицейских с такой лютой ненавистью, как если бы у нее отбирали кровные сбережения. Все это время Александр Шапошников находился в доме, втайне надеясь, что иконы отыщутся. Однако все упования оказались тщетными.
Судебный следователь по важнейшим делам присел рядом с Еленой Шиллинг. Женщина даже не взглянула в его сторону, а лишь напряглась, слегка распрямив спину. Не тот возраст, чтобы говорить о старости: волосы собраны в толстую косу, на худых плечах белая косынка, длинную шею украшала короткая золотая цепочка с небольшим распятием. На тощем с правильным овалом лице, сохранился отпечаток былой красоты. Серые миндалевидные глаза взирали на окружающих с пытливой строгостью.
– А вы ведь не любите Чайкина, – произнес следователь, возвращаясь к прерванному допросу.
Глянув на Александра Шапошникова, как будто видела его впервые, отвечала:
– А за что мне его любить? Отнял у меня дочь, живет с ней во грехе. А она ему слово поперек сказать не может.
– Что так? – хмыкнул Александр Степанович.
– Глаз у него дурной! Не знаю, кто он такой, но когда он на меня смотрит, так от страха мурашки по коже бегают.
– Все эти драгоценности, – кивнул следователь Шапошников на жемчуг и поломанные золотые изделия, лежавшие на столе, – принесены из Казанского Богородицкого монастыря. Обрезки риз, тесьма… Мне приходилось посещать храм не единожды, и некоторые драгоценные камни, например, вон тот крупный изумруд… Он был на мафории, рядом со звездой. Значит, чудотворные иконы находятся у вас. Где они? Если признаетесь сейчас, обещаю, что вас не коснется никакое наказание.
– Не знаю я ничего, – вдруг плаксиво проговорила Елена Шиллинг. – Не видела я никаких икон.
– Где прячется Чайкин?
– Не знаю, уехал куда-то.
– После того, как Чайкин ограбил Богородицкий монастырь, он пришел именно сюда, к вам, с иконами! А все это золото, изумруды и алмазы выломано из окладов икон! – невольно повысил голос Шапошников. – Когда он изумруды и алмазы из оклада клещами за этим столом выдирал, – напирал судебный следователь по важнейшим делам, – то мелкие жемчужинки просто скатывались на пол! Для вас это была уже такая мелочь, что вы на них просто не обращали внимания! И вы мне будете тут утверждать, что он сюда не приходил? А корону Екатерины Великой чем ломали? Плоскогубцами или тоже клещами?.. Послушайте, меня не интересует даже эта гора драгоценных камней и золота, мне нужно знать, где сейчас находится Казанская икона Божией матери! Она у Чайкина? Это он ее забрал?
– Я ничего не знаю, барин, чего вы на меня так кричите? – плаксиво проговорила Елена Шиллинг. – Если он забрал, вот у него и спросите, когда он приедет.
– Ваше высокоблагородие, – произнес подошедший околоточный надзиратель Нуждин, – вам бы посмотреть нужно. – Увидев сердитый взгляд Александра Шапошникова, понял его по-своему: – Без вас никак нельзя! Не знаем, что и думать.
Предчувствуя недоброе, судебный следователь неохотно поднялся с лавки и зашагал вслед за Нуждиным к металлической печи, устроенной в левом углу от входа. Чугунная дверца печи была настежь распахнута, а из нее выглядывали обгорелые куски бордового бархата и оплавленная темно-желтая парча.
– Гляньте туда, там обгорелые куски дерева… На икону похоже.
Присев, Александр Шапошников взял стоявшую подле печи кочергу и пошуровал ею посеревшие уголья. В глубине топки он рассмотрел подпаленные жемчужины, кусочки слюды, две серебряные проволоки, несколько подпорченных огнем петель – и обгорелые куски доски, на которой отчетливо просматривался фрагмент рисунка.
Поставив на место кочергу, скорбно брякнувшую о печку, судебный следователь тяжело распрямился. В комнате воцарилось гнетущее молчание. Взгляды присутствующих были устремлены на него, он понимал, что все думают об одном и том же.
– Это ничего не значит, – наконец вымолвил Александр Шапошников. – Будем искать дальше. Собрать из печи все, до самой мелкой жемчужинки, до малейшей щепки! И дать подробное описание каждой вещи. Будем искать дальше. – Удручающее настроение, давя на плечи, силилось раздавить, уничтожить. Следовало не поддаваться тягостному чувству, противостоять ему, дать должный отпор. Кашлянув в кулак, добавил: – Этого просто не может быть! Спалили какую-то мазню, чтобы пустить следствие по ложному пути… Будем искать дальше!
Лица присутствующих заметно просветлели.
– Елена Ивановна, может, пришло время признаться? – вновь обратился Шапошников к Шиллинг. – Где сейчас находятся Чайкин и ваша дочь?
– Еще утром по железной дороге уехали в Саров. А оттуда едут в Москву, – всхлипнула Шиллинг.
– Вы уверены? – с сомнением спросил Шапошников.
– Так при мне же они уезжали. Сели в пролетку да на вокзал покатили. И билеты у них на руках были, – уверенно взглянула на судебного следователя Елена Шиллинг.
– А что за пролетка была? Какого цвета? – нетерпеливо спросил судебный следователь. – Может, номер ее запомнили?
– Кто ж их поймет. Они все одинаковые. Да и на номер я не смотрела.
– Кучер кто?
– А разве их разберешь? Натянут свои малахаи по самые глаза, и будто все на одно лицо! Только разбойными глазищами сверкают!
Откровенничать хозяйка квартиры не желала.
– Увести ее в острог! Пусть посидит там на стылых камнях, подумает, – распорядился судебный следователь. – Может, еще чего вспомнит.
Городовые вывели Елену Шиллинг из комнаты и посадили в полицейский экипаж.
– Что-то не верю я в ее признание… Сначала молчала, а тут вдруг соловьем запела, – засомневался судебный следователь. – Это внешне она такая плаксивая, а в действительности – кремень баба! Вон как на нас зло поглядывала! Во сколько сегодня поезд на Саров уезжает? – повернулся Шапошников к помощнику пристава Прохору Плетневу. – Может, успеем их где-то перехватить?
– У меня расписание есть железной дороги, – вытащил тот из внутреннего кармана вчетверо сложенный листок. – Сейчас глянем… Так нет сегодня поезда на Саров, – посмотрел Плетнев на Шапошникова. – Только завтра поезд поедет.
– Соврала, значит, – усмехнулся судебный следователь. – Я и не сомневался. Вряд ли они втроем пошли пешком, да еще с багажом. А багаж у них должен быть! Наверняка уезжали на каком-то экипаже. Давай, разыщи мне кучера, который мог их подвозить, да побыстрее, пока мы здесь обыск заканчиваем.
– За углом дома площадка есть, где обычно пролетки из этого квартала дожидаются пассажиров. Может, там поискать?
– Вот давай и ступай туда! – поторопил Александр Шапошников.
Помощник пристава вернулся через полчаса с тощим рыжебородым извозчиком.
– Александр Степанович, это тот самый кучер, что отвозил их. Чайкина с Кучеровой верно описал, да и девочку тоже вспомнил.
– Очень хорошо, – подступил Шапошников. – Расскажите мне, братец, куда вы отвезли эту троицу и когда это было?
– Вчера это было, я их в Адмиралтейскую слободу отвез, прямо к пристани «Надежда», – уверенно отвечал кучер.
– А много при них вещичек было?
– Две большие корзины. Места у меня в пролетке немного, так они их под ногами держали.
– Понятно. И куда же они направлялись?
– А тут вот какое дело вышло… Сначала сказали, что им на пароход «Миссисипи» нужно. До его оправки где-то полчаса оставалось. А уже потом, когда я обратно выезжал, смотрю, а они к «Ниагаре» вдруг побежали. Пароход вот-вот отойти должен был.
– И успели? – полюбопытствовал Александр Степанович
– Успели, я думаю, они как раз билеты покупали.
– И сколько вам за дорогу заплатили? – бодро поинтересовался Шапошников.
– Цельный рубль, – широко заулыбался кучер. – А там ехать-то на три гривенника!
– Не поскупились, значит, пассажиры?
– Не поскупились, – довольно протянул рыжебородый.
– Что ж, братец, можете идти, – разрешил судебный следователь. – Вы нам очень помогли.
– Всегда, пожалела, ваше высокоблагородие!
Полицейские, разбив квартиру на несколько участков, продолжали обыск. Тихо, с серьезными лицами, напрочь лишенными каких бы то ни было эмоций, они складывали на стол в большой комнате ювелирные украшения, куски риз с нашитыми на них бриллиантами, золотые обрезки парчовой ткани, обломки серебряных изделий с драгоценными камнями, сотни жемчужных зерен и разноцветных камней, серебряные и золотые гайки…
Когда стол уже не вмещал всего, что было выявлено, сыщики, расстелив в центре помещения скатерть, принялись укладывать на нее все то, что сыскалось по углам комнат, в печи, в котлах, в подвале, в прочих закоулках и даже в небольшом овражке близ дома. Казалось, что изъятым ценностей не будет конца…
По просьбе сыщиков пришла сестра Варвара, знавшая иконы лучше, чем кто-либо. Старица тотчас признала в обломках ювелирных изделий и в кусках обгорелой ткани украшения, снятые с похищенных чудотворных икон; поломанное золото оказалось тем, что еще совсем недавно называлось короной Екатерины Великой.
– Кажется, «Ниагара» идет в Нижний Новгород? – спросил Шапошников у помощника.
– Именно так, сейчас многие туда едут. Скоро в Нижнем ярмарка откроется.
– Видно, и Чайкин туда торопится. Покутить, стало быть, захотел… Хотя не исключаю, что он мог высадиться и пораньше… Я сейчас встречусь с полицмейстером. Нужно отправить телеграммы о задержании преступников с описанием их внешности во все города и поселки по пути следования парохода «Ниагара». Очень надеюсь, что святотатцы еще на корабле… А с ними и икона!
Глава 7
Июнь 1904 года
Срочная телеграмма
Поездку из Санкт-Петербурга на Южный Урал государь Николай II запланировал еще в прошлом году, наметив ее поначалу на 27 января. Но именно в этот день без официального объявления войны японский флот напал на российскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. Сразу нескольких российских кораблей было выведено из строя, а японские войска обеспечили себе беспрепятственную высадку в Корее.
Столь тщательно подготовленную поездку, во время которой император планировал провести военный смотр в ряде гарнизонов, пришлось отложить на неопределенное время. События на Дальнем Востоке развивались стремительно и совсем не в пользу русской армии. Вскоре японцы отважились высадиться на Квантунский полуостров, перерезали железнодорожное сообщение Порт-Артура с Россией и приступили к его осаде. На долю русского солдата выпало немало испытаний: японцами применялись новые виды вооружения, включая 280-миллиметровые мортиры, приспособленные разрушать стены, а также скорострельные гаубицы и пулеметы.
На море дела складывались успешнее: три русских крейсера— «Россия», «Громовой» и «Рюрик» (из группы Владивостокского отряда крейсеров[20]) – сумели уничтожить военный конвой с японскими войсками и вооружением, двигавшийся в Порт-Артур для его осады. Столь яркая победа волной негодования прокатилась по Японским островам и сказалась на настроении в армии и на флоте. Владивостокский отряд крейсеров, закрепляя успех, двинулся в Цусимский пролив, чтобы перерезать японцам морские коммуникации (что частично удалось), и на своем пути уничтожил еще несколько вражеских судов, а также захватил английский торговый корабль «Аллантон», доставлявший японцам вооружение и боеприпасы.
И вот сейчас Николай Александрович, невзирая на многие заботы, решил отправиться в поездку, во время которой намеревался осмотреть воинские подразделения, побеседовать с ветеранами военных кампаний, услышать из первых уст о происходящем на фронте и своей заботой как-то смягчить уныние, что воцарилось в России после череды поражений на Тихоокеанском побережье. Не все потеряно, из неудач следовало сделать правильный вывод и восстановить былую мощь императорской армии.
И все-таки отъезд из Царского села дался тяжело. Аликс, несмотря на долгие уговоры, наотрез отказалась с ним ехать, и государь отправился с младшим братом Михаилом и двоюродным дядей Александром Михайловичем, которых всегда увлекали подобные поездки. Перед отъездом, словно винясь в предстоящей разлуке, Николай Александрович долго катал императрицу в кресле по Царскому селу, потом принял в своем кабинете два предлинных доклада от князя Оболенского и графа Игнатьева и вернулся в покои жены, где и провел с ней все время до самого отъезда.
Уже прощаясь, Аликс неожиданно помрачнела и призналась, что накануне видела скверный сон, поэтому просила Ники[21] беречь себя.
На всем пути государя встречали очень тепло. Во многих населенных пунктах, где он не планировал останавливаться, люди выстраивались вдоль железной дороги, а перед домами зажигали большие костры.
В Коломну царский поезд прибыл в 8 часов утра, и Николай Александрович полагал побродить немного по городу. Но вышло иначе: на стоптанном поле почти у самой станции, где обычно проходили военные смотры, в честь прибывшего государя провели небольшой парад, представленный 5-м, 6-м Восточно-Сибирскими саперными батальонами и 5-м мортирным артиллерийским полком.
Встречающие горожане вели себя довольно бурно: всюду, несмотря на запреты и ограждения, пролезала неутомимая толпа и громко выкрикивала приветствия императору, изрядно мешая построениям и параду.
На железнодорожных станциях, где останавливался государь, его встречали многочисленные делегации из дворянства и виднейших представителей города или селений. Николай Александрович в сопровождении свиты ненадолго выходил на перрон, чтобы выслушать короткие доклады депутаций, и спешил далее. Там, где остановиться не довелось, Николай II видел толпы встречающих, что размахивали с перрона руками и шляпами.
В Уфе предполагалось сделать многочасовую остановку. Государю доложили, что в приуральском городе предстоит большая встреча, где царя будут встречать с почетным караулом.
КАБИНЕТ ГОСУДАРЯ БЫЛ НЕБОЛЬШИМ, НО ОЧЕНЬ УЮТНЫМ. Стол, за которым он обычно работал, придвинули к самому окну, освещающему полированную дубовую столешницу; с левой же стороны стояла настольная лампа. Чуть далее на полу – торшер с зеленым абажуром и двумя креслами. Напротив них поставлен кожаный диван с длинным валиком в изголовье, на который Николай Александрович любил прилечь. С правой стороны от письменного стола располагалась двустворчатая дверь – вход во второе купе, где размещались шкафы, заполненные деловыми бумагами, и архив. Широкая дверь в кабинет государя, застекленная в верхней половине матовым стеклом, находилась напротив стола.
Во время поездки Николай Александрович собирался систематизировать деловые бумаги, скопившиеся у него в изрядном количестве и теперь занимавшие два купе, благо, что в пути особо нечем заняться. Личного секретаря у него не было. В начале своего правления Николай Александрович пытался привлечь к делопроизводству свое ближайшее окружение.
Одним из таких людей десять лет назад стал великий князь Александр Михайлович (Сандро, как называли его на грузинский манер в семейном кругу), муж младшей сестры. Педантичный, относящийся даже к самым незначительным делам со всей скрупулезностью, он довольно успешно справлялся с новым назначением. Первое, что он предпринял, – это систематизировал большую часть деловых бумаг, и работать стало существенно легче. На какое-то время Сандро стал ближайшим сподвижником самодержца, буквально его правой рукой. Великий князь был в курсе всех государевых дел, как больших, так и малых. Александр Михайлович назначал аудиенции министрам и находил причины для отказа тем, кто добивался государевой благосклонности; вел делопроизводство и часто выступал главным связующим звеном между государем и внешним миром, который простирался за пределами дворца и о котором Николай II знал не так много, как представлялось ему самому.
У самодержца к Александру Михайловичу были и деликатные просьбы, какие можно доверить только другу, при этом зная, что твои личные тайны никогда не будут преданы огласке, а поручения исполнятся в точности.
Примерно в то время у великого князя родилась дочка, которая так же требовала внимания, поэтому на обязанности личного секретаря у него оставалось все меньше времени. И потом, Александр Михайлович, будучи блестящим морским офицером, всегда бредил морем. Страсть, зародившаяся в нем в пятнадцать лет, когда он совершил двухмесячное плавание по Балтийскому морю, никуда не пропала.
Еще в 1895 году он представил Николаю II на Адмиралтейском расширенном совете серьезную программу, которую под его руководством составила группа военно-морских экспертов и которая позволяла в кратчайшие сроки усилить российский флот на Тихом океане. Аргументированно, с привлечением последних данных российской разведки, он доказал, что война с Японией неизбежна и начнется сразу после того, как в Стране восходящего солнца судостроительные компании закончат на своих верфях строительство крупнотоннажных военных кораблей, которые усилят ее флот многократно, и произойдет это не позднее чем в 1903–1904 годах.
Программа, выдвинутая великим князем, подверглась обсуждению. На Адмиралтейском расширенном совете предлагали принять меры по укреплению флота. Но по какой-то причине, неведомой даже Александру Михайловичу, уже через месяц его проект отклонили. Сандро, оскорбленный недоверием, вынужденно ушел в отставку. Так Николай II лишился личного секретаря, а имперский флот – одного из блестящих своих офицеров.
Как человек деятельный, Александр Михайлович не мог сидеть без дела, поэтому по его инициативе с 1895 по 1903 год в Николаевской академии Генерального штаба провели три военно-морские стратегические игры на тему морской войны России с Японией, показавшие весьма печальные для России результаты. Однако командование не соизволило сделать правильных выводов.
Через три года великий князь вернулся на действительную службу во флот, – любовь к морю оказалась сильнее всяких обид, – и вскоре ему доверили командовать черноморским эскадренным броненосцем «Ростислав». А в 1903 году великий князь был произведен в контр-адмиралы и назначен младшим флагманом Черноморского флота с зачислением в Свиту Его Императорского Величества.
После Александра Михайловича государь еще несколько раз пытался обзавестись личным секретарем, но всегда неудачно. Никто не выдерживал сравнения с великим князем. Так что делопроизводство государю приходилось вести самостоятельно.
Николай Александрович взялся за наиболее важные документы, которые он перед поездкой запросил из Генерального штаба в полной уверенности, что они понадобятся в дороге. В бумагах сообщалось, что японцы провели высадку войск на Квантунский полуостров и перерезали железнодорожное сообщение крепости Порт-Артура с Российской империей. На нескольких листах были напечатаны результаты разведки, в которых отмечалось, что уже в начале августа японские войска начнут осаду Порт-Артура. По мнению военных экспертов, гарнизон крепости продержится не более четырех месяцев: лишенный боеприпасов и продовольствия, он будет вынужден сдаться.
Склеив листки, Николай Александрович уложил их в папки и отнес в соседнее купе, где размещался архив, запер на ключ в крепком двустворчатом шкафу, после чего вернулся в кабинет. Негромкий стук в купе заставил его оторваться от дел. Через матовое стекло он рассмотрел долговязую мужскую фигуру в мундире.
– Входите, – разрешил император.
Дверца плавно приоткрылась, и в кабинет государя вошел контр-адмирал Александр Михайлович.
Зачисление великого князя в Свиту Его Императорского Величества накладывало на него ряд обязанностей, которые немало его тяготили. Требовалось непременно участвовать во всех мероприятиях императорской семьи, и каждый такой выход был связан с многочасовым томительным ожиданием. Возникало ощущение потерянного времени. Как человек действия, великий князь предпочел бы провести его в море или отправиться на войну с японцами в составе Второй Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Рождественского (ах, если бы ему доверили командование хотя бы миноносцем), в задачи которой входило разблокировать Порт-Артур и разбить японскую эскадру. Но Николай Александрович ни за что не отпустит своего двоюродного дядю на восток, а потому за военно-морскими баталиями, что разворачивались там, ему предстояло наблюдать издалека.
Поздоровались по-доброму, как старинные приятели. Собственно, таковыми они и являлись. Ники сыграл в его личной судьбе немалую роль, когда познакомил со своей сестрой Ксенией. Какое-то время он даже был ангелом-хранителем их отношений, когда они передавали друг другу свои записки через него. Вот только разрешение на брак он дал не сразу, а лишь после третьего обращения. Александру Михайловичу пришлось убеждать своего друга и двоюродного племянника, – а они были почти ровесники, – в искренности своих чувств и в том, что его отношения с Ксенией не носят случайного характера, они невероятно глубоки и серьезны.
Высокий, худой, со слегка опущенными плечами, Сандро был на целую голову выше императора. Кажется, великий князь слегка смущался своего исполинского роста и при разговоре с Николаем чуточку подавался вперед, как если бы хотел расслышать, о чем ему говорят.
– Вот, занимаюсь делопроизводством, – показал самодержец на рабочий стол, на котором, сложенные в стопку, лежали папки в синих и белых обложках.
– Ты так и не нашел личного секретаря?
– Не нашел, – признался Николай Александрович. – Предпринял не одну попытку отыскать, но все тщетно! С этим хлопотным делом никто лучше тебя не справлялся.
Великий князь расплылся в довольной улыбке: похвала двоюродного племянника была приятна.
– Сейчас у меня другие обязанности, и потом – я все-таки контр-адмирал.
– Понимаю. Поэтому не сержусь. Опять, наверное, будешь меня просить, чтобы я отправил тебя в составе эскадры в Порт-Артур?
– Николай…
– Не могу, даже не проси! Там сейчас много опытных боевых адмиралов, очень крепкий офицерский корпус, справятся и без тебя. Во всяком случае, каждый из них делает все возможное, чтобы улучшить наше положение. А ты мне необходим здесь. И даже не как мой ближайший родственник, а как мой друг. Ты понимаешь, о чем я говорю?
– Понимаю, Ники, а потому не настаиваю. Возьми в секретари Трепова[22], он идеальная кандидатура.
– Подумаю, – буркнул император.
– Ноя пришел к тебе по другому делу, – помрачнев, произнес Александр Михайлович.
– Вот как? Неожиданно. И что это за дело такое? – заинтересованно спросил самодержец.
– Только что получили телеграмму из Министерства внутренних дел. Сообщают, что был ограблен Казанский Богородицкий девичий монастырь. Помимо прочих ценностей пропало две чудотворные иконы: Казанской Божией Матери и с образом Спасителя.
– Что?! – невольно выдохнул император. – Как это возможно? – Неодобрительно покачав головой, продолжил: – Не таким я представлял себе этот день… На каждой станции встречают целые делегации. Не хотелось бы выходить к ним с кислым лицом.
– Я тебя понимаю… В России могут начаться беспорядки из-за кражи Казанской иконы Богородицы.
Николай Александрович огорченно молчал. Теперь понятно, что опасения жены были небезосновательны. Аликс как будто предчувствовала худое.
– А знаешь, я ведь хотел тебя отправить в Порт-Артур, – наконец проговорил государь.
– Командиром эсминца? – выдавая свое волнение, воскликнул Александр Михайлович.
– Не обижайся, но нет, – отрицательно покачал головой Николай Александрович. – Хотел доверить тебе куда более серьезную миссию.
– Что за миссия?
– Хотел, чтобы ты привез в Порт-Артур Казанскую Чудотворную икону для поднятия боевого духа в армии и на флоте. Ведь когда-то, почти триста лет назад, Казанскую икону Богородицы привезли в Москву, чтобы она помогла прогнать поляков с земли русской. – Помолчав, добавил: – Кто знает, не будь ее, то и русского государства могло уже не быть. А оно вон как обернулось… Не довелось.
– Может, еще сыщется. Создали следственную группу, которую возглавляет опытный судебный следователь. А казанский губернатор Полторацкий[23] взял следствие под личный контроль.
От прежнего благостного расположения духа не осталось и следа. Николай Александрович выглядел мрачно.
– Остается надеяться, что все образуется, но на душе у меня очень тревожно. Давно не было так тягостно. Сосо, мне нужно побыть одному. Нужно закончить еще несколько безотлагательных дел.
– Понимаю, Ники, – с готовностью отозвался великий князь Александр Михайлович. – Оставляю тебя одного.
Развернувшись, великий князь потянул бронзовую ручку двери и шагнул на толстый ковер коридора; громко поздоровался с Михаилом, находившимся в конце вагона, и аккуратно закрыл за собой дверь. Через матовое затемненное стекло Николай II некоторое время видел смазанную и поломанную стеклянными гранями фигуру Сосо, а потом она вдруг разом исчезла. Оставшись в одиночестве, Николай Александрович сел в свое любимое кресло, обшитое белой кожей. Пропажа Явленной Казанской иконы, что более трехсот лет защищала русскую землю, а вместе с ней – и династию Романовых, выглядела весьма скверным знаком. А тут еще война с японцами… Икону могут и не найти, и что тогда? О худшем думать не хотелось. Но невеселые мысли накатывали на самодержца, словно тяжелые волны на каменный берег.
Поезд, пыхнув дымом и лязгнув тормозами, остановился. Николай Александрович вызвал в купе флигель-адъютанта – краснощекого молодца с лихо закрученными усами. В длинном, до колен, темно-зеленом приталенном кителе, с воротником красного цвета, богато украшенным серебром, в широких темно-синих брюках и с высокими хромовыми сапогами русского покроя, он был невероятно хорош.
– Какая сейчас станция? – хмуро поинтересовался государь.
– Правая Белая, Ваше Императорское Величество. Следующая – Уфа.
– На этой станции имеется телефон? – поинтересовался государь.
– Имеется, Ваше Императорское Величество, – прозвучал уверенный ответ. – Провели в прошлом году в виду особой важности. Мало ли чего…
Николай Александрович едва кивнул.
– Что ж, очень хорошо. Пригодилось… Меня кто-нибудь еще встречает на станции?
– Так оно и есть, Ваше Императорское Величество, почетный караул из местного гарнизона.
Император неодобрительно покачал головой:
– Распорядитесь, чтобы меня не тревожили, я буду занят государственными делами. Как вернетесь, проводите до места, где имеется телефон.
– Слушаюсь, Ваше Императорское Величество! – отчеканил флигель-адъютант и немедленно заторопился к тамбуру.
Еще через несколько минут Николай Александрович вышел из вагона в сопровождении трех флигель-адъютантов, что круглосуточно находились при его особе.
Оцепленный перрон пустовал. Вдоль него демонстративно расхаживали жандармы, давая понять всем своим видом самодержцу и всем, кто находится в поезде, что порядок соблюден, и прибывшие могут спокойно выходить из вагонов на перрон, чтобы подышать свежим воздухом и немного пройтись. Встречающие толпились поодаль, за одноэтажным зданием станции, откуда раздавались их взбудораженные, приглушенные расстоянием голоса.
– Сюда, Ваше Императорское Величество, – сказал старший флигель-адъютант, открывая дверь. – Это кабинет начальника станции.
Николай II вошел через распахнутую дверь в помещение, где на крошечном столе, укрытый затертой зеленой клеенкой, размещался большой черный телефон, а перед ним – два обтянутых дерматином стула. На одном из них сидел начальник станции в темной тужурке и служебной фуражке.
– Ваше Императорское Величество! – выпучив глаза, вскочил начальник станции, когда увидел вошедших.
– Полноте, голубчик, – отмахнулся государь, – лучше давайте-ка, соедините меня с Александровским дворцом. Вот по этому телефону, – положил он на стол лист, на котором было несколько разборчиво написанных цифр.
– Это в Царском селе? – успокоившись и разглядывая номер, спросил начальник станции.
– Именно там.
– Это мы щас, мигом, Ваше Императорское Величество! – Крутанув дважды ручку, он боевито произнес: – Соедините меня с Александровским дворцом! Царское село. Да я и без тебя знаю, что там царь живет! Только царь сейчас здесь находится, рядом со мной, и хочет домой позвонить… Да, на станции. Какие могут быть тут шутки, мать твою расстак! Я, по-твоему, баловством занимаюсь?! – вскипел начальник. – Делать мне больше нечего. Ты меня давно знаешь? И когда я так шутил? Это ты из ума выходишь…
– Позвольте, я сам переговорю, дайте мне трубку, – мягко предложил Николай II и протянул ладонь.
Начальник станции вытер ладонью пот, проступивший на лбу крупными каплями, и передал трубку Николаю Александровичу:
– Берите, Ваше Императорское Величество.
Взяв трубку, царь громко произнес:
– Это вас государь беспокоит. Да, он самый, Николай Александрович Романов… Понимаю, конечно… Свяжите меня, пожалуйста, с Александровским дворцом. Номер телефона? Четыре, три, два, шесть… Записали?.. Ничего, я подожду… Кто под этим номером? Барон Фредерикс. Да, все так…
Министр Императорского двора Владимир Борисович Фредерикс[24], почти старик, с благородной внешностью французского служаки, пользовался у венценосной семьи особым расположением и был доверенным лицом самого государя. Николай Александрович, одинокий с малолетства, недоверчивый к ближайшему окружению, всегда знал, что однажды может быть ими предан. И в тоже время он ни на секунду не сомневался в верности барона Фредерикса, а потому нередко поручал ему исполнение самых сложных поручений.
– Слушаю вас, Николай Александрович, – прозвучал голос барона.
Флигель-адъютанты вместе с начальником станции тихо вышли из помещения. Николай II лишь благодарно улыбнулся на это.
– Владимир Борисович, я бы хотел поручить вам одно деликатное дело.
– Я весь во внимании, государь.
– Сегодня ночью ограбили Казанский Богородицкий девичий монастырь. Из него украли Чудотворную Казанскую икону Божией Матери.
– Эта очень прискорбная весть, Николай Александрович… Для России Казанская икона много значит. Даже не верится в свершившееся…
– Признаюсь, мне тоже не верится… Но, тем не менее, это так. Сейчас для Российской империи наступил непростой период. Один из российских старцев в своем предсказании утверждал, что если пропадет эта икона, то не станет и государства Российского.
– Николай Александрович, эти… как бы это помягче выразиться… мудрецы… Они всегда говорят только скверное. Ничего из того, что они предрекали, не сбывается. Я бы на вашем месте, государь, не верил ни единому их слову.
– И я не хочу верить, но пренебрегать сказанным – тоже не имею права. В такие пророчества верит очень много народа, что может повлиять на политическую ситуацию в стране. Постарайтесь узнать неофициальным путем, действительно ли икона похищена или все было подстроено? А если все-таки первое, то кто именно стоит за этим святотатством? Японцы, турки? – государь старался говорить спокойно, но его речь становилась все более взволнованной. – У России немало недоброжелателей, и каждый из них способен на любое гнусное преступление, только чтобы досадить России.
– Сделаю все от меня зависящее, Николай Александрович, – глухо пообещал барон.
– Я далек от разного рода мистификаций, но многие полагают, что в России с исчезновением Чудотворной Казанской иконы Богородицы начнутся беспорядки, способные привести к непредсказуемым последствиям. Свяжитесь с казанским губернатором, пусть немедленно приезжает в Санкт-Петербург с докладом о произошедшем! Мне предстоит весьма обстоятельный и непростой разговор с ним.
– Свяжусь незамедлительно.
– И еще… Наверняка этим уголовным делом будут заниматься лучшие сыщики губернии, я бы хотел, чтобы к моему приезду Плеве подготовил результаты предварительного расследования. Я хочу знать все! Даже малейшие детали.
Государь положил трубку и взялся за перо и бумагу, лежавшие на столе. Макнув перо в чернильницу, быстро набросал на листке записку казанскому губернатору.
«Петр Алексеевич, немедленно отыскать преступников, ограбивших Казанский Богородицкий монастырь. В случае неисполнения моего требования все высшие полицейские чины будут отправлены в отставку. А также будет поставлено под сомнение Ваше пребывание на должности Казанского губернатора. Николай».
С листком бумаги царь вышел на перрон, где его дожидались негромко переговаривающиеся флигель-адъютанты; начальник станции стоял немного поодаль и участия в разговоре не принимал. Похоже, он до сих пор не мог осознать, что к нему на станцию заехал сам государь. Обычный человек, вроде бы ничего особенного, даже простоват где-то, в форме полковника[25], – и только аксельбанты на мундирах офицеров да погоны на их плечах с вышитыми вензелем инициалами Его Императорского Величества заставляли поверить, что случившееся – явь.
– Ну вот видите, как все просто, – улыбнулся Николай Александрович. – Очень вам благодарен.
– Рад стараться, Ваше Императорское Величество! – вытянувшись во фрунт[26], прогорланил начальник станции.
Государь неодобрительно покачал головой:
– Полноте вам, голубчик, вы сейчас всю окрестность переполошите. И вот вам еще телеграмма, – протянул Николай Александрович листок исписанной бумаги, – отправьте ее от моего имени Казанскому губернатору Полторацкому.
– Слушаюсь, Ваше Императорское Величество!
До намеченного отправления в Уфу оставалось десять минут. Государь вернулся в поезд.
– Николай Александрович, мы Вас заждались, – произнес тревожно граф Алексей Олсуфьев[27], часто сопровождавший государя в поездках. – С Вами все в порядке?
– Не переживайте, Алексей Васильевич. Мне нужно было срочно позвонить в Петербург.
Поезд, громыхнув тоннами железа, дернулся, а потом мягко стал набирать разгон. Через час с небольшим поезд № 1 прибыл в Уфу. Предстоял долгий, полный событий день.
Вечером Николай Александрович отправился в свой вагонный кабинет. В нем все пребывало в точности, как он оставил. На кожаном диване лежала смятая подушка и аккуратно сложенное вчетверо одеяло. На столе – раскрытая тетрадь с записью, сделанной вчерашним вечером.
Сев за стол, государь прочитал последнюю строчку: «Перешли пешком через Волгу по мосту. Вечер был очень теплый.» и, макнув острое перо в чернильницу, продолжил:
«29 июня. Вторник.
Сегодня был отдых, т. к. ехали целый день и смотров не было. На некоторых станциях на остановках представлялись депутации. ВУфе была встреча побольше и спочет. караулом от 243-го пех. Златоустовского п. Тут же видел 7 солдат и матроса, раненых при Ялу, кот. возвращались назад. Днем начался подъем на Урал. Проезжали замечательно красивые места, кот. смотрели, сидя в заднем вагоне поезда. Погода стояла теплая, но дождливая»[28].
Глава 8
Октябрь 2000 года
Встреча с папой римским
С утра Камиль Исхаков был в кабинете президента Татарстана.
– Выкладывай, Камиль, с чем пришел? – добродушно спросил Минтимер Шаймиев[29].
– Минтимер Шарипович, через три дня в Ватикан лечу на личную встречу с Папой Римским. Буду просить его вернуть Казанскую икону Божией Матери в Казань. Хотелось бы, чтобы в республике поддержали. Если это возможно, я бы попросил вас написать письмо Папе, что вы поддерживаете передачу иконы Казани.
– Везучий ты, Камиль, за что не берешься – все у тебя получается. Может, поделишься своим секретом?
– У вас учусь, – широко улыбнулся Камиль Исхаков.
– Многие тоже учатся, но не у всех получается.
– Минтимер Шарипович, нет никакого секрета. Просто люблю свой родной город, люблю казанцев, работаю много для них. Поэтому получается.
– Я все это понимаю, – улыбнулся Шаймиев. – А ты знаешь, я ведь тоже писал письмо в Ватикан, чтобы они икону вернули.
– Да? – удивленно протянул Камиль Исхаков. – И что же они ответили?
– В том то и дело, что они даже не ответили. Видно, у них своих дел полно. Не до нас! Да я и не обижаюсь… Рафаэль Хакимов меня подбил. Сам написал, а я уж только подписал. Я тогда ему сразу сказал, что это авантюра. А ты вот взялся за это дело, и оно у тебя сразу получилось. В Ватикан даже пригласили – и не на общую беседу, а наличную! А ведь даже президент России с Папой еще не встречался. Опередил ты его.
– Возможно, что мне где-то немного и повезло. Настойчив был.
– Напишу я такое письмо. А еще и Папу Римского в Татарстан приглашу. – Дружески улыбнувшись, Минтимер Шарипович добавил: – А вдруг приедет! У нас в Татарстане много чего есть интересного. Природа, например, красивая… Нашу Волгу ему покажем, в Раифский заповедник отвезем, в Свияжск… Но что-то мне подсказывает, что ты справился бы и без моего благословения. Письмо я передам тебе завтра, и держи меня в курсе, хочу знать, как продвигается дело.
– Конечно, Минтимер Шарипович, – поднялся Камиль Исхаков и, попрощавшись, направился к двери.
– Вот скажи мне, Камиль, только начистоту, ты действительно веришь, что Папа Римский отдаст Казани икону? – остановил Шаймиев мэра у самого порога неожиданным вопросом.
– Уверен, что так оно и будет, – твердо произнес Камиль Шамильевич.
– И что, у тебя нет даже тени сомнения?
Пожав плечами, мэр произнес:
– Нет.
– Откуда такая убежденность?
– Мне трудно это объяснить… Но я просто чувствую, что Папа не сможет поступить по-другому.
«БОИНГ» ПОСЛЕ КОРОТКОГО РАЗБЕГА ВЗЛЕТЕЛ И, РАЗВЕРНУВШИСЬ НА ВЫСОТЕ ДВА КИЛОМЕТРА, ВЗЯЛ КУРС НА РИМ. Картина с католическим храмом стояла возле кресла. Краски на ней уже подсыхали, но следовало оставаться внимательным, – достаточно одного неосторожного движения, чтобы обляпаться всей этой масляной архитектурной красотой. В запасе оставались почти сутки, – по прилету надо попробовать как-то подсушить картину. А художник постарался: нарисовал очень красивый костел с острыми крышами и разместил его точно на пересечении улиц.
Когда находишься в ожидании, путь кажется длинным, и только когда шасси касаются взлетной полосы, осознаешь, что в действительности время стремительно течет.
Добрались до Рима. Время до встречи с понтификом провели в волнении, – впереди полнейшая неопределенность. Оставалось полагаться на судьбу.
Камиль Шамильевич, стоя перед зеркалом, уже в который раз пересказывал монолог, которым хотел убедить Папу вернуть Казанскую икону Божией Матери на родину. Многократно обдуманные слова теперь казались неубедительными, неточными, не отражающими суть дела. И он вновь переписывал вступление к беседе.
Половину ночи Исхаков провел в глубоких сомнениях: все ли сделано правильно, может, где-то допустил досадную оплошность? И вновь перелистывал в памяти прошедшие дни. Вроде все исполнено так, как положено. Впрочем, изменить что-либо уже невозможно, тем более нельзя отыграть назад – в предстоящем мероприятии как со стороны России, так и со стороны Святого Престола участвует много влиятельных людей, и теперь лично от него зависит очень малое, поэтому следовало положиться на судьбу. Но самое главное – нужно поспать. Пусть ненадолго, но оказаться в забытьи, которое непременно восстановит потраченные силы и придаст уверенности на предстоящей встрече.
Фания уже спала. Стараясь не разбудить жену, Камиль прилег рядом. Некоторое время он просто смотрел в потолок, представляя, как может пройти аудиенция, а потом неожиданно уснул.
ОСТАВАЛОСЬ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОБРОДИТЬ ПО РИМУ.
Утром гулко зазвонили колокола. Исхаков подошел к окну и раздвинул плотные темно-синие занавески. Напротив гостиницы стоял величественный собор с колокольней, расширяющейся складками книзу, отчего храм напоминал монаха, которого одели в каменную рясу. На твердом подоле, словно опасаясь, что собор сумеет ракетой взмыть к небесам, стояла большая группа туристов и смотрела на огромные колокола, заливавшиеся перезвоном.
Город восхищал. Красиво. Празднично. Но в нем, несмотря на впечатляющие размеры и оживленность, оставалось немало уютных сквериков, где можно отдохнуть от городской суеты и побыть наедине с собственными мыслями.
Пара медленно шла вдоль Тибра[30], наслаждаясь обществом друг друга. Впереди показалось прекрасное трехэтажное деревянное строение, которое будто сошло со страниц альбомов о деревянном зодчестве и не затерялось среди тысячелетних каменных построек. Постояли подле него, обменялись мнениями и неспешно отправились дальше. Их окружала добродушная тишина, иной раз прерываемая звуками автомобильных клаксонов, которые долетали откуда-то издалека. Смотрели на неторопливо скользящий поток воды, каждый думал о своем. Молчание не тяготило. На душе было легко. Пройдя с километр, решили присесть на лавочку в тенистом сквере возле застывшей в граните нимфы. Это была даже не скульптура, а памятник счастливому настроению.
– Надо бы нам тоже побольше памятников в Казани установить, – сказал Камиль Шамильевич, посмотрев на жену. – Это будет двойная польза. Во-первых, останется память о выдающихся людях города, казанцы еще будут больше знать о своей истории, а во-вторых, памятник украсит улицу или сквер. Вот сколько лет всем этим скульптурам? Несколько сотен лет, а то и под тысячу!!! И никому они не мешают. Фания, знаешь, что в последний раз мне больше всего понравилось в Питере?
– И что же?
– Памятник! И знаешь кому? Птичке! Чижику-Пыжику, который на «Фонтанке водку пил». Помнишь такую песенку?
- «Чижик-пыжик, где ты был?
- На Фонтанке водку пил.
- Выпил рюмку, выпил две –
- Зашумело в голове».
– Как интересно! Но ведь у нас такую же песню поют про Казанку.
– Верно… Памятник Чижику-Пыжику небольшой такой, сантиметров десять, его установили на специальном постаменте, на набережной у Михайловского замка.
– А где именно?
– Рядом с Первым Инженерным мостом, мы с тобой там сто раз проходили! Причем Чижика-Пыжика никак не достать, постамент закреплен прямо на отвесной стене, над самой водой. А знаешь, почему его так назвали?
– Расскажи, – Фания внимательно посмотрела на мужа.
– До революции там размещалось Императорское училище правоведения, а студенты носили мундиры зеленого цвета, при этом у них были желтые отвороты на рукавах и воротнике. Эта расцветка очень напоминала чижа, а еще они носили пыжиковые шапки. А так как они были студентами и любили крепко выпить, про них и сочинили эту песенку. Вроде бы памятник не старый, но уже образовались свои традиции.
– И какие же?
– Например, нужно загадать желание и попасть монеткой в постамент – и тогда желание непременно сбудется, вот только монетка обязательно должна остаться на камне. И еще одна интересная традиция образовалась, – широко заулыбался Камиль Шамильевич. – Но это уже для молодоженов. Жених должен на веревке спустить к Чижику-Пыжику рюмку, заполненную водкой, и чокнуться с клювом птички. И тогда в семье всегда будет счастье. Вот только разбить он эту рюмку не должен. Я бы тоже хотел для казанцев придумать какой-нибудь необычный памятник, чтобы потом родилась какая-нибудь добрая традиция.
– И какой бы ты хотел памятник поставить?
– Вот это как раз самый трудный вопрос… Например, можно поставить памятник «казанскому сироте». Ведь это выражение всем известно. Мне, думается, что этот памятник не должен быть грустным, наоборот, он должен поднимать горожанам настроение, быть веселым, с эдаким хитроватым прищуром, чтобы у каждого прохожего вызывал улыбку.
– И какая тут может появиться традиция? – с любопытством спросила Фания.
– Скажем, кто его погладит по голове, тот будет богатым, удачливым, успешным. Желающих нашлось бы предостаточно. Через месяц у «сироты» голова засверкала бы, как у золотого! А вообще, такие путешествия как-то расширяют кругозор.
– Камиль, ты все время в работе. Даже сейчас думаешь о городе.
– Что поделать, меня уже не переделаешь… А знаешь, откуда у меня взялась идея поставить часы у нас на «Кольце»[31]?
– Откуда?
– От часов Гринвича! – весело объявил жене Камиль Исхаков. – Когда я первый раз приехал в Лондон, нам устроили экскурсию по городу и показали эти часы. Они находятся на воротах Королевской обсерватории в Гринвиче. Это ведь самые главные часы в мире! От них отсчитывается время для всего человечества! – восторженно продолжал Камиль Шамильевич. – И я подумал: а почему бы и нам не смастерить подобные часы? Вот так похожие часы и появились на «Кольце»… Теперь время дня казанцев начинается с них, – широко улыбнулся мэр. – В командировках я много зданий для города подсмотрел: у голландцев, немцев, французов… И потом все это построил в Казани. Да что там здания, меня впечатляли целые улицы! Несколько лет назад был в Германии, и проездом мы заехали в милый уютный городок под названием Гейдельберг. Так вот, мне там понравилась пешеходная улица, Хаупт-штрассе. Довольно длинная, и потребуется целый день, чтобы пройти ее из одного конца в другой, если по дороге заглядывать в многочисленные магазинчики и распивать в них кофе. Считается, что она еще и самая старая пешеходная улица в мире… И я тогда подумал, а почему бы нам в Казани не сделать такую же? По обе стороны дороги будут магазинчики и кафешки, будет играть живая музыка, артисты будут веселить прохожих. Но, видно, москвичи тоже посещали город Гейдельберг, так что здесь они меня опередили.
– Камиль, ты опять шутишь!
Посмотрев на часы, Камиль Шамильевич произнес:
– Не до шуток. Нам нужно уже поторапливаться. Скоро аудиенция.
На солнце накатила серая тучка, и неожиданно закрапал жалостливый дождь.
В ВАТИКАН ПРИБЫЛИ ТОЧНО К НАЗНАЧЕННОМУ ВРЕМЕНИ. Получили личные пригласительные билеты в специальном окошке и прошли в Апостольский дворец, где размещалась официальная резиденция Папы Римского. Казанскую делегацию с любезной улыбкой уже встречал худощавый учтивый кардинал, он что-то произнес, обращаясь к гостям негромким низким голосом, а молодой полноватый священник рядом с ним на хорошем русском языке представился и повторил сказанное кардиналом:
– Я ваш переводчик, Франческо Бигацци. Кардинал уточняет: вы делегация из Казани, приехали на личную аудиенцию к понтифику?
– Именно так, – подтвердил Камиль Исхаков. – У меня личная встреча с Иоанном Павлом II, а потом он обещал пригласить к себе всю нашу делегацию.
Священник перевел эти слова кардиналу. Тот утвердительно кивнул и что-то сказал:
– Кардинал сказал, что наличную встречу вы идете со мной. Остальные должны подождать здесь.
– Понимаю.
Франческо Бигацци вновь повернулся к кардиналу, который что-то произнес:
– Но кардинал спрашивает, что это громоздкое у вас в руке?
– Это картина, хотелось бы преподнести ее Папе в подарок.
Переводчик мгновенно перевел и выслушал ответ:
– Все в порядке… Теперь проследуем за кардиналом.
Они отправились по длинному коридору, стены и потолки которого великие художники Ренессанса расписали сценами из Библии. Прежде их можно было увидеть только на картинках, сейчас они находились едва ли не на расстоянии вытянутой руки. Поднялись на третий этаж дворца, где размещались залы для аудиенций. Кардиналы в алых мантиях, стоящие вдоль стен, с откровенным любопытством разглядывали визитеров. По коридору слабым ветерком пронесся шепот:
