Начало Древней Руси
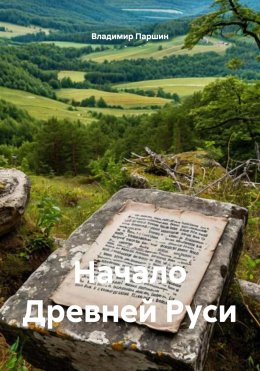
От автора.
Начиная разговор об истории Древней Руси, необходимо прежде всего определиться с некоторыми моментами.
Во-первых, с интересующим историческим периодом. В настоящее время известно, что о русах и Руси до IX в. нет достоверных (не вызывающих споров) известий. Любые гипотезы и предположения, не подтвержденные синхронными событиям письменными источниками и археологией, остаются только гипотезами и предположениями. Нас будет интересовать период IX-X вв.
Во-вторых, с фактом, что первичная Русь могла быть не славянской. Поэтому будем в соответствии с источниками использовать термины «рос, Росия» и «рус, Русь».
В-третьих, могли одновременно сосуществовать две (или более) Русии, не связанные между собой.
В-четвертых, источниками будут только документы, синхронные рассматриваемым событиям, или отстоящие от событий не более одного столетия. В более поздних источниках авторы или просто повторяют уже известное, или известные события и факты изменяют в угоду современным им обстоятельствам. В частности, русские летописи не могут в данном случае служить источник, т.к. самые ранние записи сделаны на рубеже XI-XII веков, все диалоги – вымысел летопсица (он не был очевидцем). Да и хронология этой летописной истории оставляет желать лучшего (ученые называют ее условной хронологией).
Важным учитываемым фактором будет гидро-климатическая ситуация в IX-X вв. Согласно данным [63;127;128;234;235], самым холодным и влажным за истекшие два тысячелетия был XV век., а «наиболее сухой и теплый период водного минимума падает на VIII и IX века.» Уровень Каспия, согласно [174], был на 4 м ниже современного (современный уровень Каспия составляет минус 28 м, а был минус 32 м). Исследования поселений на водоемах Псковской и Новгородской областей [127; 128] показало, что основания срубов домов под водой находятся на глубине около 3 м от современной поверхности воды. Такая же ситуация наблюдается на археологических объектах Смоленщины, на озерах Латвии и Эстонии. Это значит, что многие реки напоминали ручьи (некоторые совсем пересохли), а пороги (особенно Волховские, Мстинские, Днепровские и Двинские) были непроходимы. Таким же образом реагировали и подземные воды. Согласно [96], самый низкий уровень грунтовых вод был в VIII и IХ веках для грунтов Европейской части бывшего СССР. Пониженная увлажненность в указанный период привела к смене злаковых в северо-западном регионе древней Руси. Т.е. абсолютно точно, что в VIII и IХ веках уровень воды в реках и озерах на территории древней Руси был минимальным. С X в. начинается период повышения влажности, пик которого приходился на XIV-XV вв.
Если такие исходные предпосылки читающими принимаются, то можно двигаться дальше.
О Руси в IX веке.
Считается, что в IX столетии росы-русы упоминаются в Бертинских анналах, в нападении на Амастриду, в нападении на Константинополь в 860 г., в «Окружном послании» патриарха Константинопольского Фотия, в одной из дарственных грамот Альтайхскому монастырю короля Людовика II Немецкого, в «Баварском Географе» и в труде Ибн Хордадбеха.
В Бертинских анналах за 839 г. упоминаются послы народа Rhos (рос). Первый, кто признал в послах русов, был так нелюбимый советскими и российскими историками А-Л. Шлецер: «Люди, называемые в Германии шведами… в Константинополе называют себя русскими, – вот главное положение, выводимое нами из сего места» [233]. Именно он перевел chaganus как имя собственное Хакан (Hakan). Дискуссия об этнической составляющей этого народа продолжается до сих пор, а значит общепринятого в историческом сообществе решения нет. Все исследователи, полагают, что венгры (мадьяры), занявшие северное Причерноморье и междуречье Днепра и Дона, перекрыли возможность послам вернуться. Но при этом упускается тот факт, что венграми не был перекрыт Керченский пролив, сохранялось торговое сообщение между Константинополем и Таматархой (поставки «греческого огня»), а значит сохранялся вариант возвращения из Константинополя по Черному морю до Таманского полуострова, рукавов реки Кубань и далее до устья Дона. Тот факт, что послам не был предложен данный вариант, может свидетельствовать о том, что послы прибыли не с территории Древней Руси, о чем излагается в [144].
Такими же этнически неопределенными остаются нападавшие на Амастриду. Согласно [170]: «однозначно признать реальность нападения русов на Амастриду в 820-830-х годах не кажется возможным.» Общепринятого в историческом сообществе решения нет, поэтому в [144] предложен свой вариант.
Наиболее дискуссионным является нападение на Константинополь в 860 г. Дискуссионным является потому, что единственными документами, соответствующими IX веку, являются гомилии патриарха Фотия и его Окружное послание 867 г. Другие хроники: Патмосская рукопись (Patmos. 266) [3] и “Житие патриарха Игнатия” датируются началом Х в. Хроника Продолжателя Амартола (хроника Продолжателя Феофана [217] и хроника Симеона Логофета [215]) – середины Х в. Более поздние хроники – «Венецианская хроника» Иоанна Диакона [53], русские летописи и Брюссельский кодекс [17] – источники ХI-XII-XIII вв.
В период нападения никто не знал этнической составляющей нападавших. Об этом свидетельствуют гомилии патриарха Фотия. В рукописи G они названы “На нашествие варваров” (комментарии к [143]). Фразы – народ севера, гроза гиперборейская, скифский народ – не дают этнических характеристик. Согласно комментарию к [143], термин скифский народ «в византийской литературе приобрел характер довольно расплывчатого этногеографического термина и мог применяться как указание на любых варваров, причем не только из Северного Причерноморья [Phot. Hom. P. 89. Note 43]; любопытно отметить, что “варварским и скифским наречием” во времена Фотия могла быть названа даже латынь: именно так именует этот язык император Михаил III в послании к папе Николаю I, который был оскорблен таким высокомерием греков (PL. T. 119. Col. 930, 932).» Особенно выделяется в тексте гомилий фраза: «Народ незаметный, народ, не бравшийся в расчет, народ, причисляемый к рабам, безвестный – но получивший имя от похода на нас». Эта фраза ясно указывает, что «Ῥῶς=Рос» является не этнонимом, а экзонимом. И это совсем не Рус. Согласно [37;190], греческая буква «ω» всегда читается и озвучивается только как «ο»: ώρα [´ора], άνθρωπος [´анθропос], συναγωγή [синаγой´и], Ρώσος [р´осос], Ρωσία [рос´иа], ρωσικά [росик´а]. И слово Pως всегда читалось и звучало только как Рос. Некоторые авторы в стремлении связать Pως и Рус утверждали, что наличие диакритических знаков меняет произношение буквы «ω» на «у». Никакие диакритические знаки не меняют произношение. Они либо означают ударение, либо долгий звук. Для звука «у» в греческом алфавите был диграф «ου». Он обозначает всегда долгий гласный звук «у». Например: δοῦλος – дулос; Mουsa – Муса; λουλούδι; μου; Ουκρανία; Ῥοσκόπους.
В Окружном послании 867 г. [107] патриарх Фотий не случайно использует сочетание «τῶν λεγομένων Ῥῶς» -“так называемый народ Рос”. Особо отметим, что не «именуемый», что синонимично «называемый», а именно «так называемый». Отличие состоит в том, что согласно [203;16;208], «так называемый» может означать как носящий название, так и мнимый объект, т.е. содержит недоверие. Патриарх даже через 7 лет в точности не знал этнос нападавших. Сочетание «τῶν λεγομένων» можно встретить в переводах трактата «Тактика» Льва VI Мудрого [189], в частности, (Leo. Tact. III, 10): «κόμητες ήγουν οί τών λεγομένων βάνδων άρχοντες» – «комиты, иначе архонты так называемых банд» («комит» от слова κώμη, деревня, селение, имеющего тождественный смысл со словом βάνδα).
Т.е. Ῥῶς – это экзоним, который был дан греками, основываясь на пророчество Иезекииля 38-39. Об этом же указано и в комментариях [107]: «Возможно, что во время нашествия 860 г. в Константинополе вспоминали известное библейское пророчество (Иез 39, 1 сл.)».
Этот экзоним появится в заглавии гомилий «На нашествие росов» только при составлении сборника в поздних списках XVI-XVII вв. Византийцы библейское слово «Рош» неизменно понимали как название народа и, начиная с V в., прилагали его к различным «варварским» общностям (в частности, к гуннам), реально угрожавшим империи. В IX в. сознание византийцев немедленно связало нападавших с библейским «Рош». Именно патриарх Фотий первым произвел такое сближение, потому и использовал сочетание «так называемый». Текст пророчества (но с искажением) непосредственно был применен к русским в «Житие Василия Нового»: «Варварский народ придет сюда на нас свирепо, называемый Рос и Ог и Мог». Именно из этого отождествления Рош=Рос и пошло слово «Росия», но не рус и не Русь.
Отметим, что слово Русь (рус) связано с греческим словом Ῥοῦς. Согласно [3]: “Cod. Patmos. 266 свидетельствует об употреблении этнонима Ῥοῦς в его протографе, вышедшем из патриаршего скриптория в 877-886 гг., по свежим следам событий 860 г. … древнейший список Типика Великой церкви, Patmos. 266 начала X в., зафиксировал иную огласовку этого этнонима, Ῥοῦς, вполне соответствующую этнониму «роусь» в славянской (hecm), арабской (ar-Rūs) и латинской (Ruzzi/ Rusci/ Rusi, etc.) традициях, но в Византии распространившуюся лишь в X-XI веках”. Т. о., впервые русы появляются в византийской хронике в виде этникона Ῥοῦς, форма которого не происходит от формы Ῥῶς. Чтение греческого Ῥοῦς позволяет получить ту самую третью форму – роус, которая фигурирует в Русской Правде в XI веке (Правда Русская. Под ред. акад. Б.Д. Грекова. Т.1. Тексты. М. Л. Изд. АН СССР, 1940). Но греки все равно и дальше будут именовать русов росами (как глубоко проникло в сознание пророчество).
Где же была локация этих росов-русов?
Изначальная этническая неопределенность позволила русским, советским и российским историкам видеть в нападавших: кто-то – ладожан и новгородцев с варягами; кто-то – представителей Среднего Поднепровья; кто-то представителей низовий Днепра; кто-то – жителей Тавриды; кто-то донских и приазовских аборигенов.
Рассмотрим эти версии, но для начала напомним об исходном пункте относительно гидро-климатической ситуации в IX в.
«Северная» версия. Прежде всего надо отметить, что из Ладоги вытекает только одна река – Нева, по которой на юг не добраться. Значит надо подниматься против течения по Волхову в оз. Ильмень. Но и здесь все реки только впадающие в озеро. Значит вновь против течения Ловати к Касплянским волокам. Однако у археологов есть серьезные возражения относительно функционирования этих волоков в данное время. В частности, археолог В.С. Нефедов [135] писал: «Что же касается традиционно фигурирующих в историографии путей по Каспле (от оз. Касплянское вниз по течению реки) и по Днепру ниже впадения в него р. Катынка, то их стабильное функционирование в конце I тыс. вызывает серьезные археологические сомнения по причине практически полного отсутствия на них памятников этого времени.» Относительно волока к Днепру в [60] отмечено следующее: «с волоками к Днепру – полный провал. Ну, не подходит нигде Каспля к Днепру хотя бы так же близко, как Ловать к Усвячи. … Да, не зря Нефёдов про зиму сноску сделал!» Поэтому недопустимо применять текущие условия для оценки (реконструкции) ситуации более 1000 лет назад и на основе современных карт. Значит допускаем, что суда переносили или перекатывали. Но ведь далее на Днепре тоже «не сахар» – пороги (перед Оршей) и на среднем Днепре – Днепровские пороги, которые в период минимального уровня вод были непроходимы. Т.е. путь должен был сразу проходить максимально по суше.
Но м. б. там (на северо-западе) было такое множество народа, что «переносили» свои суда через любые волоки и пороги? Основными центрами в то время могли быть Ладога и Городище (в XIX в. получившее название Рюриково).
Археология говорит, что только в течение IX столетия Ладога пережила два уничтожающих пожара – около 840 и около 865 годов. Пожар 840-го года, видимо, был связан с набегом, после которого словене и пр. общности стали данниками каких-то «варягов из-за моря». Сам термин «варяг» появится только в XI веке и до сих пор вызывает споры относительно их этноса. По «северной» версии получается – только отстроились после уничтожающего пожара 840 г. и пошли в набег? Сомнительно. Согласно [112], «Особых оснований для интерпретации культурной общности, сложившейся в Поволховье к 1й трети IX в. (IV ярус), как «руси», полиэтничной по характеру, но с лидирующей ролью скандинавов нет. … Ладога выступила связующим звеном между морским пространством Балтики и континентальными просторами Восточной Европы. Поэтому борьба за обладание этим пунктом становилась неизбежной.» Согласно [113], «говорить о реальной "полиэтничности" поселка с несколькими десятками или одной-двумя сотнями постоянных жителей вряд ли возможно, а именно такой видится Ладога.»
Возникает закономерный вопрос: «Как понимать сообщение русских летописей – "И от тех Варягъ, находникъ техъ, прозвашася Русь, и от тех словет Руская земля; и суть новгородстии людие до днешняго дни от рода варяжьска"?»
Относительно датировки самих летописей уже было сказано ранее, т.е. через 200 лет после событий. Т. о., летописец (цы) не были очевидцами и современниками описываемых событий. Во-вторых, в IX в. еще не было никакого Новгорода (как и Киева). В истоке Волхова было Городище (Рюриково). В-третьих, кроме них – летописей, больше нигде в хрониках того (IX-X вв.) времени нет сообщений о призвании в Приладожье-Приильменье Рюрика. В-четвертых, сравнение разных списков летописей показывает разницу в текстах об одних и тех же событиях. В частности, о тех, кто участвовал в призвании князя. Повесть Временных Лет (ПВЛ) сообщает только, что за князем отправились за море «к варягам, к руси»; Новгородская Первая Летопись (НПЛ) не отождествляет варягов с русью (как ПВЛ), но перечисляет участников призвания князя: «словене, кривичи, меря, чудь»; в Лаврентьевском, Ипатьевском, Троицком, Академическом и Радзивилловском списках участники призвания князя «русь, чудь, словени и кривичи и вси». Получается на 5 призывавших пришло 3 князя. О доверии (точнее о недоверии) к летописям писали русские историки. Например, историк Д.И. Иловайский (1832-1920 гг.) [64] писал: «Наша летопись, как и все другие, начинается легендами. … Ни одно произведение русской словесности, несомненно принадлежащее дотатарской эпохе (до XIII в.), "не знает ни о варяге Рюрике, ни вообще о призвании варяго-руссов".» Историк М.Д. Присёлков (1881-1941 гг.) [165] писал: «повесть временных лет искусственный и малонадежный исторический источник, опираясь на который, нельзя воссоздать историю Древней Руси». Историк Я.С. Лурье (1921 – 1996 гг.) [121] также отмечал, что «для истории IX–X вв. “Повесть временных лет” является недостаточно надежным источником». При этом надо особо отметить, что летописные новгородцы не считали себя Русью даже в XII и XIII вв. Согласно НПЛ старшего извода: «Въ лѣто 6643 [1135]. Въ то же лѣто, на зиму, иде въ Русь архепископъ Нифонтъ съ лучьшими мужи … Въ лѣто 6650 [1142]. Епископе и купьце и слы новгородьскыя не пущаху из Руси. … Въ лѣто 6654 [1146]. Прѣставися въ Руси Всѣволодъ. … Въ лѣто 6657 [1149]. Иде архепископъ новъгородьскыи Нифонтъ въ Русь, позванъ Изяславомь и Климомь митрополитомь … Въ лѣто 6687 [1179]. … Томь же лѣтѣ иде Романъ из Новагорода Смольньску. Тъгда же новгородьци послашася по брата его по Мьстислава въ Русь. Въ лѣто 6688 [1180]. … И послаша новгородьци къ Святославу въ Русь по сынъ, и приведоша Володимира въ Новъгородъ, и посадиша и на столѣ въ 17 августа. … Въ лѣто 6719 [1211]. Приде Дмитръ Якуниць из Руси, и съступися Твьрдиславъ посадничьства по своеи воли старѣишю себе: тъгда же даша посадничьство Дъмитру Якуничю.»
Относительно термина «русь» в этой фразе. Он появляется в недатированной части ПВЛ сначала как этноним. Затем его смысловое содержание сменяется на социальный, т.е. переходит из этнонима в соционим. Поэтому некоторые исследователи считают, что эта фраза имеет не этническое, а социальное содержание. Термин «русь» не является изначальным названием для летописных «новгородцев». Он стал – на время – их социальным статусом; умер летописный Рюрик (в летописном 879 г.), исчезли летописные Игорь и Олег и сразу перестали словене-«новгородцы» прозываться Русью. Новгородцы до XIV века подразумевали под словом «русь» население сначала Киевской, а затем Суздальской земли. Поскольку «северная русь» представляла соционим, то цели этого соционима рассмотрим после завершения поиска локации первичной этнической Руси.
Вернемся к вероятным участникам похода на Константинополь. Европейские источники сообщают от 200 до 10 000 только судов у нападавших. Отбросим завышенные цифры и возьмем 200 по 40 воинов. Итого 8 000 бойцов. И ведь каждый должен быть вооружен. Стоимость вооружения в то время составляла в серебре: меч – 125 г (42 дирхема), копье – 50 г (17 дирхем), нож -3 г (1 дирхем). Если говорить о новгородских гривнах, то до XII в. северная "гривна", как мера веса снребра, составляла 204,75 г. На одного бойца – 178 г серебра (~60 дирхем), а на 8 000 – баснословные затраты для поселения не более 200 жителей. Увы, это даже не спускаясь по Днепровским порогам и через мадьяр.
Таким же образом отпадает и возможность нападения из Среднего Поднепровья – Днепровские порогии и плюс мадьяры от верхнего порога до моря. Некоторые авторы (сторонники днепровской версии) считают, что пороги можно было обойти [5] по рекам. «Выходя из Днепра, русы использовали русла двух его притоков. Верхний, выше трудоемких волоков вдоль порогов на большой излучине реки (от нынешних Днепропетровска до Запорожья): поднимались по р. Самаре, по ее левому притоку р. Волчьей и далее уже по её левым притокам рекам Гайчур, Мокрые Ялы (или ее правому притоку Кашлагач) или Сухие Ялы до их истоков, все в пределах современных Запорожской и Донецкой областей. Эти в прошлом глубоководные степные речушки-«канавы» берут начало из родников на северном склоне плоской Приазовской возвышенности. После элементарного волока плоскодонных долбленок на 2-4 км на юг русы спускали свои корабли в сразу глубоководные истоки рек Берда, Кальчик или Кальмиус и по ним попадали непосредственно в Азовское море, по первой названной – возле современного города Бердянска, по остальным – возле современного города Мариуполя. Обилие судов с суммарной многочисленностью их экипажей давали русам возможность противостоять нападениям». И снова авторы забывают гидро-климатическую ситуацию IX века, когда «степные речушки-"канавы"» практически исчезают, и более подходит Х-му и последующим столетиям, когда наблюдался процесс увлажнения климата.
Но может быть здесь в среднем Поднепровье было множество народа, которому все ни по чем. Итоги археологических изысканий киевских предместий приведены в [73;74;89;91;90;254]. Согласно этим изысканиям, до конца IX столетия не приходится говорить о каком-либо значимом или консолидирующем центре. Согласно [90]: "наблюдаем три небольших неукреплённых поселения культуры Луки-Райковецкой на соседних выступах Киевского плато: Старокиевском, Детинке и Кудрявце, окружённые рвами позднее (в Х в.), а также городище на Замковой горе, называвшееся летописью в контексте событий Х в. именно «градъ Кыевъ»". Только в конце IX века (первый спил датируется по дендрохронологии 887 г.) появляется ремесленный и торговый посад – Подол. Четкое чередование темных слоев (результат жизнедеятельности человека) и светлых слоев (песок) на разрезе свидетельствует о том, что в существовании Подола были неоднократные перерывы в заселении из-за разливов Днепра в периоды весеннего половодья. Относительно экономической части этих предместий конца IX – начала Х вв. мнение киевского археолога М.И. Сагайдак [177]: «даже в конце IX в, практически всю территорию Киева и его округи занимали хвойные и смешанные леса, а значит, о каком-либо развитом земледелии здесь можно говорить исключительно гипотетически». Согласно [242], до конца IX в. в Среднем Поднепровье «наблюдается почти полный экономический вакуум». А ведь бойцам надо было что-то взять с собой из провизии, а взять-то нечего. Регион-то экономически не развит!
И это без учета влияния мадьяр до низовий Днепра. А ведь венгерские отметки того периода фиксируются от побережья Черного моря до верховий Днепровских порогов и выше: на правом берегу Днепра – в Субботцах (Кропивницкий р-н, Кировоградской обл.), Коробчино (Новоукраинский р-н, Кировоградской обл.) и Волосское (Днепровский р-н Днепропетровской обл.), а также на левом берегу – Манвеловка (Синельниковский р-н, Днепропетровской обл.), у села Твердохлебы (Полтавской обл.). Самое северное древневенгерское захоронение в Поднепровье было обнаружено у с. Бабичи (Каневский р-н, Черкасской обл.). Европейские и арабские хроники свидетельствуют, что мадьяры проводили регулярные набеги на славян и продавали своих пленников византийским работорговцам в черноморском порту Керчь в обмен на парчу, шерсть и другие товары. По приблизительным оценкам польского историка Д. Колоджейчика, номинанта премии «За лучшее исследование в области истории, этнографии и искусствоведения Крыма», в год в Крым в среднем попадали около 10 000 славянских пленников.
Отдельно отметим, что археология не находит следов христианства в Среднем Поднепровье в IX в. [149, с. 219-220], а ведь патриарх Фотий говорил о крещении нападавшего народа. Следов присутствия скандинавов в киевских предместьях в IХ в. археологами также не обнаружено.
Т. о., версия о нападавших из Среднего Поднепровья не имеет под собой основы.
Относительно версии о локации нападавших в низовьях Днепра. Низовья Днепра начинаются от Запорожья, где Днепр делится на два рукава, образуя остров Хортица, и заканчиваются устьем. Ранее река ниже о. Хортица текла многими руслами по болотистой равнине, которую весной и во время летних паводков заливала вода. Это так называемые плавни, покрытые лиственным лесом, камышом, рогозом, заливными лугами, озёрами, болотами. Крупнейшие плавни простирались между Днепром и его левым притоком Конкой – так называемый Великий Луг (ширина – до 20 км, длина – до 60 км), отделённый узкой полосой плавней вблизи города Никополя от второго широкого комплекса – Базавлуцких плавней. Течение преимущественно быстрое, но встречаются тихие плесы и омуты с обратным течением. Глубины различные: есть перекаты, где глубина едва достигает 0,5 м, и есть ямы до 20-30 м. Но, это современное описание. А теперь представьте себе то же пространство с понижением уровня вод на 3-4 м. Даже долина реки изменилась после сооружения второй крупной плотины на Днепре и большого Каховского водохранилища. Сейчас почти вся территория Великого Луга, за исключением нескольких сотен гектаров в юго-восточной части острова Хортица и на левом берегу, залита водами Каховского водохранилища.
Прадельта нижнего Днепра со временем переместилась севернее в широтном направлении и заняла свое современное положение. А на месте старой дельты оставались несколько постепенно отмирающих рукавов. Один из таких рукавов (с названием Герр – γέρρον, γέρρα, γέρρος, по-древнегречески означает “плетенка”, “переплетение”, “сплетение”) отделял западную часть Кинбурнского полуострова с Кинбурнской и Тендровской косами от основной материковой части. Это подтверждено исследованиями [129]. Он отделялся от нижнего течения Днепра примерно в месте впадения р. Ингулец и впадал в Каркинитский залив в районе города Садовска. В то время сток рукава Герр был более существенным, судя по вытянутой с севера на юг полосе подов и многочисленных озер. До сих пор в Каланчакский лиман Каркинитского залива впадает рудимент днепровского рукава Герр – р. Каланчак. Подтверждением существования этого левого рукава Днепра, впадающего в Каркинитский залив, является факт обнаружения в нем и на прилегающем шельфе Черного моря палео-русла и образованного им каньона [65]. В свое время археолог В.В. Латышев (1855–1921 гг.) высказал предположение, что именно западная часть материка, отрезанная рукавом Герр, отождествлялась с островом Борисфен (Борисфенида). Но тогда ещё не было необходимых палеогеографических и археологических данных. И это предположение осталась без должного внимания. Теперь же имеющиеся данные полностью подтверждают давнее предположение В.В. Латышева. О плохом знании дельты Днепра того времени и немного позднее свидетельствует комментарий [129]: «О незнании реальности говорит и отсутствие на ранних картах обширной дельты р. Днепр, которую невозможно было бы не заметить, если бы через ее рукава осуществлялись торговые перевозки. Очевидно, отсутствие торгового судоходства в рукавах Днепра, его плавнях и болотах и было причиной отсутствия этих водных объектов на картах. Но на карте XVI в. уже обозначена дельта р. Днепр (р. Непер), изгиб этой реки (“лука”) и выделено междуречье р. Южный Буг и нижнего течения р. Днепр в виде треугольника, обозначенного portobono – “хорошая гавань”».
Сторонники нижнеднепровской версии считают, что центром этих росов было Олешье. Но до сих пор нет точной локации этого пункта. Есть два вероятных места расположения Олешья: остров Большой Потемкин в современной дельте Днепра и поселение Олешки (быв. Цюрупинск, рядом с г. Солонцы). На обоих объектах были найдены археологические артефакты, но эпохи уже т.н. «Киевской» Руси – не ранее Х в. Поэтому с учетом действий мадьяр (поиск и продажа пленников в рабство) – весьма сомнительно, чтобы отсюда шло нападение. Нет подтверждений и о христианизации жившего здесь населения.
На версию о жителях Тавриды наводят топонимы с корнем «рос» – Rossofar и Rossoca (местность южнее Евпаторийского\Майнакского озера) на итальянских картах (портоланах) и более поздние упоминания термина «тавроскифы». Вот только проблема в том, что портоланы датируются концом XIII – началом XIV вв., а Rossofar ранее назывался Эски Форос (старый маяк). Согласно [81], "Rossofar на деле является искажением lo Sofar; т.е. lo Foros, мыс Форос". Здесь действительно был маяк, которым всегда пользовались херсониты. Керамика, хозяйственные и жилые постройки, тип поселений в местах, где отмечены топонимы с корнем «рос», указывают на некоторую общность жившего здесь населения с алано-болгарами СМК Подонья и Приазовья. Относительно термина «тавроскифы». Археолог-историк И.С. Пиоро (1948-2005 гг.), специалист по истории и археологии Крыма позднеримского времени и раннего средневековья, считал, что крымские тавры были уничтожены еще до новой эры. Он писал [153]: “Если даже предположить, что крымские тавры продолжали существовать до первых веков н.э., то наиболее вероятная причина их исчезновения, по мнению В.Н. Дьякова, – агрессивная политика Рима в Крыму.” Таким образом, с т. зр. археолога, в то время в Тавриде не было никаких тавров. А термин скифы вообще охватывает территорию от Дуная до Волги и применительно к IX и более поздним векам является архаизмом. Вновь видим тех же мадьяр (венгров) в низовьях до моря. Обратим внимание на фразу патриарха Фотия, что нападавшие пришли из мест, где моря без пристаней. А здесь на Черном море имеется не только порт и пристань Херсонес, но и другие порты. Т.о., отпадает Таврида.
Таманский полуостров. Согласно [51]: «С юго-запада он омывался Черным, с севера – Азовским морем, а с востока его граница условно проходила по старому руслу реки Кубань. … В исследовании И.И. Ляпушкина впервые в культурном слое Таманского городища выделяется два периода – хазарский и русский.» В монографии археолога В.Н. Чхаидзе [225] отмечается, что «главным центром одной группы поселений являлась Таматарха. Фанагория, находилась на другом острове, отделенном протокой – древним руслом Кубани (Шимардинский рукав). Непосредственно в зону влияния Таматархи входили пять малых и средних по размерам поселений, которые располагались от нее не более чем в часе ходьбы. В период с третьей четверти VII в. до конца X в. на территории Таманского полуострова сложилась и существовала развитая многоступенчатая система расселения с городами-портами Таматархой и Фанагорией – центрами торговли и ремесла». Относительно экономики региона [225]: «Основой экономики являлось комплексное скотоводческо-земледельческое хозяйство, ведущую роль в котором играло некочевое, основанное на постоянных сельских поселениях, пастбищное скотоводство. … Фауна свидетельствует о наличии в средневековье как степных, так и лесных массивов на Таманских островах. Дикая фауна сильно отличается от современной. Процентное содержание костных остатков различных групп животных Таманского городища: а) среди домашних животных – бык (Bos gaurus brachyceros Rut) – 35,4 %; мелкий рогатый скот (Carpa aut oris) – 18,0 %; овца (Ovis aries) – 17,3 %; коза (Carpa hircus) – 8,4 %; лошадь (Equus caballus domesticus) – 6,5 %; б) среди дикой фауны – кавказский благородный олень (Cervus elaphus maral) – 4,1 %; кавказский зубр (Bison bonasus caucasicus) – 1,6 %; дельфин-белобочка (Delphinus delphis) – 0,4 %; кавказский лось (Alces cavcasicus) – 0,3 %; лошадь – степной тарпан (Equus gmrelini) – 0,2 %; Заяц-русак (Lepus europaeus) – 0,1 %; бобр речной (Cartos fiber) и куница каменная (Martes foina) – по 0,04 %. Таким образом, из реестра костей видно, что в средневековый период основным занятием обитателей Тамани являлось скотоводство. Охоте на диких зверей и птиц, а так же рыболовству, как подсобным занятиям, уделялось не слишком много внимания. Объектом охоты в большинстве случаев выступали крупные копытные – зубр и благородный олень, которые в то время водились в изобилии на территориях, прилегающих к дельте Кубани.» Основываясь на этих данных – не приходится говорить о меховом промысле, а данные археологии [122] говорят, что славян на Таманском полуострове в рассматриваемый период не было. Но ведь Ибн Хордадбех [214] писал о том, что купцы-русы торгуют не только мечами, но и мехами из земли славян. Поэтому версию о локации Руси на Таманском полуострове отклоняем.
Остается возможная локация нападавших в междуречье Дона и Донца – территория салтово-маяцкой археологической культуры (СМК). Здесь и меха в лесной зоне, и по археологу В.В. Седову «неизвестные летописцу донские славяне», и выходы как в Черное море (через Азовское), так и в Каспийское (через переволоку Дон-Волга). Племенная принадлежность “донских славян” до сих пор неизвестна, поэтому везде они записаны в кавычках. Они выделяются лишь по археологическим свидетельствам – находкам особой археологической культуры – боршевской [172]. Эту культуру (бассейн Верхнего и Среднего Дона) пытались связать с вятичами и северянами. Но отношение “донских славян” к вятичам и северянам до сих пор остаётся неясным. Поэтому ученые полагают, что они принадлежали к отдельной территориальной группировке, название которой не дошло до нас. А.В. Кожемякин [85], основываясь на топонимах со словом «русский» на восточной границе Подонья, определяет территориальные границы: Русский бор (Шиловский), Русский Рог (Воронеж), Русский лес (село Подгорное), Русская сторона (около Титчихи), село Русская Журавка (Верхнемамонский р-н). Названия со словом «русский» располагались по лесной полосе от устья реки Тихой Сосны до села Подгорного на Дону. Они обозначали пограничную полосу между русами и хазарами, поскольку эта территория соприкасалась с территорией с «козарскими» (т.е. тюркскими – хазарскими) названиями – урочище Козар, Козарский брод, Козарское поле и даже Козарское пустое место. С другой (западной) стороны поселения русов найдены [136], в частности, от Старого Оскола до Валуек. Сами поселения тяготеют к островному расположению, и их топография явно несет защитную функцию. В целом экономика данного населения в VI-VIII вв. носила торговый характер, с ограниченными возможностями. Транспортными артериями были реки Оскол, Уда, Хотомля, Большая Бабка, Нежеголь, Разумная, впадающие в Северский Донец и Дон. Боршевские поселения Подонья представлены селищами и городищами – Борщёвское, Воргольское, Титчиха и др. Согласно археологу С.А. Плетневой [155], к VIII-IX вв. относятся городища – Дмитровское (на р. Короча), Нежегольское, Волчанское (на р. Волчья), Салтовское (на Донце), Кабаково (устье р. Уда), Хорошево, Донецкое, Водяное, Мохначево (на Донце), Коробовы Хутора (на Донце), Гомольша (устье р. Гомольша). «Селища-посады рядом с городищами превышают размерами сами городища в соотношении от 1:2 до 1:7. … Размеры селищ обыкновенно очень значительны: длина вдоль берега реки доходит до 1 км, ширина до 200-300 м.» Археолог приводит список из 20 сел, расположенных близ городищ VIII-IX вв.
В результате арабо-хазарских войн в 40-х годах VIII в. в Подонье была переселена большая часть населения Алании (подвергавшейся нападениям арабов). Здесь есть необходимость в уточнении, касающемся похода Мервана в 737 г. В ряде работ со ссылкой на аль-Куфи (ум. в 926 г.) сообщается, что Мерван вышел за Дон, где захватил (увел в плен) 20 тысяч славянских семей. Не было в то время славян на нижнем Дону. Славянские поселения на нижнем Дону фиксируются только с IX века [221]. Но там уже прочно обитали болгары, оставшиеся от Великой Болгарии Кубрата. Нет заключения о славянстве нижднедонских поселений и городищ по результатам археологических раскопок и в [7].
Аланское население до этого вело устойчиво-оседлый образ жизни. Очевидно, что в первую очередь хазары переселяли мужское население – охрана северо-западных пределов каганата. Но и само население алан перебиралось, чтобы выжить. По [52]: «Долихоцефальные аланы, с узким и высоким лицом, сильно выступающим носом, оставившие катакомбные могильники в верховьях Северного Донца, Оскола и Дона, были сходны со средневековыми группами Северного Кавказа…». Экономика алан отличалась высокой культурой земледелия, скотоводства. Они имели многоотраслевое ремесло. Согласно [136]: «Свои поселения аланы устраивали на пустующих землях правых берегов рек Оскол, Северский Донец, Дон, Тихая Сосна. … Тщательный анализ стратиграфии поселения позволяет утверждать, что и после прихода алано-болгар коренное население никуда не сдвигалось и не уходило. Оно осталось на месте. Но в результате активного контакта с пришлым населением его материальная культура приобрела новые признаки – ныне салтово-маяцкая археологическая культура (СМК). В этническом плане местное население продолжало успешно развиваться, но уже не как самостоятельный, а составной компонент нового этнического объединения.»
Смешанные браки в течение трех поколений устойчиво дают новый этнос. Этот этнос представлял собой смесь аборигенов и алан-переселенцев. Согласно [93], чем теснее, крепче и длительнее были территориальные связи этих этнических групп, тем «более менялся, в буквальном смысле, облик алан лесостепного варианта. Происходило слияние двух этносов, постепенное превращение их в единый народ». Д.Т. Березовец в [13] писал: «В советской историографии живет наивная мысль, что русы – часть восточного славянства, что понятие и рус и славянин – идентичны. Утверждение это специально не обосновывалось. … Подводя итоги, нам кажется, что можно обоснованно утверждать, что все сообщения того времени VIII – начало X вв. трактуют русов и славян как разные народы. … русы были численным народом, жили ближе к арабскому миру и вступали с ним в более тесные отношения. … Восточные авторы знали население салтовской культуры под именем русов.» В итоге Д.Т. Березовец пришел к выводу, что: «русы арабских и персидских авторов жили между Доном и Северским Донцом и на побережье Азовского моря.»
Казалось бы, найдена локация русов. Но проверим это утверждение с зр. археологии и нумизматики.
В археологическом плане этот регион «раскопан» прилично. На Северском Донце городища: Дмитриевское, Крапивенское, Волчанское, Графское, Верхне-Салтовское, Старо-Салтовское, Хотомельское (Кодковское), Мартовское (Гумнинья), Кочетковское, Кабаново, Мохначево, Коропово, Гомольшанское (Сухая Гомольша), Огурцово, Хотомлянское, Мартовское, Пристень, Кицевское, Вербовское, Райгородское, Осиянская Гора, Царино (Маяки), Сидоровское, Татьяновское, Святогорское, Теплинское, Кировское, Новоселовское). Восточнее Сев. Донца на реке Оскол городища (движение вниз по реке): Ездочное, Новооскольское, Песчанское, Афоньевское, Столбищенское, Ютановское, Пятницкое, Поминовское, Кузнецовское, Подгоровское, Подлысенское. На Тихой Сосне – Маяцкое, Верхне-Ольшанское, Красное, Алексеевское, Колтуновское, Муховское (Мухоудеровское), Острогожское, Павловское (пос. Павловский). По Дону: Борщево, Архангельское (Нежегольское), Костомарово, Карабут. Так что по данным археологов – достаточно развитый в экономическом отношении регион.
Относительно нумизматики – большого объема византийских монет того времени здесь не найдено. С Верхним Доном связаны два отдельных местонахождения. Они включают в себя не более четырех экземпляров, имеющих неясную атрибуцию (Тульская область, до 1822 г.; Елецкий район, до 1954 г.) [151]. Следует отметить, что в верховьях соседнего Окского бассейна прослеживается клад и два отдельных местонахождения византийских монет (Белёв, до 1807 г.; Серповое, 1892 г.; Серповое, 1896 г.). На Среднем Дону был найден клад византийских монет VII-XII вв., точный состав которого пока не известен (Ростовская область, XIX в.), и на реке Хопёр обнаружена одна медная монета в 40 нуммий (село Пады, до 1962 г.). В могильниках левобережья Нижнего Дона известны семь случаев обнаружения отдельных находок византийских монет, общее количество которых доходит до 12 экземпляров (Большая Орловка, до 1988 г.; Романовская, 1884 г.; Романовская, до 1988 г.; Саловский могильник, 1981 г.; Потайной могильник, до 1981 г.; Соколовская балка, до 1988 г.; Дорофеевский могильник, до 1988 г.). Клад византийских монет был обнаружен в устье Дона в станице Елизаветовская в 1901 г. Одна византийская монета Нижнего Дона (станица Пятиизбянская, до 1893 г.) тяготеет к месту древнего Волго-Донского волока и группе концентрации отдельных находок византийских монет, где фиксируется не менее 10 случаев их обнаружения (Водянское городище, до 1915 г.; Водянское городище, 1915 г.; Водянское городище, до 1916 г.; Водянское городище, до 1923 г.; Александровка, до 1903 г.; Рахинка, 1907 г.; Городище, 1892 г.; Красноармейский район, 1906 г.; Палласовский район, около 1915 г.; Денежный остров, 1926 г.). Еще один клад медных византийских монет происходит из пригорода Волгограда (Волго-Донская железная дорога, до 1926 г.). Найдены византийские монеты на месте Левобережного Цимлянского городища. В 1883 г. во время раскопок В.И. Сизова здесь были обнаружены монета и клад, точный состав которого не установлен. В 1887 г. раскопки Н.И. Веселовского – еще два экземпляра византийских монет с Левобережного Цимлянского городища. Одна монета была найдена в 1894 г. В период проведения раскопок накануне затопления водами Цимлянского водохранилища за три полевых сезона 1949-1951 гг. экспедицией М.И. Артамонова были найдены отдельно друг от друга в разных слоях 43 византийские (медные и серебряные) монеты: от Василия I Македонянина, 867-886 гг. до Роман IV, 1067-1071 гг.
Т.е. клады есть, но значительно больше арабских дирхемов, что и понятно. Восток здесь ближе, чем Византия. Тем не менее, все это уже свидетельствует и о наличии товаров, и о наличии купцов, и о наличии надежных торговый связей в отличие от других, ранее рассмотренных областей.
Относительно христианства. Прежде всего, христианство распространялось среди аланского населения еще в VII-VIII вв. Об этом есть письменные источники Епифания Монаха (писатель VIII-IX вв.) и сообщение Анастасия Апокрисиария (прожившего на Кавказе с 862 по 866 гг.). Значит аланы-переселенцы уже были знакомы с христианством. Археолог А.А. Спицын [193] рассматривал наземное Маяцкое городище вместе с его подземными святынями (Большими и Малыми Дивами), как «монастырёк – погост», обслуживавший в качестве погребального христианского центра значительную округу. Много вещевых находок обнаружено в культурном слое при Святогорском подземном монастыре. Таким же «монастырьком» располагало Холковское городище, статус обители которого подтверждается погребениями на его территории. Непосредственно после середины IX в., в связи с миссией Константина Философа, количество подземных обителей Подонья увеличивается. Что известно достоверно о миссии: а) в конце 860 или в начале 861 года император Михаил III отправил Константина Философа в Хазарию с важным дипломатическим поручением. По дороге в Хазарию Константин прибыл в Крым и посетил Херсонес; б) в Херсонесе Константин Философ провел какое-то время и открыл мощи св. Климентия; в) затем Константин Философ «направился в Хазарию к Меотскому озеру и к Каспийским воротам Кавказских гор». Этими сообщениями, в сущности, исчерпываются географические вехи путешествия Константина Философа. Далее в разных источниках следуют различные реконструкции. Тем не менее представляется интересной т. зр РПЦ [236]: «В рассматриваемой теме немаловажную роль играет вопрос о месте локализации Руси, совершившей поход 860 года. В житии святого Кирилла (Константина Философа) отмечается, что он с братом крестил язычников … Совершенно очевидно, что от святого Кирилла крестились тогда не хазарские, а какие-то другие племена, … которые до этого долгое время пребывали в тесном военно-политическом союзе с Хазарией и только по ошибке, по старой памяти были названы позднейшими авторами жития святого Кирилла «хазарами». … Византия, по старой традиции, могла рассматривать русов как подданных хазарского кагана, т.е. «рабов». Поэтому не удивительно, что после их набега в 860 году на Константинополь греки не только продолжают считать их «хазарами», но и направляют посольство к хазарскому кагану, где выясняют политический статус «неведомой» им Руси. Лишь после того, как в Итиле была подтверждена информация, что Русь не является данником Хазарии, греческая дипломатическая миссия могла начать переговоры с языческим князем (каганом) русов, что и нашло свое частичное отображение в агиографических сказаниях о святом Кирилле (Константине Философе).»
Относительно предположения Д.Т. Березовца о русах «на побережье Азовского моря». Археолог С.А. Плетнева пишет, что в Приазовье (северный берег), «начиная от устья речки Самбек до Кальмиуса, вдоль берега обнаружены остатки обширных поселений. Их размеры – до 1,5 км длиной и 200-300 м шириной. … находок керамики было вполне достаточно для того, чтобы уверенно датировать поселения в основном IX в. Всюду на этих поселениях преобладающим материалом являются обломки тарной посуды, преимущественно амфор (75%), а также лепных горшков и горшков, изготовленных на круге из глины с примесью морского песка (смешанного с мелкими ракушками) и орнаментированных сплошным линейным орнаментом. … На поселении у с. Натальевка удалось заметить пятна развалов каменных построек, возможно каменных цоколей глинобитных или даже турлучных домиков. Расстояния от одного до другого развала от 50 до 170 м; это были, видимо, беспорядочно разбросанные по всей площади домики и окружающие их широкие дворы. Таков этот район Приазовья, исследование которого только начато.» Западнее, вдоль берега Азовского моря, тянутся аналогичные большие поселения. Есть они и на берегах, впадающих в залив и в море речек и рек. Это подтверждается разведками по Миусу, где попадались сравнительно небольшие поселения. «Исследования в этом районе еще впереди.» В отличие от северного берега, «для южного берега Таганрогского залива и впадающих в него небольших рек (Ей, Куго-Еи, Сосыки) наиболее характерным типом памятников являлись т.н. обитаемые полосы. Керамика представлена в основном обломками амфор (70%) и лепных горшков (20%). Кухонных гончарных и столовых лощеных сосудов – очень мало. Основная масса амфорного материала датируется концом VIII-X вв., но попадаются среди них и более ранние. Можно заключить, что все амфоры привозные, очевидно из Тамани и Крыма, хотя какая-то часть могла попасть сюда и из более далеких византийских провинций. Южнее Таганрогского залива берег Азовского моря сильно заболочен. Ширина заболоченности очень значительна: от 15 до 50 км. Раскопки на памятниках Приазовского варианта продолжаются.» Т. о., утверждать о достоверных поселениях русов в IX в на северном побережье Азовского моря пока проблематично.
Вот теперь можно с большей уверенностью утверждать, что первичная локация Руси была именно в междуречье Дона и Донца. И эта Русь не была в этническом плане славянской.
Ряд историков считает, что упоминание Руси видится в одной из дарственных грамот Альтайхскому монастырю короля Людовика II Немецкого от 16 июня 863 г. Где-то в Энском лесу между Дунаем и слиянием рек Урль и Иббс (Верхняя Австрия) упоминается некая Ruzaramarcha. Она подтверждает земельные пожалования, сделанные Карлом Великим Альтайхскому монастырю в Баварии. Согласно одним исследователям (О.И. Прицак и А.В. Назаренко), слово Ruzaramarcha состоит из двух частей – Ruzara и marcha (марка). По О.И. Прицаку [164], Ruzaramarcha относится к кельтско-фризскому прототипу и обозначает марка Руцов (Ruzarii – руцарии). По А.В. Назаренко [132], первая часть слова представляет собой Ruzari – древнее верхнегерманское слово «русь» и название означает Русская марка. Автор трактует Ruzaramarcha, как колонию купцов из «Киевской» Руси, вот только в это время нет еще ни княжества, ни Киева. Более того, после IX в. это слово исчезает из хроник. Другую т. зр. излагает Виноградов А.Е. [27]. По его мнению: «следы происхождения слова Ruzaramarcha могут вести на Апеннины. … ничто не мешало топониму Ruzaramarcha образоваться именно по итальянской модели, т.е. он был записан немецкими монахами, возможно, с уст итальянских купцов, для которых Ruza – это место на реке, где судно закручивало течением, а area – его окрестности.» Такова неоднозначность в трактовке формы Ruzaramarcha, поэтому данный вопрос остается открытым.
Упоминание Руси есть в «Баварском географе». Он представляет собой описание городов и областей к северу от Дуная, т.е. список народов и племён, преимущественно славянского происхождения, населявших в 1-й половине IX столетия территории восточнее Франкского государства. В нем упоминаются … Caziri, Ruzzi, … Согласно О.И. Прицаку [164], это слово фонетически должно звучать как руцци, но вероятной локации не предлагает. О.Н. Трубачев [207] отмечал “феномен архаичной древнерусской гидронимии на Дону, в верхних двух третях его течения, как бы на подступах к Приазовью, бросается в глаза даже при первом взгляде. … Есть вероятие, что именно здесь начал шириться этноним Рус, Русь, почему говорят о Донской Руси. … Возьмем тот факт, что в достаточно своеобразном «Описании городов по северному берегу Дуная» четко названы Ruzzi, … в недвусмысленном контексте, по соседству с хазарами (Caziri), что как бы возвращает нас в Приазовье и Подонье.»
Первым, достоверным, сообщением о русах в IX в., является сообщение Ибн Хордадбеха [214], датируемое двумя изданиями: 1) 232 г. х. (846-847 гг.) и 2) 272 г. х. (885- 886 гг.). «Если говорить о купцах ар-Рус, то это одна из разновидностей (джинс) славян. Они доставляют заячьи шкурки, шкурки черных лисиц и мечи из самых отдаленных [окраин страны] славян к Румийскому морю. Владетель (сахиб) ар-Рума взимает с них десятину (ушр). Если они отправляются по […] – реке славян, то проезжают мимо Хамлиджа, города хазар. Их владетель (сахиб) также взимает с них десятину. Затем они отправляются по морю Джурджан и высаживаются на любом берегу. Окружность этого моря 500 ф. Иногда они везут свои товары от Джурджана до Багдада на верблюдах. Переводчиками [для] них являются славянские слуги-евнухи (хадам). Они утверждают, что они христиане и платят подушную подать (джизью).» Название реки в оригинале испорчено, поэтому не будем строить догадки. Под Румийским морем Хордадбех понимал Средиземное море. Пошлину платили, проходя проливы. Река славян – Волга; город Хамлидж – город в низовьях Волги. Что позволяет сделать вывод, что упоминаемые Хордадбехом русы жили возле крупной (ых) реки (рек), имеющих выход в Волгу и моря (Черное и Азовское). Поскольку в то время невозможно было преодолеть Днепровские пороги, то из самых отдаленных (частей) страны Славян русы шли к морю в IX веке по Дону или Северскому Донцу (который выходит в Дон). Именно по Нижнему Дону можно выйти в Азовское и далее в Черное море или по переволоке Дон-Волга – на Каспий.
Что интересного во фразе Хордадбеха? «Владетель (сахиб) ар-Рума взимает с них десятину (ушр).» Византийцы еще до нападения контактировали с купцами-русами. Взимая пошлину в 1\10 от стоимости товара, “таможенники” Византии все поступления пошлин фиксировали: от кого и сколько. Значит до похода 860 г. византийская таможня русов не фиксировала или они могли быть зафиксированы под другим именем (м.б. под хазарами).
Отдельно необходимо остановиться на товарах купцов-русов. Если с мехами в лесной зоне не проблема, то больше дискуссий развернулось вокруг мечей. Сразу отметим, что возможность торговать мечами свидетельствует о достаточном их количестве как товаров! Кто-то убежден, что это франкские (каролингские) мечи, привозимые скандинавами. Кто-то, ссылаясь на Ибн Русте (ум. в 912 г.), пишет о «сулеймановых» мечах русов.
Каролингскими мечи назвали уже в наше время, в честь династии Каролингов, правителей франкского королевства, которое было основным центром производства мечей в Западной Европе. Кроме франков, мечи производились еще в Норвегии, на северо-западе Германии и юге Скандинавии, в англосаксонской Англия, в Дании.
Относительно «сулеймановых» мечей, отметим, что фразу Ибн Русте «мечи у них сулеймановы», Д.А. Хвольсон перевел ошибочно – "мечи у них Соломоновы" [6]. Аль-Кинди (801 – 873 гг.) в трактате «О различных видах мечей и железе хороших клинков и местностях, по которым они называются» в переводе Хаммера (Journ. Asiat. 1854, р. 75) также говорит об этих мечах, но как о мечах "Selman" (австрийский перевод; во французском переводе – "Seilan"). "Selman"– тюркское слово, означающее "совершенный, надёжный, дружественный, благополучный". "Seilan" – тоже тюркское слово, но употребляемое, когда нужно подчеркнуть изящность и стройность. Ал-Кинди делит мечи изготовленные «из мягкого и твёрдого железа» на два класса – «франкские (ал-фаранджийа) и сулайманийские (ас-сулайманийа)». Согласно аль-Кинди, сулеймановы мечи по своему внешнему виду отличаются от франкских мечей и близки им лишь по качеству металла.
Считается, что колюще-рубящее оружие на территорию Древней Руси могло поступать только из Западной Европы. Но так ли это однозначно? Например, в салтово-маяцких погребениях находят много вооружения. При этом оппоненты говорят, что там только сабли. Прежде всего, все колюще рубящее оружие типа меч, сабля, палаш арабы называли одним и тем же словом «sаif/sayf». Согласно [187]: «Хотя салтовские клинки и именуются саблями, этот термин не совсем точен. Это следует из того, что кривизна клинков очень слаба и лишь в некоторых случаях достигает кривизны слабо выгнутых сабель. Салтовская сабля – это, скорее, термин, под которым подразумевается особый вид клинков, сочетающий в себе признаки палаша и сабли. … В целом же эволюция клинкового оружия кочевников прослеживается достаточно четко. От прямых палашей кочевники постепенно переходят сначала к слабоизогнутым клинкам, а после и вовсе к саблям с ярко выраженной кривизной клинка, хотя и в позднее время использовались слабоизогнутые клинки.» Согласно [11]: «Следует учесть также, археологам известны и переходные формы европейского клинкового оружия условно называемые «однолезвийный меч-палаш», «кривой меч», «меч-сабля». И все эти формы, в виде отдельных экземпляров, обнаружены на территории салтовской культуры. … В Белгородской области сосредоточено 40% разведанных в России запасов железной руды, амежду городами Старый Оскол и Губкин находится крупнейший в стране металлургический комбинат и крупнейший в мире карьер по ее добыче. … чуть, южнее, в пределах все той же Белгородской области, на правом берегу реки Оскол, археологами раскопано так называемое Ютановское городище, на котором в первой половине IX века: «располагался крупнейший для того времени в Восточной Европе металлургический центр салтово-маяцкой культуры, основу которого составляли чернометаллургические технические установки, не только не имеющие себе равных, но и позволяющих рассматривать салтовское металлургическое производство как особую отрасль хозяйства – ремесло, дифференциация которого проходила в зависимости от вида исходного продукта». … Исследователи делят клинки салтовских оружейников на две группы – «первоклассные изделия с закаленными лезвиями» и высоким содержанием углерода (0.8-0.9%) и изделия «с рабочим краем, который был мягок и быстро тупился».»
Т. о., всем источникам – письменным и археологическим – локации первичной Руси соответствует территория междуречья Верхнего и Среднего Дона и Донца.
Отметим, что Ал-Якуби, живший в IX в. [250], освещая нападение на Испанскую Севилью в 843–844 гг., указывает на русов. Но комментарий А.Я. Гаркави [31], говорит о том, что слова «которых называют Рус» принадлежат не самому Якуби, а переписчику. «Из большого числа арабских писателей, описывавших нашествие Маджус на Испанию в 844 году, как например Аль-Бекри, Абуль-Феда, Нувайри, Маккари и многие другие, никто даже не намекает о русском их происхождении, что при преемственности арабских писателей, особенно у древнейших, было бы более чем странно, если б Якуби утверждал подобное…». Значит, русы не были и тогда широко известны в арабской географической литературе. Т. о., данный факт у Якуби не имеет отношения к русам. Дополнительно приведем цитату Т.М. Калининой из [70]: «на западе исламского мира норманны были известны под именами ал-маджус и ал-урдуманийа, название же ар-рус там не применялось.»
Т. о., можно зафиксировать, что в IX в., согласно синхронным письменным источникам и данным археологии первичная Русь располагалась на территории СМК (в междуречье верхнего и среднего Дона и Донца), а сами русы в то время были смешанным с аланами этносом. О других русах и их локациях письменные источники того времени информации не содержат.
Теперь вернемся к социониму «русь» на северо-западе. Какую цель преследовал этот соционим? Полагаю, что контроль международных торговых путей. Все международные торговые пути связывали Западную и Северную Европу с Ближним Востоком. Через территорию Древней Руси в то время (IX – «сухой» век) проходили Волго-Донской и Волго-Балтийский пути. Ответвлениями на этих путях были долины рек – притоков Дона, Волги и Волхова. Все участки торговых путей маркируются находками монет, которые являются предметом изучения нумизматики. Относительно Донского пути ничего не понятного в принципе нет. Переход из Дона в Волгу охраняли ставленики хазарского каганата. Значит пошлину брал каганат. Переход в Каспий – тоже. На стыке Черного и Азовского морей пошлина в Керчи вновь шла каганату. Очевидно, что социониму «русь» оставались только те участки, на которых власть хазар не распространялась. Согласно [40]: «Наиболее важным из них, несомненно, был Донской путь. В междуречье Дона и Оки наблюдается разделение этого пути по двум направлениям: на север, в устье р. Москвы, и на запад, с выходом на верховья р. Десны. … Многовариантность перехода из верховьев Дона на Упу и далее на Оку исключала возможность возникновения единого центра контроля этого участка пути. На отдельных его отрезках, прежде всего – на волоках, в начале IX в. возникли открытые поселения (Уткино, Торхово, Слободка). Однако их функцией было лишь обслуживание прохождения торговых караванов. Для контроля над всем узлом было создано поселение на городище Супруты. … Мобильная дружина, расположенная в центре перевалочного узла из Дона в Оку, могла эффективно контролировать все его участки.»
Волго-Балтийский путь состоял из самостоятельных участков, обслуживание которых осуществлялось местным населением. Так, например, Ладожский путь: Ладога – Городище (Рюриково) – Вышний Волочок – Торжок – Тверь. Далее шел Волжский отрезок (Волго-Клязьминское междуречье – ВКМ) до Булгара: от Твери по Волге на Углич – Ярославль – Кострому – Нижний Новгород -Булгар; от Углича также шли по дорогам на Сарское городище (оз. Неро) – Тимерёвское поселение – Ярославль. Были еще Двинский путь – Западная Двина с притоками; Днепровский путь – Днепр с притоками; Окский путь – Ока с притоками. Учитывая климатическую ситуацию того времени (самый сухой период и снижение уровня вод на 3-4 м) основным маршрутом был сухопутный (вдоль русла рек). Данная т. зр. подтверждается в [60], в частности, относительно пути Дон – Ока – Волга – Тверца – Мста с дальнейшим продолжением в Финский залив. «Передвижение по нему шло действительно не по воде, а сушей. То ли по льду рек, то ли их поймой. … шли там, где нужно было перетаскиваться из реки в реку не один раз. Даже из Окского междуречья в Волгу попадали не прямо по Оке, а через кучу речек, идущих на север. … То есть расстояние оказывалось явно важнее. А это говорит за сухопутный вариант.» О движении зимой сообщали арабские авторы. Причина в том, что в районе между Верхней Волгой и Окой снег держится в среднем 140 дней в году. Поздняя осень и ранняя зима являются тем временем года, когда мех пушных зверей самый густой и высококачественный.
Нумизматические исследования [118-Леонтьев, Носов; 147-Петров И.В.; 148-Петров И.В.; 186-Седых В.Н. Клады:] показали, что на всей территории Древней Руси практически не наблюдается находок в 850-е, 880-е и 890-е годы. В то же время есть десятилетия, в которые объемы сокрытий на торговых путях превышают 1000 монет (860-е – Двинский и ВКМ; 870-е – Ладожский, Двинский и Окский). При этом в годы больших сокрытий не упоминается сама Ладога, а максимальное сокрытие в регионе – д. Любынь (Шимский р-н, Новгородской), 873/74 г. (2361 экз.). Видимо, для Ладоги это следствие пожара около 865 г. В этот же период археологи отмечают пожары в Любше (позже крепость исчезла), во Пскове (псковское поселение рыугетской культуры) и Изборске.
Как объясняются учеными «выбросы» сокрытий?
Британский историк Питер Сойер [191] писал, что ««наличие тайников является признаком нестабильности, а не благополучия.» В.Н. Седых [186] также сторонник этой т. зр. В военных действиях видят причину невостребованости кладов в 860-е и 870-е годы В.А. Булкин и Д.А. Мачинский [21]. Т. о., клады с огромным количеством монет – это накопительные клады, зарытые в условиях опасности. Значит в 860-е и 870-е годы ситуация на северо-западе была нестабильной. А это как раз те годы, когда на северо-западе уже «княжит» летописный Рюрик и соционим «русь». Значит в какой-то момент перестал действовать летописный «ряд» и появилось «право сильного».
Почему же не было кладов в 880 и 890 гг.? Относительно 880-890-х годов П. Сойер [191] считал, что это объясняется тем, «что в конце IX столетия они были изъяты из обращения путем экспорта.» Под импортерами он подразумевал Скандинавию и Британские острова «разумеется, не на землях английской короны.» Историк Н.А. Хан [211; 212; 213] также констатирует поступление «монет последнего десятилетия 9 в. в большом числе» не только в Северную, но и в Центральную Европу. Но нет ни письменных, ни археологических свидетельств о столь широкой торговле северо-запада с Византией. Видимо, причина здесь в другом.
Поскольку поток серебра в Западную и Северную Европу не прекратился, а кладов в Руси нет, то возможны, на мой взгляд, два варианта: первый – устранение из процесса торговли местных купцов и монополия на торговлю представителями северной Европы; второй – стабильность ситуации на территории Древней Руси. Попытка обосновать первый вариант предпринята в [242]. Авторы посчитали количество населенных пунктов, в которых найден хотя бы один артефакт, относимый к скандинавским. Насчитали всего 22. И это при том, что даже находки гребней отнесли не в предметам торговли, а факту присутствия скандинавов. Следует отметить, что по классификации О.И. Давидан (на которую ссылаются авторы) гребни первой группы имеют очень широкую датировку: вторая половина IX – середина Х вв. Такая датировка позволяет отнести находки гребней и к Х веку. Поэтому для аргументации требуется анализ стратиграфического слоя, в котором найден артефакт. Но не ко всем находкам такой комментарий у авторов имеется. Многоцветная пронизка «привязана» к стратиграфическому слою Ладоги, а не к той местности и слою, где была найдена. Более того, фраза авторов «часть других местных скандинавских артефактов должна датироваться IX веком», свидетельствует о том, что ими высказывается предположение, а в итоге – выносится как утверждение. Относительно ланцетовидных стрел общепринятого решения до сих пор нет. Одни исследователи считают, что они связаны с североевропейской культурой, с памятниками Скандинавии и Прибалтики. Другие учёные полагают, что ланцетовидные стрелы характерны для кочевников Поволжья и были широко распространены. При такой ситуации находки должны исключаться из вопроса этнического определения. Т. о., первый вариант – полностью монополизировать торговлю на всей территории от Балтики до Волгит – не проходит.
Остается второй вариант – стабильная ситуация, которая не толкала к сокрытию накоплений. Такая ситуация могла держаться на военном потенциале, рассредоточенном в некоторых центрах. Археолог Ю. Кальмер [71] считал, что постоянное присутствие скандинавов до середины IX в. фиксируется только в Ладоге и Городище в истоке Волхова (Рюриковом). Во второй половине IX в., согласно [71], кроме летописного Рюрика, была еще одна волна пришельцев. Автор отмечает, что социальные структуры местного сообщества и пришельцев были разными и власть быстро перешла из категории «по ряду» в категорию «право сильного». «Наиболее вероятно, что в плане внутренней структуры последствия взятия власти были суровыми для русского общества. Новые правители привели с собой своих сторонников и вассалов, и население Руси увеличилось. Название же их политического владения сохранилось неизменным. … Новой чертой правящей ныне элиты были ее намерения распространить господство Руси на юг.»
В реальности процесс переселения был длительным и не мог быть сразу столь массовым, чтобы одномоментно охватить территории от Балтики до Волги. В противном случае в европейских хрониках остался бы след о столь массовой миграции скандинавов на восток, а его нет. Поэтому переселение шло постепенно (в течение именно 860-х и 870-х годов) и захват территорий тоже был длительный. Только после утверждения на новых местах новой властной структуры ситуация стабилизировалась (те самые 880-е и 890-е годы).
В итоге были сформированы распределенные центры. В северо-западном регионе это известные Ладога и Рюриково городище. В IX в. вокруг этих центров формируется инфраструктура контроля ответвлений торговых путей. Это городища Холопий Городок, Сергов Городок и селище Георгий. В Витебском Подвинье (междуречье Зап. Двины и Днепра) таким центром могло быть поселение Кордон в 40 км юго-восточнее Полоцка [117]. «Артефакты свидетельствуют о постоянном функционировании комплекса в пределах IX–X вв.» Условная линия «скандинаво\ варяжских» артефактов (оружия) к концу IX в. в Белоруссии такова [43]: Мядельский район – Шумилинский район. Зона северо-восточной Беларуси в полной мере отражает ранний этап связи Днепровского и Двинского бассейнов. На волоках между Оршанским Поднепровьем и Витебским Подвиньем зафиксировано шесть кладов IX в. В верхнем Поволжье (Волго-Клязьминское междуречье) такими центрами могли быть – Выжегша – Сарское городище – Угодичи и Тимерёвское поселение. На Окско-Донском водоразделе [167]: городище Супруты и Чертово Городище.
Cогласно [238], вторая волна пришельцев «была менее космополитична в культурном отношении, менее толерантна к местному населению и более военизирована». Можно согласиться с Ю. Кальмером [71], что новая элита имела намерения распространить свое господство на юг.
Подводя итог IX столетию, можно констатировать, что других Русий, кроме т.н. «донской» (но не славянской в этническом плане), не было. Был еще соционим «русь», который двигался с севера на юг с целью полного контроля международных торговых путей на территории Древней Руси.
О Руси в Х веке.
Это столетие характеризуется повышением влажности климата и уровня вод в реках и озерах. Данное явление стимулировало оживление торговых путей, связанных с движением по рекам. Но активизировались не только водные пути, но и сухопутные, в частности «степной коридор». Согласно археологу Д.Л. Талису [197] в начале Х в. от печенегов погибают поселения на западном побережье Крыма, на Тарханкутском полуострове, как и почти все поселения приморского и степного Крыма. Таким же действиям подверглись и жилища на Среднем Дону. Богатые земледельческие поселки не только степной, но и лесостепной зон Подонья подверглись опустошению. Население было частично уничтожено, частично бежало на север, в глухие уголки верховий Оскола, Северского Донца и Дона, защищенные от набегов номадов лесными массивами. Печенеги захватили все Подонье, Кубань и Причерноморье. Археолог С.А. Плетнева [154] отмечает, что печенеги разрушили многие города Таманского полуострова. Они стали фактически единственными хозяевами приднепровских, донецких и донских степей вплоть до Волги. К середине столетия они вместо венгров (мадьяр) займут всю степную зону от Волги до Дуная. «Приход печенегов в Причерноморье датируется промежутком между 897 и 904 гг.» [245].
Где-то на рубеже IX-X вв. соционим «русь», сохраняя движение на юг, вышел в верховья Днепра. Об этом сообщается в трактате императора Константина VII «Об управлении империей» [97], но датируется оно, как установлено [241;237;255], временем Льва VI Мудрого (на престоле 886-912 гг.). «В самых же верховьях реки Днепр обитают росы, через эту реку отплывающие, [когда] к ромеям отправляются;. … В это Меотидское море впадает много больших рек; к северной стороне от него – река Днепр, от которой росы продвигаются и в Черную Булгарию, и в Хазарию, и в Мордию; Пачинакия занимает всю землю [до] Росии, Боспора, Херсона, Сарата, Бурата и тридцати краев.» Следует отметить, что в рукописи стоит Surian (Сирия), а не Мордия (Mordian) – свидетельство вольности переводчиков, основанное только на том, что им «о походах русов в Сирию ничего не известно» (как будто им известны походы того времени русов в Мордию).
Где именно была локация этих росов в трактате не указывается, но Е.А. Мельникова высказала предположение, что это было Гнёздово (в 12 км от Смоленска). Ее аргументами были: а) раз росы обитают «в верховьях», позволительно считать, что оттуда они и стартуют; б) путь на восток лежит не по Днепру, там ясно сказано, что путь в «Вулгарию и Хазарию» лежит от Днепра. Локация Гнёздово идеально подходит.
Относительно Гнёздово. О данном поселении нет информации в хрониках того времени, сведения о его истории можно попытаться получить из археологических изысканий. Однако здесь нас поджидает неожиданность. Еще в начальных изысканиях (в 1949 г.) археолог Д.А. Авдусин считал, что поселение основано в конце VIII – начале IX вв. Однако уже в 2016 г. он [2] отказывается от этого, говоря, что датировка, «высказанная вполне предположительно, которую теперь следует отбросить.» Теперь он придерживается версии о «появления варягов на Верхнем Днепре» в Х веке. Однако сомнения относительно даты основания поселений вновь появились после интервью руководителя отряда Смоленской экспедиции на территории Гнёздовского археологического комплекса В.В. Новикова [75]. Согласно ему, «удалось найти стволы деревьев и, опираясь на естественно-научные методы, очень точно датировать спилы и построить дендрохронологическую шкалу. Очень важным для установления точных датировок оказались обнаруженные в спилах «события Мияке» – феномены земной истории планетарного характера, названные по имени открывшей их японской аспирантки. Нам известно, в какие годы на солнце происходили особенно яркие вспышки: их следы соотносятся с определенным цифровым показателем, говорящим о скачке углерода-14 в древесных кольцах. Причем солнечные вспышки действуют на всю планету, поэтому их следы обнаруживаются и на далеком севере, и в американских секвойях. Так что, если вы находите в спиле дерева этот цифровой показатель, одинаковый в любой точке земного шара, вы получаете точную дату. События Мияке два раза обнаружены в спилах в Гнёздове: речь идет о вспышках, произошедших в 774–775 и 993–994 годах. Таким образом, у нас сместились датировки: раньше считалось, что Гнёздово появилось на рубеже IX–X веков, а теперь – в конце VIII – начале IX века.» Эти датировки свидетельствуют о присутствии здесь какой-то части населения на рубеже VIII-IX вв.
Т. о., росы-русы, пришедшие в Гнёздово, вероятно, на рубеже IX-Х вв., пришли не на пустое, а на обжитое место.
Некоторые исследователи утверждают, что первыми «насельниками» Гнёздово были скандинавы (без уточнения этнической составляющей – датчане, норвежцы, готландцы, шведы?). Отметим лишь, что до 995 г. не существовало такого государства, как Швеция. Было около 28 общностей, возглавляемых ярлами, но не было единого государства. Поэтому применение термина шведы к началу и середине Х века неправомерно. Ряд исследователей считают, что погребений чисто скандинавского типа до середины Х в. со 100%-ой уверенностью выделить в Гнёздово невозможно, т.к. их легко спутать с погребениями балтийских славян. Например, норвежский археолог Анне Стальсберг определила, что четырёхугольные в сечении стержни лодочных заклёпок из Гнёздова ближе к балтийской и славянской традиции, нежели к скандинавской (с круглыми в сечении стержнями заклёпок). Согласно А.Н. Сахарову (Сахаров А.Н. Варяго-Русский вопрос в историографии), «норвежская исследовательница А. Стальсберг полагала, что славянки «могли использовать одну фибулу, поэтому в славянском окружении можно признать скандинавкой женщину, погребенную только с парой фибул». … А. Стальсберг, в 1998 г. обращая внимание на наличие в Гнёздове «удивительно большого числа парных погребений с ладьей» (8 -10 из 11) и указав, что «муж и жена обычно не умирают одновременно», не решилась принять за скандинавок спутниц умерших, т.к. убийство вдовы и ее похорон с мужем скандинавская история вроде бы не знает. … Еще в 1925 г. Е.Н. Клетнова заключила, что исходные корни погребального обряда гнёздовских курганов, «а также аналогии некоторым чертам ритуала, в частности – урнам, следует искать скорее в землях „балтийских славян, нежели в Скандинавии“». Исходя из того, что найденные в Гнёздово инструменты для ювелирных работ являются аналогией ювелирным инструментам из Старой Ладоги и острова Готланд, напрашивается логичный вывод, что среди населения раннего Гнёздово были мастера-готландцы. И не просто были, а жили здесь постоянно. Такую же т. зр. высказывал в 70-х годах ХХ в. археолог Д.А. Авдусин: «сопоставляя это с находимыми в Гнездове подкововидными фибулами, типичными для юго-восточной Прибалтики, и с некоторыми другими привезенными оттуда предметами, можно думать, что гнездовские варяги были скандинавами с балтской примесью, первое поколение которых жило где-то там, может быть на Готланде, бывшем местом смешения племен».
Т. о., раннее поселение Гнёздово (еще до рубежа IX-X вв.) уже было полиэтничным.
Археологи [1] считают, что Гнёздово не только контролировало, но и обслуживало волоки Днепровского участка. Этот центр был связан через Зап. Двину с Балтикой, по Днепру с Черным морем; по Угре с Окой и по ней с Волгой. Широтный торговый путь «Западная Двина – Днепр – Ока – Волга» (г. Булгар на Волге) был основной транспортной артерией в истории Гнездово. Есть все основания принять версию археологов, что центром верхнеднепровских росов было именно Гнёздово, которое в то время могло называться, по Т.Н. Джаксон, Свинеческ, Свинечск или Свиной мыс. На поселении и в погребениях были найдены византийские монеты: Феофила – 5шт; Василия I – 4шт; Василия I, Льва VI и Константина – 1шт; Льва VI – 7шт (вкл. 3 милиарисия); Льва VI и Александра I – 1шт. На первый взгляд, их наличие должно свидетельствовать о связях с Византией еще в IX в. Но, согласно [230], «фоллис чеканки Василия I, Константина и Льва (DOC Class 3a; 870–879 гг.) предположительно попал на памятник уже со второй, более поздней “волной” монет X в. … найденные монеты Феофила могли быть изъяты из обращения в Византии не позднее второй трети IX в. Следовательно, можно говорить о двух отдельных волнах поступления византийских фоллисов на поселение. Следует заметить, что нами исключается возможность использования монет Феофила для датировки комплексов Гнёздова: они могли тезаврироваться уже в X в. параллельно с монетами позднейших выпусков.»
Следовательно, в начале Х в. (как минимум, до его второй четверти) нет оснований говорить об интенсивной торговле между верхнеднепровскими росами-русами и греками. Очевидно, что информацию об этих росах была получена императором через «третьи руки».
Длительную дискуссию, до сих пор не имеющую общепринятого решения в историческом сообществе, вызвал отрывок из хроники Псевдо Симеона. Дискуссия касается отрывка о Рос-Дромитах и связи этого упоминания с походом Олега на Византию в 907 г., о подробностях которого известно исключительно из ПВЛ (и более ни в одной хронике). Сомнения в аутентичности данных о походе Олега первым выразил бельгийский византинист А. Грегуар. А. Макропулос [258] считает, что отрывок должен быть соотнесен с появлением в Византии русско-варяжской дружины киевского князя Владимира, призванной в 988 г. на помощь Василием II. В работе Апостолоса Карпозилоса [78] показано, что «практически один и тот же перечень повторен дважды и к тому же в совершенно различных исторических рамках – один раз для эпохи до Юлия Цезаря, второй раз – для событий 904 г. … Хронист пользовался им каждый раз, когда ему надо было затронуть географическую или топографическую тему. Этим и объясняется то обстоятельство, почему всякий раз, когда заходит речь о народе Рос, он употребляет стереотипно одни и те же фразы. … мы можем, видимо, сделать вывод, что «Рос» Псевдосимеона (707.3) не имеют никакого отношения к предполагаемому походу Олега или к Русско-варяжской дружине … ни одно из названий обоих перечней не содержит указаний на историческин события.»
Со своей стороны заметим, что упомянутый народ Рос (Rhos=Ῥῶς) эпохи Юлия Цезаря, это народ, проживавший на южном малоазийском побережье залива Исс в городах Ῥωσὸς (Rhosos, ныне Арсуз) и Ῥοσκόπους (Rhoscopus). С историей этого народа можно ознакомиться в [145].
Если внимательно смотреть на источник, с которого днепровские монахи переписывали события [217], то в нем нет никакого нападения росов в первом десятилетии Х в. Цитируем: “Книга 10. 86. После Феофила царствовал Михаил (III), сын его (841–867); с Феодорой 4 года (842–855), сам 10 лет, а с Василием один год (И503). 12. О русском нашествии, как они ушли, посрамленные (И511). 88. После Василия царствовал Лев (VI) Мудрый, сын его, 25 лет и 6 месяцев (886–910) (И526). 4. О бывших между болгарами и греками многих сечах (И529). [8]. Как сарацин из Триполи с большим войском много зла причинил христианам, а потом Селунь захватил (904 г.) (И534). 90. После Александра царствовал Константин (VII), племянник Александров, с семилетнего возраста: с матерью 7 лет, с Романом 27 лет, самодержцем – 15 лет, всего же 50 лет (912–959) (И542).[11]. О нашествии Руси. Они приплыли 14 индикта на тысяче кораблей и много зла принесли христианам. А потом, молитвами Святой Богородицы, одни утопли, а другие отошли вспять (И567)”. Выделены сроки правления императоров, т.к. ниже их хронист размещает события, произошедшие при этом императоре. Набег арабов в 904 г – при Льве VI, набег русский в 941 г – при Константине VII с Романом. Никаких походов росов-русов в 907 г!
У историков нет достоверных источников о походе росов-русов ни в 907, ни в 904 годах. Тем не менее в некоторых работах, в частности, [108] продолжаются поиски доказательств реальности похода Олега, несмотря на отсутствие таких сведений в хрониках. Делается попытка обосновать правдоподобность похода, но уже не в 907, а в 904 году. Автор патетически восклицает: «нам остается либо отказать в доверии сообщению ПВЛ, либо сдвинуть дату похода». И что же страшного в том, чтобы отказать в доверии по данному сообщению? Оно не первое и не единственное.
Сомнения в истинности летописного похода и договора к нему давно высказывал ряд ученых. Историк А.А. Шахматов, изучив летописные договора 907, 911 и 944 годов, пришел к выводу, что часть статей договора 911 г. просто перенесли в договор 907 г. Как видим, летописец переносил не только описание других событий. Обнаружено дословное совпадение, как по форме, так и по содержанию ряда статей договоров 907 и 944 годов. Ученый сделал вывод, что договора 907 года не существовало. Но договор – это следствие похода. Значит и летописного похода 907 г. тоже не было! Историк А.Г. Кузьмин [110] писал: «не было еще многих городов, в частности, Переяславля (основан в 993 году). Полоцк, скорее всего, находился под властью другой варяжской династии.»
Вот как комментируется необходимость летописцу договора 907 г. в [11]: «очевидно, что в процессе перевода или внесения текста договора в ПВЛ, он претерпел значительную редактуру, цель которой, изменить содержание договора так, чтобы он имел вид грамоты написанной не просто от имени Руси, но и конкретно, от имени Олега. Для чего это понадобилось переводчикам или летописцам, сказать трудно. Предположения могут быть самые разные: начиная с патриотизма и заканчивая желанием, за счет Олега, заполнить хронологическую лакуну, образовавшуюся между смертью Рюрика и началом правления Игоря и тем самым, протянуть связующую нить между этими двумя разноплановыми и разновременными персонажами русской истории. Очевидно лишь одно, договоры Олега с греками трудно назвать на сто процентов достоверным источникам, подтверждающими факты его биографии.» Т.е. видим одну цель летописца – создание одной династии на всей территории, известной летописцу.
Вывод: летописный поход 904\907 г. и договор к нему – вымысел летописца. Поэтому данное сообщение относим к разряду недостоверных. Ни одна хроника того времени не имеет сообщений о каких-либо нападениях Руси на Византию до 40-х годов X века.
Но поскольку летописи связывают Олега с Киевом, посмотрим на киевские предместья в начале Х века. Обратимся к данным археологов. Украинский археолог А.В. Комар [65] пишет, что «позже, в первой половине Х в., реальная военная угроза Киеву больше не повторялась». Данная фраза может означать, что в начале века некая угроза все же была. Вероятность ее события можно оценить с помощью данных нумизматики по кладам в X в. Действительно, первый клад куфических монет был обнаружен в Киеве (близ Пустынно-Никольского монастыря – Печерский р-н) с младшей монетой – 905-906 г. Второй датируется – 906-907 г. Нумизматы [211; 212; 213] отмечают хорошую сохранность монет, свидетельствующую о кратковременности их использования, считают, что «составы киевских кладов выпали практически одновременно». Важно отметить, что оба клада имеют совпадения не только по количеству и хронологии монет, но и одинаковые условия сокрытия: в сосудах, залитых воском. Т.е. это не спешка в условиях серъезной опасности, а спокойная работа по «консервации». Тогда сокрытие могло состояться в 909-910 гг.Основываясь на этих данных можно полагать, что некая угроза киевским предместьям была на рубеже первого и второго десятилетий Х в. Очевидно, что продолжилось движение на юг соционима «русь». Но еще из киевских предместий нет выхода к Черному морю. Более того, несмотря на повышение влажности климата и уровня вод, сама возможность движения по Днепру появилась не сразу, в основном в периоды весеннего паводка – с марта по май, которые приводили к наводнениям. Согласно данным стратиграфии [90;89] «по геологической шкале, низкая водность реки [Днепр] наблюдалась в период 881–912 гг.». Это еще раз свидетельствует о возможности движения по Днепру в тот период только во время весенних разливов (март-май). Но впереди еще пороги и печенеги.
Именно в период низкой водности реки Днепр был подписан договор между Византией и русскими – договор 911 г. На мой взгляд, это договор с «донской» Русью. Историк А.А. Шахматов [227] писал: «перед нами в славянских переводах оказывается в большинстве случаев не первоначальный текст договоров, а текст видоизмененный, переделанный». Русский историк права, тайный советник, заслуженный профессор и ректор Императорского Санкт-Петербургского университета В.И. Сергеевич [188] обратил внимание на русско-византийские договоры с т зр. юриспруденции. Согласно его выводу, текст договора «не полон и в некоторой степени, подпорчен». Большинство статей договора были составлены в соответствии с византийским и римским правом и касались лишь взаимоотношения греков и русов на территории Византии. По мнению В.И. Сергеевича инициаторами заключения договора 911 года были греки [188,с.103]. В [173] говорится, что именно купцы из той Руси “создали для страны проблему, решение которой нельзя было откладывать. «"Ходящие в греки" с каждым своим появлением ожесточали жителей города и окрестностей, где они вели себя особенно дерзко. «Ходящие в греки» стали проявлять случаи самоуправства. Это стало серьезной проблемой и заставило последнюю [Византию] сделать трудный шаг – пригласить к себе в дом врага, чтобы вместе решить ее средствами договора. На их обуздание и были направлены основные нормы Договора 911 г.» Т. о., данный договор не преследовал никаких целей типа прекращения войны и установления мира. Он имел чисто гражданско-правовой характер по отношению к тем, кто «не умел вести себя прилично в чужом доме». А заключение договора свидетельствует о неоднократности таких посещений Константинополя.
Договором допускалась возможность найма русов на военную службу в Византии. Известен факт, что в 911-912 г. в составе византийского отряда из 177 судов в походе на Крит было 700 русов. В договоре есть разрешение русским воинам после выполнения ими своих обязательств служить в императорской армии.
Относительно «морской» статьи в договоре следует отметить, что она предполагала обоюдную помощь в море в случае бедствия судна, его возвращению, а также проводке его через опасные места. Но такой возможности в период низкой водности реки Днепр у Киева не было, а значит данное условие для Киева в то время было невыполнимым.
Поскольку с русской стороны подписантами указаны все князья, перечисленные в договоре, то историк Л.В. Черепнин [223] сделал вывод, что эта Русь представляет собой обширную «политическую ассоциацию», затрудняясь очертить ее пределы. А.Н. Сахаров [180] считает, что «светлые князья
